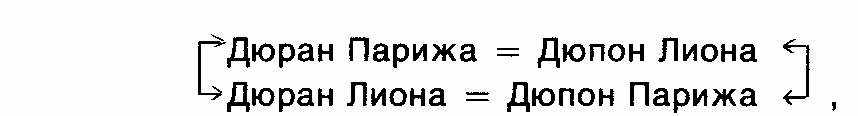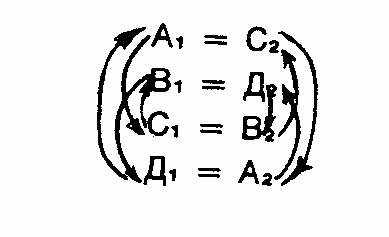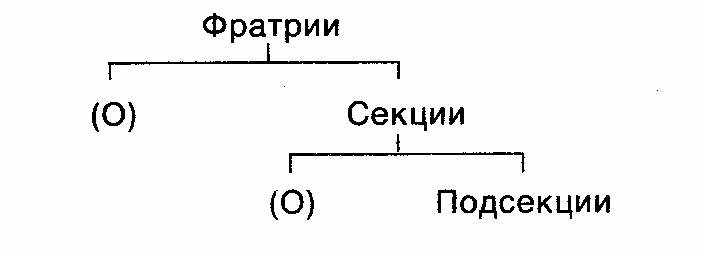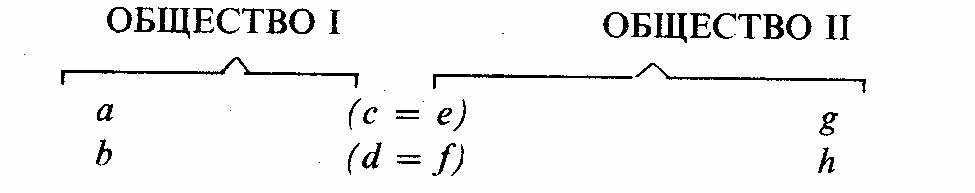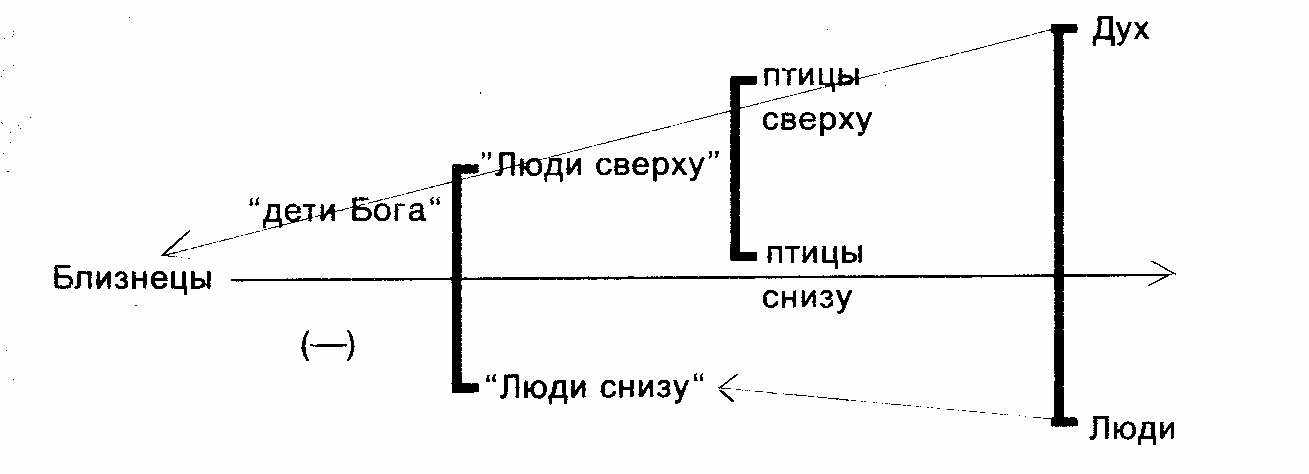Леви-Строс КлодПервобытное мышлениеА. Б. Островский. ЭТНОЛОГИЧЕСКИЙ СТРУКТУРАЛИЗМ КЛОДА ЛЕВИ-СТРОСА
ОТНОШЕНИЯ СИММЕТРИИ МЕЖДУ РИТУАЛАМИ И МИФАМИ СОСЕДНИХ НАРОДОВ
ЭТНОЛОГИЧЕСКИЙ СТРУКТУРАЛИЗМ КЛОДА ЛЕВИ-СТРОСА Русский читатель уже имел возможность познакомиться с творчеством Клода Леви-Строса — французского академика, создателя школы этнологического структурализма, одного из наиболее оригинальных мыслителей-культурологов XX в. Специалистами в области фольклора в наибольшей мере освоены труды ученого, касающиеся его метода анализа мифов*. Немало написано и философских диссертаций, где — сообразно господствовавшему у нас до недавнего времени догматическому превознесению философии над "частными" науками о человеке — механистически производилось разъятие и противопоставление творчества Леви-Строса как этнолога и как философа культуры и методолога.
Широкому читателю известны такие важные работы Леви-Строса, как "Структурная антропология" (вышла в свет в 1958 г., русский перевод осуществлен в 1983 г.), "Печальные тропики" (опубликована в 1955 г., сокращенный русский перевод издан в 1984 г.) и статьи разных лет по анализу мифов, включенные в сборник "Зарубежные исследования по семиотике фольклора" (1985). К сожалению, до настоящего времени в отечественной науке почти не востребованным остается творчество Леви-Строса 60—70-х гг. — периода наибольшего расцвета, когда появляются такие крупные жемчужины, как "Неприрученная мысль" ("Lapensee sauvage". P., 1962) и четырехтомное исследование мифов и мышления на материале культуры индейцев Северной и Южной Америки— "Мифологики" ("Mythologiques", t. I—4. P., 1964 — -1971). То же можно сказать и о последующих работах, связанных по материалу и предмету изучения с упомянутым четырехтомным циклом: "Путь масок" ("La voie des masques, t. I-—2. Geneve, 1975), "Ревнивая горшечница" ("La potierejalouse". P., 1985) и "История рыси" ("L'histoire de lynx". P., 1991). Практически не знаком российской аудитории и Леви-Строс — культуролог, автор "Структурной антропологии-два" ("Anthropol gie structurale deux". P., 1973) и "Взгляда издалека" ("Le regard eloigne". P., 1983). Такая ситуация тем более огорчительна, что переводы работ Леви-Строса на запад н оевропейские языки (в первую очередь на английский) осуществлялись уже через два-три года после их публикации. Обширным оказался исследовательский резонанс на его творчество в Европе и США: в специальном библиографическом указателе, вышедшем в 1976 г .*, учитывающем как анализ методологии, так и осмысление достижений ученого по отдельным аспектам (с охватом литературы на шести европейских языках — французском, английском, немецком, итальянском, испанском и португальском), представлено 1384 наименования, в том числе 43 монографических исследования и сборников статей.
Пик увлечения этнологическим структурализмом приходится на 60—70-е гг. В настоящее время это увлечение прошло, и наступил этап кристаллизации интереса серьезных ученых-гуманитариев к Леви-Стросу — мыслителю и методологу, вычленились те из его концепций, которые имеют непреходящую ценность для развития культурологии и философии культуры. Его основополагающие установки по вопросам диалога культур, нашедшие свое воплощение в статье "Раса и история" ("Race et Histoire". P., 1952), уже в течение сорока лет входят в учебные программы французских лицеев. Профессиональная карьера ученого, увенчавшаяся таким широким и повсеместным признанием, не была, однако, гладкой и безоблачной, Становление и профессиональное развитие Леви-Строса в огромной степени обусловлено историческими судьбами Европы. Клод Леви-Строс родился в 1908 г. в Брюсселе в семье французского художника еврейского происхождения. В годы первой мировой войны он жил в Версале, в семье деда по материнской линии, раввина. Ситуация в семье деда не была однозначной: хотя нормы еврейской религиозной жизни скрупулезно соблюдались, бабушка будущею этнолога, как он сам вспоминает в одном из интервью, была свободомыслящей и в этом же духе воспитала своих детей. Родители Леви-Строса сочетали уважительное отношение к национальным религиозным традициям с широкими светскими интересами, увлеченностью искусством, музыкой. Первым мировоззренческим интересом будущего академика стал социализм, причем как в теоретическом, так и в практическом выражении, вопреки стилю жизни семьи и деда, и родителей, где было принято воздерживаться от участия в политике. Читая в возрасте 16 лет работы К. Маркса, Леви-Строс открыл для себя немецкую классическую философию — Канта и Гегеля. Первым исследованием стала его диссертационная работа (после изучения философии в Сорбонне) по анализу философских предпосылок концепции исторического материализма. Если о курсах древнегреческой философии, истории науки и др. ученый говорил в интервью по случаю своего восьмидесятилетия: "Я прошел через все это скорее как зомби, с чувством, что я вне всего" *, — то интерес к политической мысли был глубоким и сочетался в студенческие годы с активной деятельностью во французской социалистической партии. На кантональных выборах 1932 г. он был выдвинут кандидатом от этой партии. Только случайность — автомобильная катастрофа — помешала тогда состояться политической карьере Леви-Строса. В дальнейшем он отошел от политической деятельности, хотя интерес к политике, и тем более к работам Маркса как к эвристическому Источнику социологической мысли, сохранялся довольно долго.
Не тривиальным оказался и поворот, в начале профессионального пути, к антропологии — изучению традиций бесписьменных обществ. После выпускных, а затем кандидатских экзаменов в Сорбонне — служба в армии, позднее — преподавание в течение нескольких лет в лицее. И ему, и его жене пришлось преподавать не в Париже, а в других городах, причем ему в одних, а ей—в других, так что молодожены лишь пару дней в неделю были вместе, встречаясь у родителей Клода в Париже. Поездка в 1935 г. молодой семьи в Бразилию (осмысляемая в "Печальных тропиках" как пробуждение этнографического призвания) не была еще профессиональной экспедицией антрополога; она скорее походила на добровольную ссылку выпускника Сорбонны. Вскоре Леви- Строс был приглашен преподавать социологию в недавно созданный университет в Сан-Паулу, нуждавшийся в кадрах с европейской подготовкой. После окончания первого учебного года супруги Леви-Строс, вместо того чтобы провести отпуск во Франции, отправ и лись к племенам индейцев кадиувеу и бороро: так были получены первые полевые впечатления. Этнографическая коллекция — орудия охоты, утварь, предметы декоративного гончарства, украшения из перьев и другое — была показана молодым собирателем в Париже на устроенной им выставке. Благодаря интересу, вызванному выставкой, Леви-Строс получил финансовую поддержку от Музея человека и от Национального центра научных исследований для проведения этнографической экспедиции. В Бразилию он вернулся уже не как преподаватель социологии, но как полевой антрополог. Организованная на полученные деньги экспедиция к племенам намбиквара заняла более года. Одно только составление научной атрибуции собранных во время этой экспедиции экспонатов, переданных им в 1939 г. в Музей человека, потребовало года работы в Париже. Впечатления, размышления исследователя-европейца, познающего как извне, так и изнутри нравы, обычаи и своеобразное мировосприятие аборигенов бассейна р. Амазонки, изложены в "Печальных тропиках", написанных на основе экспедиционных дневников, но спустя почти 20 лет. Книга поражает не только представленным в ней богатейшим экзотическим материалом, но и изяществом его осмысления: автор пытается воссоздать систему символического мышления, присущую конкретной бесписьменной культуре. Это научно-художественное произведение, высоко оцененное французской гуманитарной общественностью (при том, что реакция узкопрофессиональной среды была довольно сдержанной), явилось примером свободного философствования в ситуации психологического переживания фактов чужой культуры. Интересно, что, задаваясь вопросом об интеллектуальных предпосылках такого переживания, Леви-Строс дистанцируется не только от рационализма Декарта, но и от идей Бергсона о необратимости потока явлений психики. Становление структуралистского подхода к пониманию живой "первобытной" культуры он связывает в первую очередь с переосмыслением разработанных ранее Фрейдом принципов моделирования сферы бессознательного, но применительно не к отдельному человеку, а к фактам культуры. Начало Странной войны . и вторжение гитлеровцев во Францию означало для Леви-Строса службу в армии в качестве агента для ожидавшегося британского корпуса. По увольнении из армии он в течение нескольких месяцев искал место преподавателя. В Париже для будущего академика такого места не нашлось: как было заявлено министерским чиновником правительства Виши, преподавателя с такой фамилией в Париж невозможно направить. Уже ожидалось принятие так называемых "расовых законов", и с Леви-Стросом, приступившим к работе в лицее Перпиньяна, никто из коллег, кроме преподавателя физкультуры, не желал общаться. Когда наконец он получил место профессора философии в Политехнической школе Монпелье, то вскоре был уволен на основании уже вступивших в силу "расовых законов". Новым поворотом в судьбе Леви-Строса, давшим ему возможность не только спастись от нацизма, но и сделать еще один решающий шаг в профессиональном развитии, явилось неожиданное приглашение в США. Он был приглашен туда в соответствии с программой фонда Рокфеллера по спасению европейских интеллектуалов. Приглашение поступило благодаря вниманию, проявленному к вышедшим в то время статьям Леви-Строса — по социальной организации южноамериканских индейцев — со стороны А. Метро и других этнологов США. В Нью-Йорке Леви-Строс начал с чтения курса по социологии латиноамериканских стран в вечернем университете для взрослых, а затем преподавал этнологию для франкоязычных иммигрантов в Новой Школе Высших Исследований. Здесь же Леви-Строс познакомился с Р. Якобсоном, выходцем из России, одним из основателей структурной лингвистики, влиянию идей которого во многом обязано становление в 40—50-е гг. леви-стросовского этнологического структурализма. Обогащению теоретических и практических знаний способствовало и тесное общение в течение нескольких лет с американскими учеными, имевшими значительный полевой опыт. Важнейшим фактором в создании нового метода изучения бесписьменных культур было знакомство Леви-Строса с прекрасным фондом Национальной библиотеки, задержавшим его в США почти до конца 1947 г. (после войны в течение нескольких лет он выполнял во французском посольстве обязанности советника по культуре). Основной материал для подготовки его первой крупной работы, "Элементарные структуры родства" ( ''Les structures elementaires de la parente " ), которая была завершена в Нью- Й орке в 1947 г., а позднее представлена как докторская диссертация (опубликована во Франции в 1949 г.), был почерпнут в американской Национальной библиотеке. Тогда же ученый, вступивший в период своей зрелости, осознал себя "как человека библиотеки, т. е. "кабинетного уче н ого", а не как полевого исследователя" *. За этим стояло не принижение значения непосредственного этнографического опыта (хотя в экспедициях Леви-Строс уже участия не принимал), а признание высокой ценности интеллектуального вдохновения, которое возникает в процессе переосмысления огромного, ранее собранного материала, открытия присущей ему системы.
Несмотря на то что Леви-Стросу были предложены престижные и выгодные контракты в США, он принимает решение вернуться во Францию. Теперь наконец его профессиональная карьера складывалась на родине вполне благоприятно. Сначала ему было предложено руководство одним из направлений в Национальном центре научных исследований, затем он получает должность заместителя директора по этнологии в Музее человека, а позднее, вплоть до конца 1959 г., заведует кафедрой религий бесписьменных народов в Школе Высших Исследований (Ecole des Hautes E tudes). Параллельно с этим с 1953 г. в течение семи лет он исполнял обязанности генерального секретаря Международного совета по социальным наукам (одна из организаций под эгидой ЮНЕСКО). В этот же период выходит его культурологическое исследование "Раса и история", а также ряд статей, вошедших позднее в "Структурную антропологию", в том числе "Структура мифов" (1955), где впервые был изложен метод изучения их внутренней логики. В эти послевоенные годы выявился не только исследовательский, но и организаторский потенциал ученого, хотя в полную силу оба эти аспекта реализовались позднее, уже в период его работы в 1960—1982 гг. в Коллеж де Франс. Попасть туда Леви-Стросу удалось лишь с третьей попытки, поскольку к приему новых кадров консервативная администрация этого учебного заведения относилась с большой осторожностью. Притягательность Коллеж де Франс для Леви-Строса объяснялась прежде всего тем, что этот один из старейших и наиболее престижных во Франции институтов обладал большими научно-организационными возможностями. В январе 1960 г. Леви-Строс приступил к заведованию воссозданной кафедрой социальной антропологии (в начале века в Коллеж де Франс кафедру социологии, где велось изучение бесписьменных обществ, возглавлял М. Мосс, ученик Э. Дюрктейма). Новое название кафедры знаменовало собой признание того, что "Структурная антропология" могла составить базу для новой научно-учебной культурологической специальности. Первая часть названия — "социальная" означала преемственность, методологическую связь с традициями французской социологической школы. В том же году на базе Коллеж де Франс была создана под руководством Леви-Строса Лаборатория социальной антропологии, с тем чтобы предоставить молодым специалистам возможность для исследовательской работы, и был организован академический журнал по антропологии "L'Homme" ("Человек") аналогично английскому "Man" и "American Antropoligist" . В числе первых сотрудников Лаборатории были ученые со значительным опытом полевого и теоретического исследования: И. Шива, Ж. Пуйон, а затем — П. Кластрес, супруги Ф. и М. Изард, Л. Сёбаг и др. На базе Лаборатории постоянно проводилось стажирование, организовывались экспедиции к бесписьменным народам в различные регионы мира и готовились диссертации. В числе молодых исследователей были не только французы, но и ученые из других стран Европы и Америки. Никогда в истории этнологии проблематика изучения бесписьменных культур не была представлена столь широко, как в сформировавшейся вокруг Лаборатории школе структурализма: изучение отношений родства и регуляции браков (А. Делюз, В. Валери, Ф. Эритье), потестарных отношений и потестарно-политической организации (М. Изард, П. Кластрес, Ж. Пуйон), мифологии и верований (Н. Бельмон, П. Биду, Л. Сёбаг), шаманизма (П. Биду, Ж. Дюверне, Л. Сёбаг), ритуала (Ж. Лемуен, С. Черкезоф). Мифология в единстве с механизмами мышления носителей традиционной культуры были главным объектом исследовательской работы самого Леви-Строса. Принятие в члены Французской академии в 1973 г. явилось выражением признания фундам е нтального вклада Леви-Строса в национальную и мировую науку. Но это не вызвало у ученого ощущения триумфа; ведь до того уже несколько национальных академий — Дании, Норвегии, США, а также Королевский Антропологический институт Великобритании признали его своим членом. Каковы бы ни были перипетии профессиональной карьеры Леви- Строса, его интеллектуальная деятельность определялась в наибольшей степени внутренней мотивацией, причем последняя постоянно развивалась. Леви-Строс нередко ссылался на свои прежние работы, но никогда — ни устно, ни письменно — не повторял прежде высказанного. Закончив книгу, он ощущал, по его же словам, как она "превращается в чужеродное тело". "Я есть то место, где в течение нескольких месяцев или лет вещи вырабатываются или же обретаются, а затем они отделяются посредством некоего извержения" *.
Одним из наиболее оригинальных аспектов в методологии Леви-С троса является своеобразная роль, которую он отводил историческому фактору в изучении явлений культуры. Для него характерно не противопоставление исторической гетерохронности — синхронии, абстрагирующейся от процесса становления, и не отрицание роли эволюции как таковой, в чем обычно обвиняли французского ученого, уже начиная с выхода его "Структурной антропологии", а попытка усмотреть кристаллизацию происшедших изменений в многослойности, в логике внутренней организации, присущей явлениям культуры. Психолого-личност-ные предпосылки такой эвристической ориентации исследователя не являются загадкой: увлечение в детские годы геологией, интерес в юности к моделям бессознательного как причинности — применительно к обществу и к индивидуальной психике. Однако только антропологические занятия — личный опыт межкультурных контактов и теоретические исследования — привели к созданию целостно-гуманистической картины прошлого и настоящего человечества. Пытаясь очертить контуры культурологической концепции Леви-Строса, отметим прежде всего ту роль, которую он отводит этнологии в формировании мировоззрения человека XX в. Этнология — третий этап гуманизма после Возрождения и начала освоения культурных ценностей Индии и Китая. В отличие от прежних этапов гуманистического самопознания благодаря изучению бесписьменных форм цивилизации, причем всех без исключения, открывается возможность создания наиболее исчерпывающей картины связи человека с природой. Для понимания бесписьменной культуры, "с тем чтобы внутреннее постижение (туземцем или, по меньшей мере, наблюдателем, переживающим туземный опыт) было переведено в термины внешнего постижения "*, этнологу необходимо уделять особое внимание нюансировке психической жизни туземцев. Постижение посредством переживания смысла иной культуры неизбежно приводит этнолога и к самопознанию, и к познанию своей культуры в историко-временной перспективе развивающихся связей человека с природой.
Подход Леви-Строса к культуре — не неоруссоизм и тем более не эволюционизм, хотя влияние на его творчество гуманистических идей Ж. Ж. Руссо, бесспорно, присутствует. В формировании своей философской позиции он опирается на достижения французских мыслителей, отводя Руссо место родоначальника антропологического подхода к культуре. Воспитание в себе сострадания к другому человеку и живым существам вообще, бескорыстное постижение других людей посредством отождествления себя с ними — эти принципы подлинной человеческой коммуникации, описанные впервые Руссо, провозглашаются Леви-Стросом безусловно необходимыми и для истинного этнологического познания. Можно сказать, это общие принципы межсубъектной коммуникации, где никто не выступает объектом манипуляции и партнеры по своей значимости равны. Неоднократно обращаясь к этим вопросам, Леви-Строс наиболее последовательно отвечает на них в работе "Раса и история", написанной по заказу ЮНЕСКО. Фактически здесь речь идет не о расах, но о многообразии человеческих культур, поскольку ученый категорически отвергает возможность рассмотрения интеллектуальных и социальных черт, присущих представителям различных культур, в качестве производных от их расовых различий. Чуждый расовым предрассудкам в любой форме, Леви-Строс показывает, что мировоззрение, основывающееся на односторонне толкуемой идее прогресса или однонаправленной исторической эволюции, само по себе может стать даже предпосылкой расизма, пытающегося обосновать различные цивилизационные успехи разных культур. Разнообразие культур имеет как объективные корни (специфические условия природной среды, географическое положение относительно других народов), так и субъективные — желание отличаться от своих соседей, развивая оригинальный стиль жизни. Охранителем разнообразия выступает также этноцентризм — отвержение, в той или иной форме, чужой культуры, отождествление себя с людьми, а прочих — с "варварами" и "дикарями". Резюмируя предпосылки такого ксено- фобического мировоззрения, Леви-Строс дает парадоксальную на первый взгляд формулу: "Варвар — это прежде всего человек, который верит в варварство "* .
По своим культурологическим представлениям Леви-Строс — не эволюционист. Наиболее опасным заблуждением он считает формулу ложного эволюционизма, когда различные одновременно существующие состояния человеческих обществ трактуются как разные стадии, или шаги, единого процесса развития, движущегося к одной и той же цели. Типичный пример такой ложной посылки в науке — когда бесписьменные туземные племена XX в. напрямую сопоставляются с архаическими формами европейских культур, хотя так называемые "примитивные общества" прошли длительный путь развития, в силу чего не являются ни первобытным, ни "детским" состоянием человечества. Их принципиальное отличие от технически развитых цивилизаций не в том, что они не развивались, а в том, что история их развития не сопровождалась кумуляцией изобретений, но ориентировалась на сохранение изначальных способов установления связи с природой. В стратегии межкультурных связей следование ложной посылке однонаправленности прогресса ведет, по Леви-Стросу, к насаждению, порой насильственному, так называемого западного образа жизни, результатом чего является разрушение существующих у "примитивов" вековых традиций. Прогресс человечества не может быть уподоблен однонаправленному подъему по лестнице: он происходит по разным направлениям, несоизмеримым с одним лишь ростом технических достижений. Так, в области познания человеческого тела, связи его физического и психического аспектов Восток на несколько тысячелетий опережает западные цивилизации. Известен приоритет Индии в создании религиозно-философских систем. Признавая наличие существенного сходства человеческих ценностей в различных цивилизациях, Леви-Строс подчеркивает, что самобытность определяется наличием в той или иной культуре особого подхода к их реализации. Никакая из конкретных цивилизаций не может претендовать на то, что в наибольшей мере воплощает, выражает некую мировую цивилизацию: "мировая цивилизация не может быть в мировом масштабе ничем иным, кроме как коалицией культур, каждая из которых сохраняет свою самобытность "** .
В названной выше работе, а также в статье "Пути развития этнографии" (см. настоящее издание) Леви-Строс ставит проблему сохранения "оптимума различий", что должно быть критерием прогрессивного характера контактов и сотрудничества между цивилизациями и культурами. Обмен культурными достижениями, контакты способствуют многоаспектному развитию, однако неизбежно возникающая при этом тенденция к унификации не должна иметь абсолютного превосходства над противоположной тенденцией, а именно стремлением конкретной культуры к сохранению своих отличий, своей самобытности. Сохранение культурного многообразия впервые было осмыслено как ценность цивилизацией XX в., которая на пути к единству человечества в значительной степени преодолела географические, языковые и расовые барьеры. Культурологические воззрения Леви-Строса, безусловно связанные с его опытом внутреннего постижения иных, в том числе туземных, культур, вместе с тем не являются производными от его теоретико-этнологических исследований. Их можно трактовать как философский аспект осмысления ученым своего профессионального призвания, Скорее даже этнологические изыскания, в том числе такие сверхсложные для неискушенного читателя, как "Неприрученная мысль" и "Мифологики", вдохновлялись поиском способов понимания туземной культуры, присущей ей символики, логической связности. Построение структурно-семиотических моделей функционирования различных явлений бесписьменной культуры — не самодостаточная академическая задача. Этнологическое исследование, по Леви-Стросу, стремится к "обнаружению и формулированию законов порядка во всех регистрах человеческого мышления "* .
Не только самому Леви-Стросу, но и всем его единомышленникам и последователям, работы которых и составляют школу этнологического структурализма, свойственно, хотя и в разной мере, проведение теоретических изысканий вплоть до обнаружения этого заветного уровня понимания иной культуры, а именно присущих ее носителям закономерностей мышления, мыслительных схем. Структуральная антропология ** как методологическое направление в изучении социокультурных явлений так называемых "примитивных", то есть традиционных, обществ опирается на следующие принципы, в совокупности составляющие метод: 1) явление культуры рассматривается в синхронном срезе общества, в единстве своих внутренних и внешних связей; 2) явление культуры анализируется как многоуровневое целостное образование, а связи между его уровнями истолковываются в семиотическом ключе; 3) исследование явления производится непременно с учетом его вариативности — в рамках конкретной культуры или более широкой области, где происходила его трансформация. Конечный результат исследования — моделирование "структуры", то есть предполагаемого алгоритма, который определяет скрытую логику, присущую как отдельным вариантам явления (инвариантные связи элементов и отношений между ними), так и виртуальным переходам от одного варианта к другому.
Структурно-семиотический метод сложился, конечно, не сразу и поначалу казался весьма уязвимым для критики. Антропологию Леви- Строса стремились свести к абсолютизации синхронии или же к прямому заимствованию категории "структура" из структурной лингвистики Якобсона. Однако метод этнологического структурализма, вполне сложившийся к началу 60-х гг., был не только эвристическим переосмыслением идей французских социологов первобытности Э. Дюркгейма и М. Мосса, соединением этих идей с понятиями, почерпнутыми из описания лингвистических закономерностей. Структурно-семиотическое моделирование предлагает на деле своего рода путешествие к мыслительным структурам туземцев, объективированным в фактах традиционной культуры, которые, в свою очередь, постоянно воссоздаются в ней. Наиболее продуктивным оказалось изучение свойств мышления носителей традиционной культуры применительно к тотемическим классификациям (см. в настоящем издании "Тотемизм сегодня" и др.), к мифам и маскам. За многообразием явлений, составляющих тотеми- ческий комплекс (отождествление членами социальной группы себя с животным или растительным видом, соответствующие этой мыслительной связи верования, обряды, пищевые запреты), Леви-Строс увидел специфические коды, посредством которых происходит "обмен сходствами и различиями между природой и культурой" * и различение социальных групп между собой. Тотемические коды суть логические формы, пригодные для выявления сходства-различия. Две другие из основных операций современного мышления, а именно обобщение — конкретизация и расчленение — соединение, также осуществляются, поскольку использование природного вида (тотема) в качестве оператора делает возможным переходы: индивид — социальная группа (половозрастная группа, клан, линидж) — племя. Если же племя использует для поименования кланов части тела природного существа, то при такой мысленной детотализа- ции в означаемом происходит движение от общего к частному, а если имеет место и ретотализация — движение от частного к общему. Подобные мыслительные операции могут совершаться и с помощью "морфологических классификаторов" (Леви-Строс) — лап зверя, его хвоста, зубов и др., по которым соотносимы между собой индивиды различных кланов, занимающие аналогичную социальную позицию. Совокупность таких операций, с учетом всех тотемов, посредством которых мыслят в данном племени, исследователь называет "тотемическим оператором". Это модель, воссоздающая реальную логическую форму, используемую туземцами для фиксации социально значимого содержания, его абстрагирования и конкретизации.
Впервые в истории этнологической мысли, на материале загадочного, обескураживавшего путешественников, миссионеров XIX в. тотемизма, была продемонстрирована логическая рациональность мышления туземцев, его способность к совершению всех тех основных операций, что совершает человек технически продвинутой цивилизации. Вместе с тем выпукло очерчена и специфика так называемого первобытного мышления: логическая ось общее — частное еще не выделена в качестве самостоятельной формы (понятие) и воспроизводится неотъемлемо от семиотической оси природа — культура. В "Неприрученной мысли" (буквальный перевод: "Дикая мысль" или "Мысль в состоянии дикости") описаны и другие модели — их нельзя считать в прямом смысле слова структуралистскими, — воссоздающие специфические логические формы, используемые в менталитете людей традиционных обществ: "наука конкретного" — способы упорядочения в туземных классификациях, " бриколаж" и " тотализующее мышление". Первая из этих моделей показывает, что особенное внимание туземцев к конкретному сочетается с одновременным их стремлением к символизации. В свою очередь, символы играют роль специфических единиц мышления, они обладают промежуточным логическим статусом между конкретно-чувственными образами и абстрактными понятиями. Модель, названная исследователем "бриколаж" (разъяснение метафоры этого непереводимого понятия, образованного от французского слова bricoler, см. на с. 126), учитывает специфику процесса мыслительной деятельности, свободной, в отличие от процесса проектирования, от строгого подчинения средств цели. Происходит скорее противоположное; интенция мысли определяется рекомбинацией, на манер калейдоскопа, образов-символов, сформировавшихся в результате прошлой деятельности. Наконец , модель " тотализующего мышления" — это попытка продемонстрировать, что в менталитете туземцев, использующем классификации различного типа, существуют определенные формы их взаимной логической обусловленности: переходы одних в другие; дополнительность. Иначе говоря, множественность логик — черта, присущая традиционным обществам, — до определенной степени унифицирована. "Неприрученная мысль" — это книга-размышление, продолжающая уже на более солидной научной базе конкретно-гуманистический подход к своеобразной культуре "примитивных обществ", который характерен для Леви-Строса в "Печальных тропиках". Вместе с тем исследовательская интенция, как показано ученым, может направляться не только от современности к традиционному обществу (поиск там логической оси общее — частное), но и от последнего к реликтам "неприрученной мысли" в нашей ц ивилизации (например, в книге анализируются способы наименования птиц, различных домашних животных). Понятие "неприрученная мысль" означает совокупность характеристик мыслительной деятельност и , изначально (точнее, со времени неолита) присущих ей, что сохранилось более явно в менталитете традиционных обществ и присутствует также в ткани нашего мышления, сосуществуя с формами научной мысли. Исследования Леви-Строса опрокидывают сформулированную в 1910—1920 гг. Л. Леви-Брюлем концепцию, согласно которой людям традиционных обществ якобы присуще дологическое ("prelogique") мышление, не способное к усмотрению противоречивости явлений и процессов и управляемое мистическими переживаниями. Эта теория не одобрялась этнологами, обладавшими опытом полевого наблюдения, но она заполняла концептуальную пустоту в проблематике формирования мыслительных операций. Доказательство Леви-Стросом потенциального равенства логической мощи так называемого первобытного мышления и мышления человека современной европейской цивилизации тем более значимо, что оно осуществлено не посредством экспериментально-психологического изучения индивидов, но в рамках самой традиционной культуры. В "Мифологиках" (изучение логик мифов) Леви-Стросом ставилась задача преодоления характерного для западной философской мысли разрыва между сферами чувственно- и умопостигаемого*. В первом томе этого обширного исследования, охватившего анализом 813 мифов, в качестве отправного инструментария для реконструкции процессуальных свойств мысли названы оппозиции, составленные из полярных сенсорных качеств: сырое/вареное, влажное/сухое и др. Фактически же и в первом, и в других томах данного исследования обнаруживается действенная роль и другого типа бинарных оппозиций, составленных не только из сенсорных признаков: коммуникация/некоммуникация, умеренный/неумеренный и др. Изучение семантики мифов (потребовавшее от Леви-Строса в целях корректного применения созданной им методики анализа не только штудирования собранных другими исследователями текстов мифов, но и изучения бота н ики, зоологии среды обитания конкретных южно- и североамериканских индейских племен) подтвердило действенность бинарной оппозиции, как правило, но необязательно образованной сенсорными признаками, в качестве органичной единицы менталитета туземцев.
Прослеживание того, каким образом оперирование бинарными оппозициями связывает между собой различные этиологические темы или различные мифологемы и группы мифов, отображающие разные аспекты жизнедеятельности туземцев, составило главный методический ориентир исследователя. Если отдельная оппозиция играет роль признака, выраженного двухполюсной осью, то сочетание подобных признаков характеризует своего рода систему координат — канву мифологического мышления. В этой системе наиболее общие координаты совсем не обязательно оказываются более абстрактными: так, в "Сыром и вареном" (т. 1) самая общая координата мышления как раз выражена качествами, вынесенными в название тома, а во в т ором томе, "От меда к пеплу", эту роль играет п ризнак содержащее/содержимое. Система координат, объемлющая всю иерархию таких признаков-оппозиций, как бы репрезентирует специфически организованный фонд коллективного разума. В реконструируемом процессе "первобытного" мышления, совершающего виртуальные переходы от одного мифа (или группы мифов) к другому, можно выделить исходя исключительно из текста "Мифологик" три операции, осуществляемые с помощью бинарных оппозиций как еди н иц мышления: 1) совмещение бинарных оппозиций; 2) перенос бинарности или установление соответствий между более общей и более конкретными оппозициями; 3) введение медиаторов*. Осуществление совокупности этих специфичных операций, как видно из леви-стросовского анализа мифов, обеспечивает все требования, которым (согласно известному психологу Ж. Пиаже **) должно соответствовать понятийное мышление. Иначе говоря, не на уровне отдельного индивида, но на уровне коллективного субъекта (конкретная культура, историко-культурная область), ответственного за циркулирование, преобразование семантики мифов, достигается тип рациональности, присущий по своему логическому качеству понятийной мысли.
Если в "Тотемизме сегодня" и "Неприрученной мысли" показана полнота логических возможностей так называемого первобытного мышления, то в "Мифологиках" обнаружены его процессуальные характеристики и воссоздана канва мышления коллективного субъекта. Исследование Леви-Стросом "неприрученной мысли" (как ее логических возможностей, достигающих возможностей понятийного мышления, так и ее специфики) играет также неоценимую роль для его культурологических воззрений. Если многообразие культурных традиций составляет реальный фонд мировой культуры, то "неприрученная мысль", выступающая единственной универсалией человеческой психической деятельности во всех цивилизациях, — это предпосылка взаимопонимания в межкультурном диалоге, реального сострадания и любви к иной культуре. * * * В настоящее издание, помимо уже охарактеризованных, включено несколько работ Леви-Строса, дополняющих и как бы разъясняющих его концепцию мышления. Так "Структурализм и экология" содержит методологическую попытку очертить факторы, детерминирующие стихию образно-символического мышления людей традиционных обществ. Данное издание предпринято издательством "Республика" по инициативе ныне покойного академика антрополога В. П. Алексеева, и по его же предложению перевод- на русский язык (большинства включенных в сборник работ) выполнен этнографом, специально исследовавшим творчество К. Леви-Строса. В определении русского варианта ряда этнонимов и географических названий переводчику оказали любезную помощь Е. А. Окладникова, Н. А. Бутанов и другие петербургские этнологи. А. Б. Островский
Большинству из нас антропология представляется науко й новой, свидетельством изощренной любознательности современного человека. В нашей эстетике произведения первобытного искусства заняли место менее пятидесяти лет тому назад. Интерес к самим первобытным обществам немного более древнего происхождения — первые работы, посвященные их систематическому изучению, восходят к 1860 г., то есть к той эпохе, когда Ч. Дарвин ставил проблему развития применительно к биологии. Эта эволюция, по мнению его современников, отражала эволюцию человека в плане социальном и духовном. Думать об этнологии таким образом — значит заблуждаться относительно реального места, которое занимает в нашем мировоззрении познание первобытных народов. Этнология не является ни частной наукой, ни наукой новой: она самая древняя и самая общая форма того, что мы называем гуманизмом. Когда в конце средневековья и в эпоху Возрождения люди вновь открыли для себя греко-римскую античность и когда иезуиты превратили латынь и греческий язык в основу образования, возникла первая форма этнологии. Эпоха Возрождения открыла в античной литературе не только забытые понятия и способы размышления — она нашла средства поставить во временную перспективу свою собственную культуру, сравнить собственные понятия с понятиями других времен и народов. Критики классического образования ошибаются относительно его природы. Если бы занятия греческим и латынью сводились к простому овладению рудиментами мертвых языков, в них действительно было бы не много пользы. Но — и учителя начальной школы хорошо знают это — через посредство языка и чтения текстов ученик проникается методом мышления, который совпадает с методом этнографии (я назвал бы его "техникой переселения"1) .
Единственное отличие классической культуры от культуры этнографической относится к размерам известного в соответствующие эпохи мира. Человеческий космос был ограничен в начале эпохи Возрождения пределами Средиземноморского бассейна. О существовании других миров можно было только догадываться. Но, как мы уже сказали, никакая часть человечества не может понять себя иначе, как через понимание других народов. В XVIII — начале XIX в. с прогрессом географических открытий прогрессирует и гуманизм. Еще Руссо и Дидро пользуются всего лишь догадками об отдельных цивилизациях. Но в картину мира уже начинают вписываться Индия и Китай. Своей неспособностью создать оригинальный термин наша университетская наука, которая обозначает изучение такого рода культур термином "неклассическая философия", признается в том, что речь идет все о том же гуманистическом движении, заполняющем новую территорию (подобно тому как для древних метафизикой называлось все то, что шло после физики). Проявляя интерес к последним из находящихся в упадке цивилизаций, к так называемым примитивным обществам, этнология выступает как третий этап в развитии гуманизма. Этот этап является одновременно последним, поскольку после него человеку не остается ничего открыть в себе самом — по крайней мере экстенсивно (потому что существует иного рода глубинное исследование, конца которому не видно). Но имеется и другая сторона проблемы. Зона охвата первых двух видов гуманизма — классического и неклассического — была ограничена не только количественно, но и качественно. Античные цивилизации исчезли с лица земли и доступны нам лишь благодаря текстам и памятникам культуры. Что касается народов Востока и Дальнего Востока, которые продолжают существовать, метод их исследования оставался тем же, потому что считалось, что цивилизации столь отдаленные могут заслуживать интереса лишь благодаря своим наиболее рафинированным продуктам. Этнология — это область новых цивилизаций и новых проблем. Эти цивилизации не дают в наши руки письменных документов, ибо у них вообще нет письменности. А так как уровень их технического развития, как правило, очень низок, они не оставили нам и памятников изобразительного искусства. Поэтому у этнолога возникает необходимость вооружить свой гуманизм новыми орудиями исследования. Этнологические методы являются одновременно и более грубыми и более тонкими, чем методы предшественников этнологии, филологов и историков. Общества эти чрезвычайно труднодоступны, и, для того чтобы в них проникнуть, этнолог должен ставить себя вовне (физическая антропология, технология, предыстория), а также глубоко внутрь, потому что он отождествляется с группой, в которой живет, и должен уделять особое внимание — так как он лишен других сведений — тончайшим нюансам психической жизни туземцев. Этнология во всех отношениях выходит за пределы традиционного гуманизма. Поле ее исследования охватывает всю обитаемую землю, а ее методология аккумулирует процедуры, относящиеся как к гуманитарным, так и к естественным наукам. Три следующих один за другим вида гуманизма интегрируют и продвигают человеческое познание в трех направлениях: во-первых, в пространственном отношении, наиболее "поверхностном" (как в прямом, так и в переносном смысле); во-вторых, в наборе средств исследования: мы начинаем постепенно понимать, что, если по причине особых свойств "остаточных" обществ, которые стали предметом ее изучения, антропология оказалась вынужденной выковывать новые орудия познания, они могут плодотворно применяться к изучению других обществ, включая и наше собственное. В-третьих, классический гуманизм был ограничен не только своим объектом — пользовавшиеся его благодеяниями люди также составляли привилегированный класс. Даже экзотический гуманизм XX в. был связан с промышленными и торговыми интересами, которые его питали и которым он был обязан своим существованием. После аристократического гуманизма эпохи Возрождения и буржуазного гуманизма XIX в. этнология знаменует собой — для законченного космоса, каким стала наша планета, — появление универсального гуманизма. Ища источник своего вдохновения в обществах наиболее униженных и презираемых, она провозглашает, что ничто человеческое человеку не чуждо, и становится, таким образом, столпом гуманизма демократического, противостоящего всем предыдущим видам гуманизма, которые были созданы для привилегированных цивилизаций. Мобилизуя методы и инструментарий, заимствованный из всех наук, и ставя все это на службу человеку, этнология хочет примирить человека и природу в едином всеобщем гуманизме.
Приглашение антрополога на это юбилейное торжество дает возможность и нашей молодой науке воздать должное человеку, прославленному многогранностью своего гения, охватывавшего литературу, поэзию, философию, историю, этику, социологию, педагогику, музыку, ботанику, — а это еще не все стороны его творчества. Руссо был не просто острым и тонким наблюдателем сельской жизни, страстным читателем книг о далеких путешествиях, искусным и опытным исследователем чужеземных обычаев и верований: можно смело утверждать, что антропология была предсказана и основана им на целый век раньше ее официального признания как науки. Он сразу же отвел ей должное место среди уже сложившихся тогда естественных и гуманитарных наук, предсказал, в какой практической форме — при поддержке отдельных лиц или целых групп — ей будет суждено сделать свои первые шаги. Концепция Руссо изложена в длинном примечании к "Рассуждению о происхождении неравенства". "Я затрудняюсь понять, — писал Руссо, — почему в век, кичащийся своими знаниями, не найдется двух человек, из которых один хотел бы жертвовать двадцать тысяч талеров из своего имения, а другой — десять лет жизни своей на славное странствование вокруг света, дабы учиться познавать не только травы и камни, но и хотя бы один раз — человека и нравы..." И далее он восклицает: " ... весь мир населен народами, о которых мы знаем только имена, а за всем тем беремся рассуждать о человечестве! Вообразим себе Монтескье, Бюффона, Дидро, д'Аламбера, Кондильяка или людей, им подобных, путешествующих для просвещения своих соотечественников, наблюдающих и описывающих так, как только они умеют, Турцию, Египет, Барбарию, Марокко, Г винею, Кафрскую землю, внутреннюю Африку и ее восточное побережье, Малабарский берег, империю Моголов, берега Ганга, королевства Сиама, Пегу и Ава, Китай, Татарию и особенно Японию; и в другом полушарии — Мексику, Чили, земли Магеллана, не забывая патагонцев истинных или ложных, Тукуман, Парагвай, если возможно, Бразилию, караибов, Флориду и все дикие страны. Такие путешествия будут самыми нужнейшими из всех и потребуют особой тщательности. Предположим, что эти новые Геркулесы по возвращении из своих достопамятных путешествий опишут на досуге природу, нравы и политическую историю того, что они видели; и тогда мы сами смогли бы увидеть новый свет, рождающийся под их пером, и таким образом научились бы познавать наш собственный мир..." ("Рассуждение о происхождении неравенства", примечание 10). Не является ли это изложением предмета современной антропологии и ее метода? И имена, названные Руссо, — разве это не имена тех самых людей, которых и теперь еще почитают и которым стремятся подражать современные антропологи, твердо уверенные, что, только следуя этим людям, они смогут заслужить для своей науки то уважение, в котором ей так долго было отказано? Руссо был не только предтечей антропологии, но и ее основоположником. Во-первых, он дал ей практическую основу, написав свое "Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми", в котором поставил проблему взаимоотношений между природой и цивилизацией и которое можно считать первым научным исследованием по общей антропологии; во-вторых, он дал ей теоретическое обоснование, замечательно ясно и лаконично указав на самостоятельные задачи антропологии, отличные от задач истории и этики: "Когда хочешь изучать людей, надобно смотреть вокруг себя, но чтобы изучить человека, надо научиться смотреть вдаль; чтобы обнаружить свойства, надо сперва наблюдать различия" ("Опыт о происхождении языков", глава VIII). Этот впервые установленный Руссо методологический закон, положивший начало антропологии, помогает преодолеть то, что на первый взгляд можно счесть двойным парадоксом: Руссо, предлагая изучать людей самых далеких, занимался главным образом изучением одного самого близкого ему человека — самого себя; через все его творчество последовательно проходит желание отождествить себя с другим при упорном отказе от отождествления с самим собой. Эти два кажущихся противоречия, составляющие, в сущности, две стороны одной медали, и являются той трудностью, которую каждый антрополог рано или поздно должен преодолеть в своей работе. Все антропологи находятся перед Руссо в особом долгу. В е дь Руссо не ограничился тем, что определил точное место новой науки в комплексе человеческих знаний; своей деятельностью, характером и темпераментом, силой своих чувств, свойствами своей натуры и индивидуальности он по-братски помог антропологам: дал им образ, в котором они узнают свой собственный образ, приходя таким путем к более глубокому пониманию самих себя — не в абстрактном смысле чисто интеллектуального созерцания, а в качестве невольных носителей того глубокого превращения, которое Руссо произвел в них и которое все человечество увидело в личности Жан Жака Руссо. Когда антрополог приступает к своим исследованиям, он всякий раз попадает в мир, где все ему чуждо и часто враждебно. Он оказывается в одиночестве, и лишь его внутреннее "я" способно поддержать его и дать ему силы устоять и продолжать работу. В условиях физического и морального изнурения, вызванного усталостью, голодом, неудобствами, нарушением установившихся привычек, неожиданно возникающими предрассудками, о которых антрополог и не подозревал, — в этом трудном сплетении обстоятельств его "я" проявляется таким, каким оно является в действительности: несущим на себе следы ударов и потрясений его личной жизни, которые некогда не только определили выбор его карьеры, но и сказываются на всем ее протяжении. Вот почему в своей работе антрополог часто избирает самого себя объектом своих наблюдений. В результате он должен научиться познавать себя, смотреть на себя объективно и издали, как если бы то был посторонний человек. И тогда антрополог обращается к этому постороннему, другому человеку, заключенному в нем и отличному от его "я", стремясь дать ему определенную оценку. И это становится составной частью всех наблюдений, которые антрополог проводит над отдельными лицами или группами лиц, над внутренним "я". Принцип "исповеди", сознательно написанной или бессознательно выраженной, лежит в основе всякого антропологического исследования. Не потому ли опыт Руссо помогает нам видеть эту сторону антропологии, что его темперамент, его своеобразная личная история и обстоятельства жизни непроизвольно поставили его в положение, типичное для антрополога? И Руссо-антрополог немедленно отмечает, какое воздействие эти обстоятельства оказали на него лично. "И вот они, — писал он о своих современниках, — мне чужие, незнакомые, никто, наконец, — раз они этого хотели. А я — что такое я сам, оторванный от них и от всего? Вот что мне остается еще решить" (первая "Прогулка" ) . А антрополог, рассматривая впервые дикарей, которых он избрал объектом своих исследований, мог бы воскликнуть, перефразируя Руссо: "Вот они, мне чужие, незнакомые, никто, наконец, для меня, раз я сам этого хотел! А я — что такое я сам, оторванный от них и от всего? Вот что мне прежде всего надо найти". Для того чтобы человек снова увидел свой собственный образ, отраженный в других людях — это и составляет единственную задачу антропологии при изучении человека, — ему необходимо сначала отрешиться от своего собственного представления о самом себе. Именно Руссо мы обязаны открытием этого основополагающего принципа — единственного принципа, на который могла бы опираться наука о человеке. Однако этот принцип оставался недоступным и непонятным, поскольку общепринятая философия основывалась на декар- товской доктрине "Я мыслю, следовательно, я существую" и была ограничена логическим доказательством существования мыслящей личности, на котором возводилось здание науки физики за счет отрицания социологии и даже биологии. Декарт считал, что от внутреннего мира человека можно непосредственно переходить к внешнему миру, упуская из виду, что между этими двумя крайностями стояли общества и цивилиза ц ии, иначе говоря, миры, состоящие из людей. Руссо выразительно говорит о себе в третьем лице — "он" (разделяя иногда даже это другое лицо на две различные части, как в "Диалогах "). Именно Руссо — автор известного изречения "Я есть другой" (антропологи делают то же самое, прежде чем показать, что другие люди — это люди, подобные им самим, или, иными словами, "другой" есть "я ") . Таким образом, Руссо предстает перед нами как великий новатор, выдвинувший понятие об абсолютной объективности. В своей первой "Прогулке" он говорит, что цель его "состоит в том, чтобы дать себе отчет в изменениях своей души и в их последовательности", а затем добавляет: "В известном смысле я произведу на самом себе те опыты. которые физики производят над воздухом, чтобы узнать ежедневные изменения в его состоянии". Руссо открыл нам (поистине это удивительное откровение, несмотря на то, что благодаря современной психологии и антропологии оно стало более привычным) существование другого лица ("он "), которое думает внутри меня и приводит меня сначала к сомнению, что это именно "я", которое мыслит. Декарт полагал, что на вопрос Монтеня: "Что я знаю?" (с которого и начался весь спор) — он может ответить: "Я мыслю, следовательно, я существую". Остроумно возражая Декарту, Руссо в свою очередь спрашивает: "Что есть я ?". На этот вопрос нельзя дать ответа, пока не будет разрешен другой, более фундаментальный вопрос: "Есть ли я?" Итак, ответ, который можно получить на основании личного опыта, дает понятие "другого" лица, открытое Руссо и немедленно и с предельной четкостью примененное им в исследованиях... Если считать, что с появлением общества человек претерпел троякое изменение — от естественного состояния к цивилизации, от чувства к познанию и от животного состояния к человеческому (доказательство этого и составляет предмет "Рассуждения о неравенстве "), — то нам придется признать за человеком, даже в его первобытном состоянии, некую важную способность, или свойство, побудившее его проделать это тройное превращение. И мы должны поэтому признать, что в этой способности с самого начала были в скрытом виде заложены оба противоречивых элемента — по крайней мере как атрибуты, если не как внутренне присущие ей части, — делая ее одновременно естественной и культурной, эмоциональной и рациональной, животной и человеческой. Мы должны со- - гласиться также, что пережитое человеком превращение могло быть осуществлено при попутном осознании человеческим разумом указанного свойства, или способности. Эта способность, как неоднократно указывал Руссо, есть сострадание, вытекающее из отождествления себя с другим — не родственным, не близким, не соотечественником, а просто с любым человеком, поскольку тот является человеком, более того, с любым живым существом, поскольку оно живое. Таким образом, первобытный человек интуитивно чувствовал себя тождественным со всеми другими людьми. В дальнейшем он никогда не забывал свой первоначальный опыт, даже тогда, когда рост населения заставлял его уходить в новые места, приспособляться к новому образу жизни, когда в нем пробуждалась его индивидуальность. Но такое пробуждение пришло лишь после того, как человек постепенно научился признавать особенности других, различать животных по их видам, отличать человеческое состояние от животного, свою индивидуальность от других индивидуальностей. Признание того, что люди и животные — существа чувствующие (в чем, собственно, и состоит отождествление), значительно предшествует осознанию человеком имеющихся между ними различий: сперва в отношении черт, общих для всех живых существ, и лишь позже в отношении черт человеческих, противопоставляя их животным чертам. Этим смелым выводом Руссо положил конец доктрине Декарта. Если эта интерпретация правильна, если Руссо с помощью антропологии коренным образом ниспровергает философскую традицию, то становится более понятным то глубокое единство, которым отмечено его разностороннее творчество, становится возможным понять, почему он придавал такое значение задачам, на первый взгляд чуждым его труду философа и писателя, — я имею в виду изучение лингвистики, музыки и ботаники. Развитие языка, как его описывает Руссо в "Опыте о происхождении языков", идет примерно по тому же пути, хотя и в ином плане, чем развитие человечества. В первый период развития — это стадия, когда прямой и переносный смысл вещей не различаются; и лишь постепенно прямой смысл освобождается из первоначальной метафоры, в которой всякий предмет смешан с другими. Что же касается музыки, то, кажется, ни одна форма выражения чувств не способна лучше опровергнуть теорию Декарта, противопоставлявшего материальное духовному, разум — телесной субстанции. Музыка — это абстрактная система и противоположностей и сходств; она оказывает на слушателя двойное воздействие; во-первых, меняется соотношение между моим "я" и "другим" во мне, потому что, когда я слушаю музыку, я слышу себя самого через нее; во-вторых, меняется соотношение между разумом и телесной субстанцией — ведь музыка живет внутри меня. "Цепь сходств и сочетаний" ("Исповедь", книга двенадцатая), но цепь, которую природа нам дает воплощенной в "предметах, поражающих наши чувства" ("Прогулки одинокого мечтателя", седьмая "Прогулка ") . В таких же выражениях Руссо определяет свой подход к ботанике, утверждая, что, идя этим путем, он надеется найти ед и нение чувственного и разумного, потому что оно представляет собой естественное состояние человека, существовавшее в момент пробуждения его сознания, но затем не проявлявшееся, за исключением отдельных и редких случаев. Мысль Руссо развивается по двум принципам: принципу отождествления себя с другим, и даже с наиболее далеким "другим", включая и представителей животного мира, и принципу отказа от отождествления со своим "я", т. е. отказа от всего того, что может это "я" сделать "достойным". Эти два положения дополняют одно другое, а второе является даже исходным для первого: я не есть "я", но я есть самый слабый и самый скромный из "других". В этом подлинное откровение "Исповеди ".. . Что касается антрополога, то пишет ли он что-нибудь, кроме исповедей? Сначала своих собственных, потому что, как я уже говорил, "открытие" самого себя и есть та движущая сила, которая определяет его призвание и все его творчество. А затем он в своих трудах создает исповедь своего собственного общества, которое через посредство антрополога выбирает объектом исследования другие общества и другие цивилизации, и именно среди тех, которые кажутся наиболее слабыми и примитивными, для того чтобы удостовериться, до какой степени оно само "недостойно". Говоря "недостойно", я имею в виду, что оно не представляет собой привилегированную форму общества, а является лишь одним из тех других "обществ", которые сменялись в течение тысячелетий и которые благодаря своему разнообразию и кратковременности свидетельствуют о том, что в своем коллективном существовании человек также должен познать себя как "другого" до того, как он осмелится претендовать на собственное "я". Революция в умах, произведенная Руссо, предшествовавшая ант ропологической революции и положившая ей начало, состоит в отказе от принудительного отождествления какой-либо культуры со своей собственной культурой или отдельного члена какой-либо культуры с тем образом или с той ролью, которую эта культура пытается навязать ему. В обоих случаях культура или отдельная личность отстаивают свое право на свободное отождествление, которое может осуществляться только за пределами человека, т. е. путем сопоставления со всеми теми существами, которые живут и, следовательно, страдают; а также до того, как человек превратился в общественную фигуру или ему приписали историческую роль, т. е. путем сравнения с существом, как таковым, еще не вылепленным и не классифицированным. Таким образом, "я" и "другой", освобожденные от антагонизма, который одна лишь философия пыталась поощрять, возвращают себе единство. Возобновленная наконец первобытная связь помогает им объединить "нас" против "них", т. е. против антагонистичного человеку общества, которое человек чувствует себя готовым отвергнуть, поскольку своим примером Руссо учит, как избегнуть невыносимых противоречий цивилизованной жизни. Ибо если и верно, что природа изгнала человека и что общество продолжает угнетать его, то человек может по крайней.мере переменить полюса дилеммы и искать общения с природой, чтобы там размышлять о природе общества. Как мне кажется, в этом и состоит основная идея "Общественного договора", "Писем о ботанике" и "Прогулок одинокого мечтателя ".. . Но именно теперь для всех нас, на опыте ощутивших предостережение, сделанное Руссо своим читателям, — "ужас тех несчастных, которые будут жить после тебя", — мысль Руссо получила свое наивысшее развитие и достигла всей своей полноты. В этом мире, быть может более жестоком по отношению к человеку, чем когда-либо, где имеют место убийства, пытки, массовые истребления, которые мы, конечно, не всегда отрицаем, но стараемся не замечать, как нечто несущественное, поскольку они касаются далеких от нас народов, якобы претерпевающих эти страдания для нашего блага или во всяком случае во имя нас; в мире, границы которого все более сокращаются по мере роста его населения; в мире, где ни одна частица человечества не может считать себя в полной безопасности, — в этом мире над каждым из нас навис страх жизни в обществе. Именно теперь, повторяю я, мысль Руссо, указавшего нам на пороки цивилизации, решительно не способной заложить в человеке основы добродетели, поможет нам отбросить иллюзии, гибельный результат которых мы, увы, уже можем видеть в самих себе и на самих себе. Мы начали с того, что отделили человека от природы и поставили его над ней. Таким образом мы думали уничтожить самое неотъемлемое свойство человека, а именно то, что он прежде является живым существом. Тем же, что мы закрывали глаза на это общее свойство, дана была свобода для всяких злоупотреблений. Никогда на протяжении последних четырех веков своего существования западный человек не имел лучшей возможности, чем сейчас, чтобы понять, что, присваивая себе право устанавливать преграды между человеческим и животным миром, предоставляя первому все то, что он отнимает у второго, — он опускается в некий адский круг. Ибо эта преграда, становясь все более непроницаемой, используется для отделения одних людей от других и для оправдания в глазах все более сокращающегося м е ньшинства его претензии быть единственной человеческой цивилизацией. Такая цивилизация, основанная на принципе и идее повышенного мнения о себе, является гнилой с самого своего рождения. Только Руссо смог восстать против этого эгоцентризма. Он пишет в цитированном выше примечании к "Рассуждению о неравенстве", что больших обезьян Африки и Азии, известных нам по неумелым описаниям путешественников, он скорее предпочитает отнести к людям неизвестной нам расы, чем рисковать отказать в человеческой природе существам, которые, возможно, ею обладают. И первая ошибка была бы менее серьезной, чем вторая, потому что уважение к другим возникает непроизвольно в человеке еще до того, как будут приведены в действие расчет и софистика. Доказательство присущей человеку отзывчивости Руссо находит во "врожденном отвращении к виду страдания себе подобного". И это открытие заставляет его видеть в каждом страждущем существе существо, подобное себе и наделенное, следовательно, неотъемлемым правом на сострадание. Потому что единственный залог того, что в один прекрасный день другие люди не обойдутся с нами, как с животными, состоит в том, что все люди, и прежде всего мы сами, сумеют осознать себя как страждущие существа, воспитать в себе способность к состраданию, которое природе заменяет "законы, нравственность и добродетель" и без к о т о р о й , как мы теперь понимаем, в обществе не может быть ни закона, ни нравственности, ни добродетели. Таким образом, провозглашенное Руссо отождествление со всеми ф ормами жизни, начиная с самых скромных, означает для современного чело века отнюдь не призыв к ностальгическому возврату в прошлое, а принцип коллективной мудрости и коллективных действий. В мире, перенаселенность которого делает все более трудным, а значит, и более необходимым взаимное уважение, это и есть тот единственный принцип, к оторый смог бы позволить людям жить вместе и строить гармоничное будущее. Быть может, этот принцип был уже заложен в великих религиях Дальнего Востока, но на Западе, где со времен античности считалось допустимым лицемерие и пренебрежение к той истине, что человек является живым и страдающим существом, таким-же, как все остальные существа, до того как он отделился от них благодаря второстепенным факторам, кто же иной, как не Руссо, донес до нас эту истину? "Я испытываю ужасное отвращение к государствам, которые господствуют над другими, — пишет Руссо в своем четвертом письме к Маль-зербу, — я ненавижу великих, я ненавижу их государство". Не применимо ли это заявление прежде всего к человеку, который возымел намерение господствовать над другими живыми существами и пользоваться особыми правами, предоставляя, таким образом, наименее достойным людям свободу поступать так же по отношению к другим людям и извлекать пользу из идеи, такой же бесчестной в этой частной форме, какой она уже была в своей общей форме? Возомнить себя существом извечно или хотя бы временно поставленным над другими, обращаться с людьми, как с вещами, либо из-за различия рас и культур, либо в результате завоевания, либо ради "высокой миссии", либо просто ради целесообразности, — это неискупимый грех, которому нет оправдания в цивилизованном обществе. В жизни Руссо было мгновение, имевшее для него очень большое значение. Он вспоминает его на склоне лет, пишет о нем в своем последнем сочинении, к нему возвращается в мыслях во время одиноких прогулок. Что же это было? Он попросту пришел в себя после падения, вызвавшего глубокий обморок. Но ощущение того, что ты жив, есть, без сомнения, самое "драгоценное чувство" из всех, потому что оно так редко и так неопределенно. "Мне казалось, что я наполняю своим легким существованьем все воспринимаемые мною предметы... у меня не было никакого отчетливого ощущения своей личности... я чувствовал во всем своем существе дивное спокойствие и всякий раз, как вспоминаю о нем, не могу подыскать ничего равного ему среди всех изведанных мною наслаждений". С этим знаменитым отрывком из второй "Прогулки" перекликается отрывок из седьмой "Прогулки", разъясняющий эти слова: "Я испытываю неизъяснимые восторги, взлеты, растворяясь, так сказать, в системе живых существ, отождествляясь со всей природой". Это первобытное отождествление, в котором современное общество отказывает человеку и которое он, забыв ею основную ценность, может ощущать лишь изредка, при случайном стечении обстоятельств, ведет нас к самым глубинам творчества Руссо. И если мы отводим ему особое место в великих созданиях человеческого гения, то это потому, что Руссо не только открыл в отождествлении истинный принцип человеческою познания и единственно возможные основы нравственности, но и передал нам огонь своей страсти. Вот уже два столетия горит этот огонь и будет вечно гореть в том горниле, где нашли свое единение живые существа, несмотря на тех социологов и философов, которые в своей гордыне изо всех сил стремятся сделать несовместимыми мое "я" и мое "другое", мое общество и другие общества, природу и цивилизацию, чувственное и рациональное, человечество и жизнь.
Тот факт, что антропология приобретает такое важное значение в современном мышлении, многим может показаться своего рода парадоксом. Эта наука сейчас весьма популярна, о чем свидетельствует н е только множество кинофильмов и книг о путешествиях, но и интерес. проявляемый образованными людьми к самой антропологии. В конце XIX в ., стремясь постичь философию человека и общества люди сперва обращались к биологии, а затем — к социологии, истории и философии. В последние несколько лет эту же роль стала играть антропология и сегодня от нее ожидают таких же глубоких мыслей о нашем мире о философии настоящего и будущего. Подобный подход к антропологии возник, по-видимому, в США Как молодая страна, стремящаяся создать свой собственный гуманизм США порвали с традиционным европейским мышлением. Они не видел и оснований восхищаться цивилизациями Греции и Рима и игнорироватъ другие цивилизации только потому, что в Старом Свете в период Возрождения, когда Человек был признан самым важным и необходимым объектом науки, достаточно изученными оказались лишь эти две цивилизации. В XIX и особенно в XX в. практически все человеческие общества стали доступны изучению. Признавая это, мы не должны ограничивать рамки наших исследований. Рассматривая человечество в его единстве, мы не можем не признать, что среди 99 процентов человеческих обществ, практически на всей населенной части нашей планеты, мы не найдем таких обычаев, верований или институтов, которые не были бы предметом антропологических изысканий. Это особенно ярко проявилось во время второй мировой войны, когда самые неизвестные, самые отдаленные уголки земного шара неожиданно вошли в сферу нашей жизни и наше сознание. Это были страны, где нашли прибежище последние "дикие" народы: дальний север Америки, Новая Гвинея, глубин н ые районы Юго-Восточной Азии и некоторые острова Индонезийского архипелага. После войны ряд географических названий, некогда полных таинственности и романтики, остался на наших картах просто как обозначение посадочных пунктов на трассах воздушных лайнеров. С развитием авиации и быстрым ростом населения мир стал теснее, а усовершенствованные средства сообщения и передвижения не позволяют нам более игнорировать другие народы или оставаться безразличными к их судьбам. Сегодня более нет такого народа, каким бы далеким и отсталым он ни казался, который прямо или косвенно не был бы в контакте с другими народами и чувства, стремления и страхи которого не влияли бы на безопасность, благосостояние и даже само существование T ex народов, чей материальный прогресс некогда породил у них чувство превосходства. Если бы мы даже хотели этого, мы не можем оставаться безразличными к судьбам, скажем, последних охотников за скальпами Новой Гвинеи — по той простой причине, что теперь и они проявляют интерес к нам! Как бы это ни казалось удивительным, но результат наших контактов с ними означает, что мы являемся теперь частью одного мира и в недалеком будущем станем частью одной цивилизации. Ведь даже общества с самой различной идеологией, обычаи и нравы которых в течение тысячелетий развивались различными путями, неизменно оказывают взаимное влияние, вступая в контакт друг с другом. Это влияние может осуществляться по-разному, иногда мы ясно осознаем его, а часто даже не замечаем. Все цивилизации, считающиеся (справедливо или ошибочно) высокоразвитыми — христианство, ислам, буд д изм и, в несколько ином плане, цивилизация технического прогресса, ныне сближающая их, — по мере своего распространения вбирали в себя элементы "первобытного" образа жизни, "примитивного" мышления, "примитивного" поведения , которые всегда были объектом антропологических исследований. Незаметно для нас такие "примитивные" элементы видоизменяют эти цивилизации изнутри. Так называемые "примитивные", или "архаические", народы не исчезают, не превращаются в ничто. Напротив, они более или менее быстро ассимилируются окружающей их цивилизацией; последняя, в свою очередь, приобретает универсальный характер. Поэтому интерес к первобытным народам не только не снижается, но, наоборот, с каждым днем возрастает. Возьмем такой пример: великая цивилизация, которой справедливо гордится Запад, укоренившаяся во всей населенной части нашей планеты, проявляется всюду как своего рода "гибрид". В ее русло вливается множество чуждых духовных и материальных элементов, с которыми ей приходится считаться. Именно в силу этого проблемы антропологии перестали быть предметом интереса лишь узкого круга специалистов, достоянием ученых и исследователей; ими прямо и непосредственно интересуется каждый из нас. В чем же в таком случае заключается тот парадокс, о котором я говорил в самом начале? В действительности их два, если исходить из того, что наша наука в основном занимается изучением "примитивных" народов. Теперь, когда общественность поняла настоящее значение этой науки, правомерен вопрос, не достигла ли а нтропология той ступени, когда ей уже нечего более изучать? Именно сами изменения, которые вызывают все возрастающий теоретический интерес к "примитивным" народам, практически ведут к их исчезновению. Правда, явление это не новое. Когда в 1908 г. автор "Золотой ветви" Дж. Фрэзер основал кафедру антропологии при Ливерпульском университете, он весьма настойчиво призывал ученых и правительства обратить внимание на эту проблему. Однако то, что происходило полвека назад, едва ли можно сравнить с фантастически быстрым исчезновением "примитивных" народов, свидетелями которого мы являемся сейчас. Приведем лишь несколько примеров. К началу заселения Австралии белыми там насчитывалось 250 тысяч коренных жителей; в настоящее время их осталось не более 40 тысяч. Согласно официальным данным. они живут либо в резервациях, либо вблизи рудников; в последнем случае они давно уже отказались от традиционных методов собирания пищи и вынуждены запасать отбросы, роясь тайком в помойных ямах на задворках рудничных поселков. Но и тех коренных жителей, которые отступили далеко в бесплодную пустыню, не оставляют в покое: их изгоняют и оттуда, так как эти районы понадобились для сооружения атомных баз или ракетных площадок. Или возьмем Новую Гвинею, защищенную исключительно неблагоприятной естественной средой. Эта страна, коренное население которой насчитывает несколько миллионов человек, в с е ещ е кажется последним пристанищем подлинно первобытного народа. Но и здесь цивилизация вторгается настолько быстро, что 600 тысяч жителей Центрального горного района, о которых каких-нибудь двадцать лет назад никто из нас и понятия не имел, служат теперь источником рабочей силы для строительства дорог, а в джунглях нередко можно увидеть дорожные знаки и верстовые столбы, сброшенные на парашютах! Не кажется теперь необыкновенным и то, что рабочие бригады вербуются во внутренних районах острова и перевозятся по воздуху на рудники и плантации побережья. Но вместе с цивилизацией в эти районы пришли неизвестные там ранее болезни, против которых местное население еще не выработало иммунитета. Сейчас там свирепствуют и уносят немало жизней туберкулез, малярия, трахома, проказа, дизентерия, гонорея, сифилис и таинственная болезнь, именуемая "куру". Последняя — следствие контакта "примитивного" человека с цивилизацией. "Куру" — это генетическое вырождение, которое всегда кончается смертью и против которого медицина бе с сильна. В Бразилии за период с 1900 по 1950 г. вымерло сто племен. Племя каинганг в штате Сан-Паулу в 1912 г. насчитывало около 1200 человек, а к 1916 г. в нем оставалось 200 человек. В настоящее время число членов этого племени достигло 80 человек. В племени мундуруку в 1925 г. было 20 тысяч человек, а в 1950 г. осталось 1200. От племени намбиквара, в котором в 1900 г. насчитывалось 10 тысяч человек, в 1940 г. сохранилось всего лишь около тысячи. В племени кайяпо на реке Арагуая в 1902 г. было 2500 человек, а к 1950 г. осталось 10; такая же картина и в племени тимбира — 1000 человек в 1900 г. и 40—в 1950-м. Чем же можно объяснить такое быстрое вымирание? Прежде всего ввозом из западных стран болезней, против которых организм местного населения не мог бороться. Трагическая судьба племени урубу — одного из индейских племен Северо-Восточной Бразилии — весьма типична в этом отношении. В 1950 г., всего через несколько лет после того, как они были открыты, урубу заразились корью. За несколько дней из 750 человек умерло 160. Один из очевидцев оставил следующее описание этой эпидемии: "Первую деревню мы нашли покинутой. Все жители ушли из нее, так как были убеждены, что таким образом они избавятся от болезни, которая, по их представлениям, была духом, нападающим на селения. Жителей этой деревни мы нашли в лесу. Почти все они стали жертвами болезни. Истощенные, дрожащие в лихорадке, лежали они под проливным дождем. Кишечные и легочные осложнения настолько ослабили их, что они не в силах были добывать себе пищу. У них не было даже воды, и они умирали не только от болезни, но и от голода и жажды. Дети ползали по земле, пытаясь сохранить огонь под дождем в надежде согреться; мужчины, сгорая от жара, не могли шелохнуться; потерявшие сознание женщины отталкивали тянувшихся к груди беспомощных младенцев". В 1954 г. на реке Гуапоре, разделяющей Бразилию и Боливию, было основано поселение для индейцев, в котором собралось 400 человек из четырех различных племен. В течение нескольких месяцев все они погибли от кори. Помимо инфекционных болезней, серьезной проблемой является недостаток витаминов и пищи, а также болезни сосудистой системы, повреждения глаз, разрушение зубов. Этих болезней местные племена не знали в то время, когда вели традиционный образ жизни; все они появились, когда индейцы стали жить в деревнях и перестали употреблять собранную в лесу пищу. В таких условиях даже испытанные традиционные средства, например присыпка сильных ожогов древесным углем, перестали оказывать целебное действие. Даже эндемические заболевания приобретают столь пагубное воздействие на организм, что, например, глисты у детей начинают выходить через уши и рот. Причиной вымирания индейцев являются и другие, менее непосредственные факторы, например полное крушение их социальной структуры и образа жизни. Жизнь племени каинганг, о котором мы уже упоминали, подчинялась строгим социальным правилам, известным всем антропологам: жители каждой деревни делились на две группы, и мужчины из одной группы могли жениться только на женщинах из другой. Вместе с падением численности населения разрушались и основы их жизненного уклада. Из-за суровой системы каингангов не каждому мужчине удавалось найти жену, и он был обречен на безбрачие, если воздерживался от брака внутри своей группы (по их представлению, такой брак означает кровосмешение; он допускается лишь при том условии, что будет бездетным). При таком положении целый народ может исчезнуть в течение нескольких лет. Принимая все это во внимание, с т оит ли удивляться, что сейчас все труднее и труднее не только изучать так называемые "примитивные" народы, но даже дать удовлетворительное определение этого термина. За последние годы в ряде стран, где существует проблема "примитивных" народов, были сделаны попытки пересмотреть определения, даю щ иеся в законодательствах по охране этих народов. Ни язык, ни культура, ни сознание принадлежности к данной группе не могут более служить эффективными критериями. На основании проведенного опроса Международная организация труда в одном из своих отчетов подчеркивает, что понятие примитивной (туземной) культуры постепенно исчезает и заменяется понятиями бедность нужда. Однако это еще только одна сторона проблемы. Существуют другие районы мира, население которых — традиционный объект антропологических исследований — насчитывает десятки и сотни миллионов человек и продолжает увеличиваться; такой процесс происходит, например, в Центральной Америке, в Андах, в Юго-Восточной Азии и в Африке. Но и в этих странах участь антропологов не лучше, хотя в этом случае трудности заключаются не в количественных, а в качественных изменениях. Независимо от своей воли и желания эти народы находятся в процессе преобразований, а их цивилизация приближается к цивилизации Запада, которая никогда еще не была предметом или областью антропологии. Еще важнее то, что среди этих народов растет противодействие антропологическим исследованиям. Известны случ а и, когда некоторые музеи антропологии вынуждены были сменить свои названия и стали именоваться "музеями народного искусства и обычаев". В университетах молодых государств, недавно добившихся независимости, тепло принимают экономистов, психологов и социологов. Однако нельзя сказать, чтобы такой же прием оказывался антропологам. Может показаться, что антропология становится жертвой двойственного заговора народов. С одной стороны, это народы, которые физически ускользают от нее, в самом прямом смысле исчезая с лица земли. С другой стороны, это народы, далеко не вымирающие, а претерпевающие "взрыв" в росте населения, решительно враждебны антропологии по психологическим и этическим соображениям. Первая сторона не составляет для антропологов какой-либо особой проблемы. Мы должны лишь ускорить исследования, использовать оставшиеся в нашем распоряжении несколько лет для сбора как можно большего количества материалов об этих исчезающих островках человечества. Такие материалы для нас жизненно важны, ибо в отличие от естественных наук науки гуманитарные не могут ставить эксперимент по собственному усмотрению. Каждый тип общества верований или институтов, любой образ жизни представляют с об ой уже готовый эксперимент, создававшийся тысячелетиями и по самому своему существу неповторимый. С исчезновением обществ навсегда исчезает всякая возможность изучать их, и случай обогатить наши познания в этой области уже никогда более не представигся . Вот почему антрополог считает крайне необходимым, до того как исчезнут эти общества и будут разрушены их социальные обычаи, разработать более совершенные методы наблюдения, подобно тому как астрономы обращаются к помощи электронных усилителей, чтобы уловить бесконечно слабый свет удаляющихся от нас звезд... Во втором случае, менее серьезном, дело касается народов, цивилизациям которых не грозит исчезновение, но справиться с этой опасностью значительно труднее. В самом деле, может быть, удастся рассеять недоверие народов, служивших ранее объектом антропологических исследований, простым предложением, чтобы впредь эти исследования пе р естали быть "односторонними"? Возможно, наша наука вновь об р етет свое место, если мы предложим африканским или меланезийским этнографам так же свободно изучать нас, как мы будем изучать их. Такая взаимность была бы желательной, она обогатила бы антропологию, расширив ее горизонты, и открыла бы перед ней пути дальнейшего развития. Однако мы не должны питать иллюзорной надежды решить таким образом основную проблему, ибо при этом не учитываются глубокие причины, лежащие в основе отрицательного отношения к антропологии со стороны народов, подвергшихся в свое время колониза ц ии. Они опасаются, что под прикрытием антропологической интерпретации истории, которую они считают нетерпимой, неравенство будет оправдываться как желаемое разнообразие человечества. Разрешите мне высказать положение, которое хотя и исходит от антрополога, но не носит унизительного характера и является чисто научным наблюдением. Люди западного мира никогда не смогут — разве что лицемерно — выступить в роли "дикарей" в глазах тех, кого они угнетали. Последние существовали для нас в то время лишь как объекты научного исследования или политического и экономического подавления. Мы же, будучи ответственными, с их точки зрения, за судьбу, казались им активной силой, с которой трудно установить отношения, основанные на взаимном уважении. Как это ни парадоксально, но чувство симпатии к эти м народам, несомненно, побудило многих антропологов принять идею плюрализма, которая утверждает разнообразие человеческих культур и вместе с тем отрицает возможность классификации культур на "высшие" и "низшие". В то же время именно эти антропологи, да и вся антропология в целом, обвиняются в настоящее время в том, что они умышленно отрицают это деление цивилизаций, стремясь скрыть его и тем самым более или менее непосредственно содействовать его сохранению. Поэтому если антропологии суждено сохранить свое место в современном мире, то не будет преувеличением сказать, что это будет достигнуто ценою гораздо более глубоких изменений, нежели простое расширение круга ее деятельности (до сих пор весьма ограниченного) путем применения детской формулы: "Мы вам дадим свои игрушки, если вы позволите нам играть вашими". Антропология должна изменить саму свою сущность, она должна признать, что из логических и моральных соображений почти невозможно продолжать рассматривать общества только как об ъ екты изучения, которые кое-кто из ученых хотел бы сохранить. Теперь эти общества стали коллективными суб ъ ектами и требуют прав на нужные им перемены. Такое изменение объекта антропологии вызывает необходимость изменения и ее целей и методов. К счастью, это кажется вполне осуществимым, потому что отличительной чертой нашей науки всегда было правило ничего не принимать за абсолют, а исходить из конкретных отношений между наблюдателем и наблюдаемым и всегда считаться с необходимостью менять свои методы, когда изменяются эти отношения. Несомненно, особенность антропологии всегда заключалась в изучении явлений на месте или "изнутри". Правда, причиной этого была невозможность изучения на расстоянии или "извне". В области социальных наук великая револю ц ия нашего времени заключается в том, что целые цивилизации осознают сами себя и наряду с ликвидацией неграмотности приступают к изучению своего прошлого, своих традиций и каждой сохранившейся до наших дней уникальной стороны своей культуры. Возьмем, к примеру, Африку. Если она перестает быть объектом изучения со стороны, это не значит, что там прекратятся научные исследования. В изучении этого континента антрополога —- наблюдателя со стороны — заменят местные ученые или иностранцы, действующие теми же методами, что и их африканские коллеги. Это будут уже не а н тропологи, а лингвисты, филологи, историки, изучающие факты и идеи. Антропология с готовностью воспримет такой переход к новым, более плодотворным и усовершенствованным методам, будучи вместе с тем уверенной, что она выполнила свою миссию, сохранив многие человеческие ценности для научного познания. Что касается будущего самой антропологии, то она, по-видимому, пойдет по двум путям, определяемым ее традиционными позициями. Это, с одной стороны, расширение географической сферы, поскольку мы должны проникать во все более и более отдаленные районы, для того чтобы добраться до последних так называемых "примитивных" народов, которых становится теперь все меньше и меньше; в то же время она будет развиваться и в познавательном смысле, поскольку мы стали интересоваться сущностями, относительно которых мы располагаем богатым наследством и понимание которых неуклонно растет. С другой стороны, ликвидация материальной основы последних первобытных обществ сделала объектом наших исследований их внутренний мир, а не исчезнувшие уже оружие, орудия труда, предметы домашнего обихода; по мере того как западная цивилизация с каждым днем все более и более усложняется и распространяется по всему свету, она начинает проявлять признаки острых различий, которые всегда были предметом антропологии и которые последняя могла выявить лишь путем сопоставления резко отличных и далеких друг от друга культур. Именно в этом состоит неизменная функция антропологии. И если, как утверждают антропологи, существует некий "оптимум различий", считающийся постоянным условием развития человечества, то можно быть уверенным, что различия между отдельными обществами и группами внутри этих обществ исчезнут только для того, чтобы появиться вновь в иной форме.
Это относится к тотемизму, как и к истерии. Когда вздумали усомниться в том, что можно произвольно изолировать определенные феномены и группировать их между собой, чтобы сделать из них диагностические признаки болезни или признаки существования объективного института, то сами симптомы исчезли или оказались неподатливыми для унифицирующих интерпретаций. В случае "большой" истерии1 это изменение иногда считают результатом социальной эволюции, как бы переместившейся из соматической в психическую сферу, символическим выражением умственных расстройств. Сопоставление с тотемизмом подсказывает связь другого порядка между научными теориями и состоянием цивилизации: ученые под прикрытием научной объективности бессознательно стремились представить изучаемых людей — шла ли речь о психических болезнях или о так называемых "первобытных людях" — более специфическими, чем они есть на самом деле. Мода на концепции истерии и мода на тотемизм совпадают во времени, они возникают в одной и той же цивилизационной среде. Их аналогичные злоключения объясняются прежде всего общей для многих отраслей науки конца XIX в. тенденцией выстраивать порознь и, хотелось бы сказать, в виде какой-то "природы" те человеческие феномены, которые ученые предпочли бы счесть внешними относительно своего собственного морального универсума, чтобы иметь спокойную совесть.
Первый урок критики Фрейдом истерии по Шарко заставил нас убедиться в том, что нет существенного различия между состоянием психического здоровья и психическими заболеваниями, что при переходе от одного к другому происходит главным образом изменение в осуществлении тех или иных операций, а это каждый может наблюдать и у себя; и что, следовательно, больной — наш брат, поскольку он не отличается от нас, разве что инволюцией — второстепенной по своей природе, случайной по форме, произвольной в своем определении и, по меньшей мере, по своему основанию временной — исторического развития, что фундаментально присуще любому индивидуальному существованию2. Было бы удобней видеть в психической болезни нечто редкое и необычное объективный продукт внешних или внутренних фатальных обстоятельств, таких, как наследственность, алкоголизм или дебильность .
Так, чтобы академизм в живописи оказался в полной безопасности, потребовалось, чтобы Эль Греко был не здоровым человеком, способным отвергнуть определенные способы изображения мира, а физически неполноценным: удлиненные фигуры в его живописи свидетельствовали об органическом дефекте глазного яблока... В этом, как и в другом случае, происходило вживление форм культуры внутрь порядка природы и если они там признавались, тотчас же детерминировали выделение других форм, которым приписывалась универсальная значимость. Делая из истерии либо из художника-новатора аномальные явления, многие позволяли себе, по-видимому, роскошь верить, что они нас не касаются и что они фактом своего существования не ставят под угрозу принятый социальный, моральный или интеллектуальный порядок. В теоретических рассуждениях, породивших тотемическую иллюзию, обнаруживается влияние тех же мотивов и отпечаток таких же подходов. Без сомнения, речь не идет пря мо о природе (как мы увидим, часто может использоваться обращение к "инстинктивным" верованиям или установкам). Но понятие тотемизма содействовало появлению радикального способа различать общества, почти всегда отбрасывая некоторые из них в природу (решение, хорошо иллюстрируемое термином Naturvolker3 или, по меньшей мере, классифицируя их в зависимости от их установки по отношению к природе (что выявляется по месту, отводимому человеку в животном ряду) и по предполагаемому знанию либо незнанию механизма прокреации. Следовательно, не случайно Фрэзер создал сплав тотемизма и незнания о физиологическом отцовстве: тотемизм приближает человека к животным, а мнимое незнание о роли отца при зачатии приводит к замещению человеческого прародителя духами, более близкими к природным силам. Это "решение о природе" представляло собой пробный камень, позволивший, даже в рамках культуры, изолировать дикаря от цивилизованного человека.
Чтобы удержать в целостности и в то же время обосновать способы мышления нормального белого взрослого человека, наиболее удобно, таким образом, было сосредоточить вне его те обычаи и верования (поистине весьма разнородные и трудно вычленяемые), вокруг которых выкристаллизовались, из инертной массы, идеи, могущие оказаться не такими уж безобидными, если бы пришлось признать их наличие и действие во всех цивилизациях, включая и нашу . Тотемизм — это прежде всего проекция вовне нашего ун и версума и, подобно экзорцизму, —проекция ментальных установок, несовместимых с требованием прерывности между человеком и природой, которое поддерживалось христианским мышлением как существенное. Итак, думали это требование обосновать, делая из противоположного атрибут такой "второй природы", которую, не надеясь освободиться от нее, как и от первой, ц ивилизованный человек мастерит себе в единстве с "первобытными", или "архаическими", состояниями своего собственного развития. В случае тотемизма это было тем более возможно, что жертвоприношение, понятие которого продолжает сохраняться в великих религиях Запада, вызывало трудность такого же рода. Всякое жертвоприношение подразумевает солидарность между служителем, божеством и жертвуемой вещью, будь то животное, растение или предмет, с которым обращаются, как с живым, ведь уничтожение ее значимо лишь как искупительная жертва. Идея жертвоприношения содержит в себе также зародыш смешения с животным и даже рискует распространиться по ту сторону от человека, вплоть до божества. Неразрывно соединяя жертвоприношение и тотемизм, объясняли первое либо как пережиток, либо как знак второго, а следовательно, находили средство стерилизации нижележащих верований, освобождая их от всего, что могло бы загрязнить идею жертвоприношения, живую и действенную, либо, по крайней мере, разделяли это понятие, чтобы различить два типа жертвоприношения, разные по своему происхождению и значению Рассуждения о сомнительном характере тотемической гипотезы помогают по н ять и ее особое предназначение. Ибо она необычайно быстро расцвела, распространившись по всему полю этнологии и религиозной истории. И, однако, сейчас мы замечаем, что признаки, возвещающие ее падение, проявились почти в одно время с ее триумфальным периодом: она рушилась уже в тот момент, когда казалась наиболее надежной. В своей книге "Современное состояние тотемической проблемы" (любопытная смесь научной информации, пристрастия, даже непонимания с незаурядной теоретической смелостью и свободой духа) Ван Геннеп в конце предисловия, датированного апрелем 1919 г., писал: "Тотемизм уже подверг испытанию проницательность и изобретательность многих ученых; и есть основания полагать, что ему будет присуще то же самое еще в течение многих лет". Предсказание сбылось через несколько лет после выхода в свет монументального труда Фрэзера "Тотемизм и экзогамия", когда международный журнал " Антропос" открыл постоянную рубрику по тотемизму, занимавшую значительное место в каждом номере. Впрочем, далее заблуждаться было трудно. Книга Ван Ген н епа — должно быть, последняя систематическая работа по данному вопросу и в этом отношении остается необходимой. Однако, далекая от того, чтобы представлять собой первый этап синтеза, предназначенного к продолжению, она стала скорее лебединой песней теоретических построений по тотемизму. Вместе с первыми работами Гольденвейзера (1), пренебрежительно отметенными Ван Геннепом, непрерывно стало осуществляться дело дезинтеграции, ныне победившее. Для нашей работы, начатой в 1960 г., 1910-й г. предоставляет удобную точку отсчета: прошло ровно полвека. Именно в 1910 г. появились два исследования, весьма неравные по размеру, хотя в конечном счете 110 страниц Гольденвейзера (1) оказали более длительное теоретическое влияние, чем четыре тома Фрэзера, насчитывающие 2200 страниц... В тот момент, когда Фрэзер опубликовал свою работу, свалив в кучу всю совокупность известных тогда фактов, чтобы обосновать тотемизм как систему и чтобы объяснить его происхождение, Гольденвейзер оспаривал право наслаивать друг на друга три феномена: клановую организацию, приписывание кланам животных и растительных эмблем и веру в родство между кланом и его тотемом. Их контуры совпадают лишь в меньшинстве случаев, и каждый из них может существовать без других. Так у индейцев реки Томсон имеются тотемы, но нет кланов, я р окезов — кланы с именами животных, не являющихся тотемами, гда к ак у юкагиров, разделенных на кланы, имеются религиозные в е рования, где животные играют большую роль, но при посредстве и ндивидуального шаманства, а не социальных групп. Так называемый тотемизм ускользает от какой-либо попытки безусловного его определения исследователями. Самое большее, он состоит в определенном расположении неспецифических элементов. Это соединение особенностей, эмпирически наблюдаемых в ряде случаев, из которых, однако, не с ледуют изначальные свойства; ведь это — не органический синтез, не объект, имеющий социальную природу. После критики Гольденвейзера с течением времени место, посвящаемое тотемической проблеме в американских работах, продолжает сокращаться. Во французском переводе "Первобытного общества" Лоуи восемь страниц все еще отведены тотемизму: прежде всего для того, чтобы заклеймить затею Фрэзера, а затем изложить и одобрить первые из идей Гольденвейзера (с той оговоркой, что его определение тотемизма как "социализации эмоциональных ценностей" слишком амбициозно и слишком общо: если туземцы Буина имеют относительно своих тотемов квазирелигиозную установку, то тотемы западноавстралийских кариера не являются объектом никакого табу и не почитаются). Но Лоуи главным образом упрекает Гольденвейзера за то, что тот допустил эмпирическую связь между тотемизмом и клановой организацией: ведь у кроу, хидатса, грос-вэнтр и апачей кланы не имеют тотемических наименований, у аран-да тотемические группы отличны от их кланов. И Лоуи заключает: "Я заявляю, что не убежден в том, что, несмотря на потраченные для этой цели проницательность и эрудицию, реальность тотемического феномена доказана" (с. 151). С тех пор ликвидация тотемизма ускоряется. Сопоставим два издания "Антропологии" Кребера. Книга, изданная в 1923 г., еще содержит многочисленные отсылки, хотя используются они разве что для различения кланов и фратрий как способа социальной организации и тотемизма как символической системы. Между тем и другим нет необходимой связи, разве что фактическая, ставящая неразрешимую проблему. И несмотря на 856 страниц в издании 1948 г., индекс — который насчитывает 39 страниц — содержит уже только справку. И еще побочное замечание по поводу одного небольшого племени Центральной Бразилии — канелл а : "... вторая пара половин... не касается брачных союзов: она является тотемической — иначе говоря, некоторые животные или природные объекты служат символическим представительством каждой из половин" (с. 396). Вернемся к Лоуи. Во "Введении к культурной антропологии" (1934) он обсуждает тотемизм на половине страницы, а в его втором трактате по первобытной социологии — "Социальная организация" — (1948) слово "тотемизм" упоминается лишь однажды, походя, для разъяснения позиции В. Шмидта . В 1938 г. Боас издает " Общую а нт ропологию", труд на 718 страницах, написанный совместно с его учениками. Дискуссия по проблеме тотемизма занимает там четыре страницы, появившиеся благодаря Глэдис Рейчард. В термине "тотемизм" соединены, по ее наблюдению. разнородные явления: каталоги наименований или эмблем, вера в сверхъестественную связь с нечеловеческими существами и запре т ы, которые могут быть пищевыми, но не обязательно (например, ступать по какой-либо траве и есть из миски — у санта крус; дотрагиваться до рога либо зародыша бизона, а также до угля или ярь-медянки, насекомых или паразитов — у индейцев омаха), и некоторые из правил экзогамии. Эти явления связываются то с группами родства, то с военным или религиозным братством, то с индивидами. И в самом конце Глэдис Рейчард констатирует: "Слишком много написано о тотемизме... чтобы позволить себе остаться совершенно в стороне от этой проблемы... Но способы, в каких он проявляется, столь разнообразны в любой части мира, сходства в этих проявлениях столь поверхностны и эти явления могут выступать в стольких контекстах, не связанных с реальным или предполагаемым кровным родством, что абсолютно невозможно подвести их под одну категорию" (с. 430). В "Социальной структуре" (1949) Мердок извиняется за то, что не обсуждает вопрос о тотемизме, отмечая, что тот весьма слабо проявляется на уровне формальных структур: "... предполагая, что социальные группы должны быть поименованы, животные термины имеют столько же шансов быть использованными, как и другие, неважно какие..." (с. 50). Любопытное исследование Линтона определенно повлияло на рост безразличия американских ученых к проблеме, еще недавно столь дебатируемой. Во время первой мировой войны Линтон служил в 42-й дивизии, дивизии "Радуга" — название выбрано произвольно гражданским помощником командира по административно-хозяйственной части, поскольку эта дивизия объединяла части из многих штатов, так что цвета ее порядков были столь же различны, как цвета радуги. Как только дивизия прибыла во Францию, название вошло в обиход. "Я из "Радуги", — отвечали солдаты на вопрос: "К какой части относитесь?" К февралю 1918 г., то есть через пять-шесть месяцев после того как дивизия получила свое имя, всеми было признано, что появление реальной радуги является для дивизии счастливым предзнаменованием. Еще три месяца спустя многие стали утверждать (даже невзирая на несовместимые с этим явлением метеорологические условия), что всякий раз видели радугу, когда дивизия вступала в бой. В мае 1918 г. дивизия оказалась развернутой вблизи 77-й, транспорт которой был обозначен отличительной эмблемой — статуей Свободы. Дивизия "Радуга", подражая своим соседям, а также желая от них отличаться, восприняла этот обычай: к августу—сентябрю изображение радуги утвердилось как эмблема дивизии, и это произошло вопреки тому, что ношение подобных различительных знаков исходно являлось наказанием, наложенным на разбитую в бою часть. К концу войны американский экспедиционный корпус оказался организованным "в ряд групп, вполне оформленных и соревнующихся друг с другом, каждая из которых характеризовалась специфической совокупностью идей и поведенческих действий" (с. 298). Автор отмечает: 1) произошло разделение на группы, осознающие свою индивидуальность; 2) каждая группа стала именоваться по названию животного, предмета или явления природы и 3) использовать это название в переговорах с чужими; 4) появились изображения своей эмблемы на коллективном оружии и на транспортн ы х средствах либо в качестве личного украшения; одновременно был установлен запрет на употребление ее другими группами; 5) установилось почитание "патрона" и его изобразительного воспроизведения; 6) укрепилась вера в его защитительную роль и его значимость в качестве предзнаменования. "Практически нет исследователя, который, встретившись с этим состоянием вещей в нецивилизованной популяции, поколебался бы снова увязать подобную совокупность верований и обычаев с тотемическим комплексом... Несомненно, содержание здесь еще очень бедное при сопоставлении его с высокоразвитым тотемизмом австралийцев и меланезийцев, но оно настолько же богато, как тотемические комплексы североамериканских племен. Главное отличие по отношению к истинному тотемизму проистекает от отсутствия брачных правил и отсутствия веры в связь по происхождению или в простое родство с тотемом". Однако, отмечает Линтон в заключение, эти верования являются функцией скорее клановой организации, чем собственно тотемизма, так как они не всегда сопровождают последний. Все до сих пор упомянутые критические работы — американские; не потому, что мы отводим американской этнологии привилегированное место, а в силу того исторического факта, что расщепление тотемичес-кой проблемы началось и доминировало в США (несмотря на несколько пророческих страниц Тайлора, оставшихся без отклика, к которым мы еще вернемся), чему там упорно следовали. Чтобы убедиться, что речь не идет лишь о локальном процессе, нужно кроме США хотя бы бегло рассмотреть и эволюцию идей в Англии. В 1914 г. один из известных теоретиков тотемизма, У. Г. Р. Риверс, определил его как сращение трех элементов. Социальный элемент: связь животного, какого-либо вида растений либо неодушевленного объекта или класса неодушевленных объектов с определенной группой общности и, что типично, с экзогамной или клановой группой. Психологический элемент: вера в родство между членами группы и животным, растением либо предметом, часто выражающаяся в убеждении, что данная человеческая группа преемственно происходит от этого тотема. Ритуальный элемент: почитание, оказываемое животному, растению или предмету, проявляющееся обычно в запрете на его потребление или использование, кроме как при определенных оговорках (Rivers, vo l . II, р. 75). Поскольку идеи современных английских этнологов будут анализироваться и дискутироваться на протяжении всей этой работы, то проти-вопоста в им Риверсу лишь находящийся в обиходе учебник: "Мы видим, что термин "тотемизм" применен к неимоверному разнообразию отношений между человеческими существами и природными видами или природными явлениями. Невозможно достичь удовлетворительного определения тотемизма, хотя это часто пытались сделать... Любое определение тотемизма является либо столь специфическим, что исключает многие системы, называемые все же в обиходе "тотемически-ми", либо столь общим, что включает в себя всякого рода явления, которые нельзя было бы так обозначить" (Piddington, р. 203—204). И затем — наиболее недавний консенсус, каковой выражен в шестом издании "Заметок и вопросов по антропологии" (195 1 ), коллективном труде, опубликованном Королевским антропологическим институтом *: "В наиболее широком смысле можно говорить о тотемизме, когда: 1) племя или группа... образовано (тотемическими) группами, каждая из которых вступает в определенные отношения с каким-либо классом существ (тотем), одушевленных либо неодушевленных; 2) все отношения между социальными группами и существами или предметами — одинакового типа; 3) никакой член группы не может (за исключением специальных обстоятельств, таких, как усыновление) изменять свою групповую принадлежность".
Три вспомогательных условия добавлены к этому определению: "... понятие тотемической связи подразумевает, что такая связь подтверждается между любым членом вида и любым членом группы. Как общее правило, члены одной и той же тотемической группы не могут вступать в брак друг с другом. Часто наблюдаются обязательные поведенческие правила... иногда — запрет на потребление тотемического вида; иногда — применение терминов специального обращения, использование украшений или эмблем и предписанное поведение..." (с. 192). Это определение более сложное и детализированное, чем у Риверса. Хотя и то и другое включает в себя три пункта. Но три пункта "Заметок и вопросов" отличаются от таковых у Риверса. Пункт 2 (вера в родство с тотемом) исчез; пункты 1 и 3 (связь между природным классом и группой, "типично" экзогамной; пищевой запрет как "типичная" форма почитания) помещены наряду с другими возможными случаями среди вспомогательных условий. В свою очередь, "Заметки и вопросы" выделяют в туземном мышлении два ряда: один — "природный", другой — социальный; гомологию отношений между терминами обоих рядов; постоянство этих отношений. Иначе говоря, от тотемизма, которому Риверс хотел придать содержание, уже сохраняется лишь форма: "Термин "тотемизм" применяется к форме социальной организации и к магико-религиозной практике, характеризуемой ассоциацией определенных групп (обычно кланов или линий) внутри племени с определенными классами одушевленных или неодушевленных предметов, при том, что каждая группа ассоциируется с определенным классом" (там же). Но эта осторожность относительно употребления понятия, сохранить которое соглашаются, лишь опустошив его сущность и как бы развоплотив, проявляется в еще большей степени в предостережении, которое Лоуи адресует вообще изобретателям институтов: "Следует знать, сравниваем ли мы реальности культуры или только образы, происходящие из наших логических способов классификации ' (Lowie 4, р. 41). Переход от конкретного определения тотемизма к формальному его определению фактически начинается у Боаса. Еще с 1916 г. он оспаривал как Дюркгейма, так и Фрэзера в том, что феномены культуры могут быть приведены к единству. Понятие "миф" — это категория нашего мышления, произвольно используемая нами, чтобы объединить под одним и тем же термином попытки объяснить природные феномены, творения устной литературы, философские построения и случаи возникновения лингвистических процессов в сознании субъекта. Так и тотемизм искусственное единство, существующее лишь в мышлении этнолога и которому вовне ничего специфического не соответствует. В тотемизме смешивают две проблемы. Во-первых, проблему идентификации человеческих существ с растениями или животными, отсылающую к весьма общим взглядам на отношения человека и природы; таковые интересуют искусство и магию, а также общество и религию. Вторая проблема — использование в поименовании групп, основанных на родстве, животных, растительных или других названий. Термин "тотемизм" покрывает лишь случаи совпадения обеих проблем. Оказывается, что в некоторых обществах распространена тенденция постулировать интимные отношения между человеком и существами либо природными объектами, которая используется для конкретного определения классов или родственников или считаемых таковыми. В целях существования таких классов в специфической и устойчивой форме требуется, чтобы подобные общества обладали стабильными брачными правилами. Следовательно, можно утверждать, что так называемый тотемизм всегда предполагает определенные формы экзогамии. Здесь Ван Геннеп исказил Боаса: тот пытается утверждать логический и исторический приоритет экзогамии над тотемизмом, не настаивая на том, чтобы тотемизм был ее результатом или следствием. Сама экзогамия может мыслиться и практиковаться двумя способами. Эскимосы сводят экзогамную единицу к семье, определяемой реальными узами родства. Хотя состав каждой единицы строго фиксирован, демографическая экспансия вызывает создание новых единиц. Группы статичны. Поскольку они определяются по содержанию понятия, то у них нет возможности к интеграции, и они существуют при условии проецирования, если можно так выразиться, индивидов вовне. Эта форма экзогамии несовместима с тотемизмом, так как общества, где она применяется, лишены — по крайней мере в этом плане — формальной структуры. Напротив, если экзогамная группа сама способна к расширению, то форма групп остается постоянной, но каждая из них увеличивается по составу. Становится невозможным определить принадлежность к группе прямо, посредством эмпирических генеалогий. Отсюда необходимость: 1) недвусмысленного правила филиации, такого, как унилатеральная филиация; 2) названия или хотя бы отличительного знака, передаваемого посредством филиации и замещающего знание о реальных связях. Как правило, в обществах последнего типа происходит постепенное уменьшение числа образующих их групп, поскольку демографическая эволюция влечет за собой угасание некоторых из них. При недостатке институционального механизма, позволяющего расщеплять расширяющиеся группы, что восстановило бы равновесие, такая эволюция приводит к формированию обществ, которые сводятся к двум экзогамным группам. Это может быть началом так называемых дуальных организаций. С другой стороны, отличительные знаки в каждом обществе должны быть формально одного* и того же типа, различаясь при этом по содержанию. Иначе какая-то группа определялась бы по названию, другая — по ритуалу, третья — по геральдике... Впрочем, такие случаи встречаются действительно редко, доказывая, что критический анализ Боаса простирался недостаточно далеко. Но он находился на верно м пути, заключая: "... гомология в отличительных знаках социальных подразделений внутри одного племени доказывает, что их использование имеет своим источником тенденцию к классификации" (Boas 2, р. 323). В итоге тезис Боаса, не признанный Ван Геннепом, возвращается к тому, что образование какой-либо системы является в социальном плане необходимым условием тотемизма. Именно в связи с этим ис ключаются эскимосы, у которых социальная организация несистемати ческая, и требуется унилинеарная филиация, поскольку лишь она од на структуральна (к ней можно добавить билинеарную филиацию, явля ющуюся развитием первой путем усложнения, но ее часто о ш ибочно смешивают с недифференцированной филиацией). То, что система прибегает к животным и растительным названиям. можно считать частным случаем способа дифференцированного поиме нования, характерные черты которого сохраняются, каков бы ни был тип используемого обозначения. Возможно, именно здесь формализм Боаса теряет цель: ибо если обозначенные объекты должны, по его утверждению, составить систему. то способ обозначения, чтобы полностью выполнить свою функцию, сам также должен быть систематичным. Правило гомологии, сформулированное Боасом, слишком абстрактно и лишено содержания, чтобы удов летворить этому требованию. Известны общества, не соблюдающи е правило гомологии. Это не исключает, однако, что используемые ими более сложные дифференциальные промежутки также образуют систему. Наоборот, вопрос состоит в том, чтобы узнать, почему животное и рас тительное царства представляют привилегированную номенклатуру для обозначения социологической системы и какие отношения логически существуют между обозначающей и обозначаемой системами. Животный и растительный мир используются не только потому, что они ест ь в наличии, а потому, что они предлагают человеку способ мышления Сцепление между отношением человека к природе и характеристико й социальных групп, которое Боас оценивает как случайное и произволь-ное, кажется таковым лишь потому, что реальная связь между двумя порядками непрямая, она проходит через Разум. Разум постулирует гомологи ю не столько в рамках денотативной системы, сколько межд у дифференциальными промежутками, существующими, с одной стороны между видом Х и видом Y, а с другой стороны — между кланом "а" и кланом "в". Известно, что изобретателем теории тотемизма был шотландец Ма к Леннан, обосновавший ее в статьях в "Двухнедельном обзоре", озаглавленных "Почитание животных и растений", где имеется знаменита я формула: тотемизм — это фетишизм плюс экзогамия и матрилинейная филиация. Однако потребовалось едва ли не 30 лет, чтобы не только был формулирован критический подход, близкий к тому, что определен в терминах Боаса, но и сделаны дальнейшие шаги, показанны е нами в конце предыдущего раздела. В 1899 г. Тайлор опубликовал в своих "Заметках" десять страниц по тотемизму. Раньше, чем Боас, Тайлор высказал пожелание, чтобы, оценивая место и значение тот е мизма, "учитывали тенденцию человеческого ума исчерпывать универ с ум по с редством классификации (to classify out the universe)" (с. 143). С этой точки зрения тотемизм может определяться как ассоциация какого-либо природного вида и одного человеческого клана. Но, продолжает Тайлор: "То, против чего я не колеблясь протестую, — это способ, каким помещают тотемы в основу религии или близко к тому. Тотемиз м у , к а к таковому, а именно — как побочному продукту теории права, из ъ ятому из огромного контекста первобытной религии, стали приписыват ь значение, несоразмерное его истинной теологической роли" (с. 144). И он заключает: "Более мудрым будет подождать... пока тотем в теолог и ческих схемах человечества не будет приведен к пропорциям, являющи м ся его собственными. И у меня вовсе нет намерения предпринимать обстоятельное обсуждение привлекаемых социологических наблюде н ий для придания тотемизму социологического значения, еще большего, чем в религиозном плане... Экзогамия может существовать, и она де й ствительно существует, без тотемизма... но частота их сочетани я на 3/4 территории земного шара показывает, насколько должно быть древним и эффективным действие тотемов, чтобы консолидировать клан ы и связать их друг с другом вплоть до образования более широкого круга племени" (с. 148). А это есть способ постановки проблемы логической мощи денотативных систем, заимствованных из природных царств. Постановка в качестве темы обсуждения категории, считаемой ложной, всегда чревата риском — удержать в категории реальносте й некую иллюзию благодаря вниманию, которое ей уделяется. Подвергая нападкам плохо обоснованную теорию, критика начинает с того, что о ка зывает ей нечто вроде уважения. Вызванный неосторожно, в надежде решительно предотвратить его, фантом исчезнет, чтобы возникнут ь снова еще ближе к тому месту, где он впервые появился. Возможно, было бы мудрее предоставить возможность уст а релым теориям кануть в забвение и не пробуждать мертвых. Но, с другой стороны, как говорит старина Аркель, история не производит бе с полезных событий4. Если в течение стольких лет великие умы были как бы зачарованы проблемой, кажущейся нам сегодня ирреальной, то несомненно, хоть и в ложном облике, они смутно понимали, что произвольно сгруппированные и плохо проанализированные явления все же з а служивают интереса. Как можно до них добраться, чтобы предложить иную интерпретацию, не попытавши с ь сперва воссоздать шаг за шагом мар ш рут, который, даже если он никуда не привел, будет побуждать к поиску дру г ого пути, а возможно будет способствовать тому, чтобы его наметить?
Занимая с самого начала скептическую пози ц ию относительно реальности тотемизма, мы считаем нужным уточнить, что будем употреблять термин "тотемизм" так, как он упоминается у авторо в рассматриваемых трудов. К тому же неудобно все в ремя брат ь это слово в кавычки или прибавлять к нему эпитет "так называемый". Потребность в диалоге вынуждает идти на словесные уступки. Но и кавычки, и эпитет будут всегда нами подразумеваться. Отмечая это, попытаемся определить в наиболее общих аспектах то семантическое поле, внутри которого располагаются явления, обычно объединенные под словом "тотемизм". В этом случае, как и в других, метод, которому мы намереваемся следовать, со с тоит в том, чтобы: 1) определить и с следуемое явление как отношение между двумя или более терминами, реальными либо потенциальными; 2) составить таблицу возможных замещений между терминами; 3) принять эту таблицу в качестве общего объекта анализа, лишь на этом уровне способного достигать необходимых связей, в качестве эмпирического феномена — одной из возможных комбинаций, целостная с истема которых должна быть предварительно реконструирована5.
Термин "тотемизм" покрывает отношения, идеально установленные между двумя рядами, одним — природным, а другим — культурным. Природный ряд включает в себя, с одной стороны, категории, а с другой стороны, индивидов; культурный ряд включает в себя группы личности. Все эти термины выбраны произвольно, чтобы различить внутри каждого ряда два способа существования, коллективный и индивидуальный, и чтобы избежать смешения рядов. На данной предварительной стадии можно было бы использовать любые термины, лишь бы они были различными:
Имеется четыре способа объединить по два термины, относящиеся к разным рядам, то е с ть удовлетворить при минимальных условиях отправной гипотезе о том, что существует отношение между двумя рядами:
Каждому из этих четырех сочетаний соответствуют наблюдаемые феномены в одной или нескольких популяциях. Австралийский тотемизм в своих разновидностях — так называемый "социальный" и "половой" — постулирует отношения между природной категорией (животный или растительный в и д либо класс предметов или явлений) и культурной группой (фратрия, секция, подсекция, религи о зное братство или совокупность людей одного и того же пола). Второе сочетание соответствует "индив и дуальному" тотемизму индейцев Северной Америки, у которых индивид посредством испытаний стремится заполучить природную категорию. В качестве примера третьего сочетания приведем племя моту на островах Банкса, где ребенок считается инкарнацией животного или растения, найденного либо съеденного матерью в тот момент, когда она узнает о своей беременности. Можно добавить пример, касающийся некоторых племен группы алгонкин, полагающих, что устанавливается особое отношение между новорожденным и тем животным, которое первым приблизится к семейной хижине. Сочетание группа—индивид обнаруживается в Полинезии и в Африке, всякий раз определенные животные (ящерицы-охранители в Новой Зеландии, священные крокодилы и "дикая полосатая кошка" — лев или пантера в Африке) являются объектом коллективного покровительства и почитания. Вероятно, у древних египтян имелись верования этого типа, им сродни также верования сибирских онгонов, хотя там идет речь не о реальных животных, а об изображениях, с которыми группа обращается, как если бы они были живыми6.
Логически четыре сочетания являются эквивалентными, поскольку они порождены одной и той же операцией. Но лишь первые два из них включены в атмосферу тотемизма (еще дискутировалось, какое из них первично, а какое — производно), тогда как два других не имели к тотемизму прямого отношения: одно привязано к нему в качестве заготовки (как сделал Фрэзер для моту), а другое — в качестве пережитка. Многие авторы предпочитают вовсе оставить их без рассмотрения. Итак, тотемическая иллюзия происходит прежде всего от искажения семантического поля, которому принадлежат феномены одного и того же типа. Некоторые аспекты этого поля получили привилегированное положение в ущерб другим, в результате чего им приписывалась не свойственная им в действительности оригинальность и необычность: ведь их представляли загадочными лишь в силу того, что их изъяли из системы, интегральную часть которой они составляли в качестве ее преобразований. Отмечались ли они хотя бы большим "присутствием" и когерентностью, чем у других аспектов? Достаточно рассмотреть примеры (в первую очередь те, что лежат у истока всех спекуляций по тотемизму), для того чтобы убедиться, что их мнимая значимость проистекает из дурной категоризации реальности. Известно, что слово totem образовано от языка оджибве — алгон-кинского языка из региона к северу от Великих озер Северной Америки. Выражение ototeman, приблизительно означающее "он принадлежит моей родине", разбивается на: начальное о — суффикс третьего лица, эпентезу -t-, чтобы не допустить слияния гласных, притяжательного показателя -m -, -an- суффикса третьего лица; наконец, -ote-, которое выражает родство между "Я" и кузеном мужского либо женского пола, следовательно, определяет экзогамную группу на уровне поколения субъекта. Таким образом выражали клановую принадлежность: makwa nindotem — "медведь — мой клан"; pindiken nindotem — "Входи, мой брат по клану" и т. д. Действительно, кланам оджибве присущи в особенности имена животных. Тавне — французский миссионер, живший в Канаде в конце XVIII — начале XIX в., — объяснял это памятью о животном из той местности, откуда тот или иной клан произошел: о самом красивом, самом дружественном, наиболее опасном, наиболее часто встречаемом, а также о том, на кого обычно охотились (Cuoq, р. 312—313). Эту систему коллективного поименования не надо смешивать с верованием, встречаемым у тех же оджибве: каждый индивид может вступать в связь с животным, которое станет его духом-охранителем. Единственно засвидетельствованный термин, обозначающий этого индивидуального духа-охранителя, был транскрибирован как nigouimes путешественником середины XIX в. У него нет ничего сходного со словом тотем или другим выражением того же типа. Действительно, изучение оджибве доказывает, что первое описание так называемого института тотемизма — благодаря английскому купцу и переводчику Лонгу — проистекает от смешения кланового словаря (где животные имена соответствуют коллективным названиям) и верований, связанных с духами-охранителями (являющимися индивидуальными по к ровителями) (Handbook of North America n Indians, art. "Totemism"). Такое положение еще отчетливее можно выявить при анализе общества оджибве. Индейцы этого племени объединены в несколько десятков, кажется, патрилинейных и патрилокальных кланов; пять из них, возможно, были более древние, чем прочие, или, во всяком случае, обладали особым престижем. "Миф объясняет, что эти пять "изначаль н ых" кланов восходят к шести сверхъестественным антропоморфным существам, вышедшим из океана, чтобы соединиться с людьми. У одного из них были завязаны глаза, и он не осмеливался смотреть на индейцев, хотя, как обнаружилось, испытывал к ним огромный интерес. Будучи не в состоянии удержаться, он наконец приподнял повязку, и его взгляд упал на человека, который моментально умер, как бы пораженный молнией. Ибо, несмотря на дружеское расположение гостя, его взгляд обладал необыкновенной силой. Спутники заставили его вернуться в морские глубины. Пятеро же остались среди индейцев и снискали их большую благосклонность. Они стоят у истока великих кланов, или тотемов: рыбы, журавля, нырка, медведя, лося или куницы" (Warren, р. 43—44). Невзирая на изувеченный вид, в каком этот миф дошел до нас, он представляет значительный интерес. Согласно ему, прежде всего, невозможно прямое, непосредственное отношение между человеком и тотемом. Единственно возможная связь между ними должна быть "замаскированной", следовательно, метафоричной. В соответствии с засвидетельствованными в Австралии и в Америке фактами, тотемное животное иногда обозначается другим именем, а не тем, к о торое принадлежит реальному животному, так что название клана обычно не вызывает в сознании туземцев непосредственной зоологической или ботанической ассоциации. Во-вторых, миф устанавливает и другую оппозицию, между личной связью и коллективной. Индеец умер не только от того, что на него посмотрело сверхъестественное существо, но также от факта странного поведения этого последнего, поскольку другие существа действуют более скромно и в группе. При таком двойном отношении тотемическая связь имплицитно о т личается от связи с духом-охранителем, предполагающей прямой к онтакт, увенчивающий индивидуальные и уединенные поиски. Итак, именно сама концепция туземцев, как ее выражает миф, предлагает нам отделить коллективные тотемы от индивидуальных духов-охранителей и обосновывает опосредованный и метафорический характер связи между человеком и клановым эпонимом. Наконец, она предостерегает против попытки сконструировать тотемическую систему путем добавления связей, каждая из которых взята отдельно, всякий раз объединяя одну группу людей с одним животным видом, тогда как изначальной является связь между двумя системами: одной — основанной на различении групп и другой — на различении видов; таким образом, с самого начала берутся, в корреляции и оппозиции, с одной стороны, множество групп, а с другой стороны — множество видов. Согласно данным Уоррена, который сам был выходцем из племени оджибве, пять основных кланов породили остальные кланы: Рыба: дух воды, сом, щука, осетр, лосось Великих озер, пескоройка (рыба-прилипала); Журавль: орел, ястреб; Нырок: чайка, баклан, дикий гусь; Медведь: волк, рысь; Лось: куница, олень, бобр. В 1925 г. Михельсон отметил следующие кланы: куница, нырок, орел, лосось, медведь, осетр, рысь, журавль, курица. Через несколько лет в другом регионе (озеро Старая пустыня) Киниц обнаружил шесть кланов: дух воды, медведь, сом, орел, куница, курица. К этому списку он прибавил два недавно исчезнувших клана: журавля и какой-то неопределенной птицы. Женнес в 1929 г. восстановил ряд "птичьих" кланов у восточных оджибве острова Парри (в бухте Джорджия, часть озера Гурон): журавль, нырок, орел, чайка, ястреб, ворон; восстановил ряд кланов "млекопитающих": медведь, карибу, лось, волк, бобр, выдра, енот - полоскун, вонючка; ряд кланов "рыб": осетр, щука, сом. Имелся еще один клан — лунный полумесяц и целый ряд имен, соответствующих гипотетическим или исчезнувшим кланам региона: белка, черепаха, куница, пекан, норка, береста. Кланов, которые еще существовали, было шесть: олень, бобр, выдра, нырок, сокол, ястреб. Возможно также, что деление было на пять групп, путем подразделения птиц на "небесных" (орел, ястреб) и "водоплавающих" (все прочие); и млекопитающих — на "сухопутных" и "водяных" (тех, что населяют заболоченные зоны, подобно оленевым Канады, либо тех, что ловят рыбу, — пекан, норка и т. д.) . Как бы то ни было, среди индейцев оджибве никогда не отмечались верования, основанные на убеждении, что члены клана были потомками тотемного животного, и оно не было предметом культа. Так, Ландес отмечает, что, хотя карибу совершенно исчезло из Южной Канады, это нисколько не беспокоило членов клана, обозначенного им. "Это лишь имя", — говорили они исследователю. Тотема свободно убивали и ели с соблюдением ритуальных предосторожностей: предварительное испрашивание у животного позволения на охоту на него и ретроспективные извинения перед ним. Оджибве даже утверждали, что животное охот н ее подставляет себя под стрелы охотников из своего клана и что, следовательно, удобней обратиться по имени к тотему, прежде чем на него бросаться. Курица и свинья — животные, завезенные европейцами, поэтому их наименования использовались для того, чтобы приписать условный клан метисам, потомкам индейской женщины и белого мужчины (по причине патрилинейной филиации и что по-иному лишало их клана). Иногда также метисов приписывали к клану орла, поскольку эта птица фигурирует в гербе США и известна индейцам по изображению на монетах. Сами кланы подразделялись на группы, названные по частям тела кланового животного: голова, лапы, подкожный жир и т. д . Собрав и сопоставив сообщения из многих регионов (каждый из которых предоставляет лишь частичный список, кланы не всюду равно представлены), угадываем трехчастное деление: вода (дух воды): сом, щука, пескоройка, осетр, лососевые и т. д ., то есть все кланы "рыб "); воздух (орел, ястреб, а также журавль, нырок, чайка, баклан, гусь и т. д .); земля (прежде всего группа: карибу, лось, олень, куница, бобр, енот-полоскун; затем пекан, норка, вонючка, белка; наконец, медведь, волк, рысь). Место у змеи и черепахи остается неопределенным. Система "духов", или манидо, полностью отличается от системы тотемических наименований, действующей по принци п у эквивалентности. Она представляется в виде иерархизированного пантеона. Несомненно, у алгонкин существует иерархия кланов, но она не покоится на верховенстве или подчиненности, приписываемом животным эпонимам, разве что в шутку: "Мой тотем — волк, а твой — свинья. Берегись! Волки поедают св и ней!" (Hilger, р. 60). Самое большее, наблюдались попытки физической и моральной специализации, образного выражения специфических свойств. Система же "духов" была отчетливо упорядочена по двум осям: ось больших и малых духов, с одной стороны, и ось благотворных и зловредных духов — с другой. Н а вершине — великий дух, затем его служители, за ними в нисходящем порядке — морально и физически — солнце и луна; 48 громов, противопоставляющихся мифологическим змеям; "малые невидимые индейцы"; духи воды, мужские и женские; четыре стороны света; наконец, полчища манидо, поименованных и не поименованных, которые часто посещают небо, землю, водные пространства и подземный мир. Следовательно, в каком-то смысле две системы — "тотемы" и "манидо" — перпендикулярны, одна как бы горизонтальна, другая — вертикальна. Они совпадают лишь в одном пункте: духи воды — единственные недвусмысленно фигурируют и в той и в другой системе, что, возможно, объясняет, почему сверхъестественные духи в мифе, который мы кратко изложили, ответственные и за тотемические названия, и за деление на кланы, описываются как вышедшие из океана. Из системы "манидо" происходят все пищевые запреты, отмеченные у оджибве, и все они излагаются одинаково: запрет индивиду, полученный во сне от определенного духа, на потребление такого-то мяса либо такой-то части тела животного, например мяса дикобраза, языка лося и т. д. Животное, которое имеется в виду, не обязательно фигурирует в репертуаре клановых наименований. К тому же обретение духа-охранителя увенчивало строго индивидуальное предприятие, к которому девочки и мальчики побуждались на подступах к половому созреванию. В случае успеха они добывали себе сверхъестественного покровителя, чьи характерные черты и обстоятельства появления служили одновременно и знаками, уведомляющими подопечных об их способностях и призвании. Эти преимущества проявлялись постоянно при условии, что по отношению к покровителю подопечные вели себя послушно и скромно. Несмотря на все эти различения, допущенное Лонгом смешение тотема и духа-охранителя объясняется отчасти тем фактом, что последний никогда не был "каким-либо млекопитающим или особенной птицей, каких можно было бы повседневно наблюдать вблизи вигвама, но сверхъестественным существом, представлявшим весь вид" (Jenness, р. 54). Перенесемся теперь в другую часть света вслед за Раймондом Фир-том, чьи исследования внесли значительный вклад в освещение чрезвычайной сложности и гетерогенного характера верований и обычаев, слишком поспешно объединенных под тотемическим ярлыком. Эти исследования тем более показательны, что они касаются одного региона — Тикопия, который, как считал Риверс, предоставляет нам лучшее доказательство существования тотемизма в Полинезии. Однако, отмечает Фирт, перед тем как выдвинуть такую претензию, "... следует знать, если речь идет о людях, охватывает ли связь (с природными видами или объектами) популяцию в целом или касается лишь некоторых лиц, и, если дело касается животных либо растений — охватывает ли такая связь вид целиком или лишь отдельных индивидов; берется ли природный объект в качестве представителя или в качестве эмблемы человеческой группы; подтверждается ли, в той или другой форме, понятие тождества (с одной стороны — личности, а с другой — природного создания или объекта) и филиации, их объединяющей; наконец, направлен ли интерес, засвидетельствованный к животному или растению, непосредственно на них, или он скорее объясняется их предполагаемой ассоциацией с духами-предками или божествами. В последнем случае необходимо понять концепцию, производимую туземцами из такой связи" (Firth 1, р. 192). Этот текст подсказывает, что к двум осям: группа — индивид природа — культура, уже выделенным нами, должна быть добавлена третья, по которой упорядочены различные мыслимые типы отношений между крайними терминами двух первых осей: эмблематическое, о т ношение отождествления, филиации, интереса, прямое либо нет и т. д, Общество у тикопия содержит четыре патрилинейные (не обязательно экзогамные) группы — так называемые кайнанга, — каждой из которых руководит глава, или арики, поддерживающий привилегированные отношения с атуа. Этот термин обозначает, собственно говоря, божество, а также духов-предков, души прежних глав и т. п. Что касается туземной концепции природы, в ней доминирует фундаментальное различие между "вещами съедобными" — э кай — и "вещами несъедобными" — сизе э кай . "Съедобные вещи" представляют собой преимущественно растительную пищу и рыбу. Среди растений четыре вида обладают первостепенной значимостью, поскольку каждый из них имеет особую близость с одним из четырех кланов: ям е "слушает", "подчиняется" са кафика; и такая же связь превалирует между кокосовой пальмой и кланом са тафуа, таро — и кланом са таумако, хлебным деревом и кланом са фангарере. Как и на Маркизских островах, растение считается непосредственно принадлежащим клановому божеству (воплощенному в одной из многих разновидностей пресноводного угря или в одном из прибрежных рифов), и земледельческий ритуал представляется прежде всего как побуждение божества. Следовательно, роль главы клана состоит главным образом в "контроле" над растительным видом. Следует также провести различение между видами: посадка и урожай ямса и таро, урожай плодов хлебного дерева имеют сезонный характер. Этого нет у пальм, произвольно умножающихся, орехи которых созревают весь год. Этому различию соответствует, вероятно, и различие в формах контроля: все кланы владеют плантациями, возделывают их, собирают урожай первых трех видов, очищают и потребляют их плоды; и лишь в одном клане — выполняются обряды. Однако для пальм нет особенного кланового ритуала, и клан тафуа, контролирующий их, подчиняется некоторым табу: чтобы выпить молоко ореха, члены клана должны проткнуть отверстие в кожуре, а не ломать ее; чтобы разбить орехи и извлечь оттуда мякоть, они могут пользоваться только камнем, исключая любой изготовленный инструмент. Эти действия интересны тем, что наводят на мысль о корреляции между ритуалами и верованиями, с одной стороны, и определенными объективными условиями — с другой. Они также служат подтверждением критики, высказанной нами по поводу правила гомологии Боаса,. поскольку три клана выражают свое отношение к природным видам посредством ритуала, а четвертый — посредством запретов и предписаний. Итак, если гомология существует, то ее следует искать на более глубоком уровне. Как бы там ни было, ясно, что связь людей с определенными растительными видами выражается у тикопия в двояком плане; социологическом и религиозном. Как и у оджибве, миф имеет задачей унифицировать оба аспекта: "Давным-давно боги не отличались от людей, и боги были прямыми представителями кланов на земле. Однако случилось, что один чужой бог, Тикарау, навестил тикопия, и боги страны подготовили для него роскошное пиршество. Но до этого они провели между собой соревнования в силе и скорости, чтобы помериться этим же со своим гостем. На бегу тот нарочно споткнулся и заявил, что он ранен. Притворяясь, что хромает, он подскочил тем не менее к сваленной в кучу пище и унес ее по направлению к холмам. Семейство богов отправилось в погоню за ним. На этот раз Тикарау и вправду упал, и клановые боги смогли получить от него назад: один — кокосовый орех, другой — таро, третий — плод хлебного дерева, а остальные — ям е ... Тикарау удалось достичь неба с пищей, приготовленной для пира, но четыре растительных продукта были спасены для людей" (Firth 1, р. 296 )*
Как бы этот миф ни отличался от мифа оджибве, они имеют некоторые общие моменты, которые следует подчеркнуть. Прежде всего, отметим ту же самую оппозицию между индивидуальным и коллективным поведением: относитель н о тотемизма первое оценивается негативно, а второе — позитивно. В обоих мифах индивидуальное враждебное поведение проистекает от нескромного, алчного бога (впрочем, не без сходства со скандинавским Локи, в совершенстве изученным Ж. Дюмезилем)7. В обоих случаях тотемизм как система базируется на остатке от обедненной совокупности. Термины системы представляют ценность, если только они отдалены друг от друга, поскольку лишь они остаются для обставления первоначально лучше заполненного семантического поля, где введена прерывистость. Наконец, оба мифа подсказывают, что прямой контакт, то есть смежная связь (в одном случае между богами- тотемами и людьми, а в другом — между богами-людьми и тотемами), противоположен духу института: тотем становится таковым лишь при условии, что вначале он отдален.
У тикопия категория "съедобных вещей" включает и рыб. Однако не отмечается никакой прямой ассоциации между кланами и потребляемыми в пищу рыбами. Вопрос усложняется с введением в оборот богов. С одной стороны, четыре растения почитаются священными, поскольку они "представляют" богов — ям е является "телом" Кафики, таро — Таумако; плод хлебного дерева и кокосовый орех суть "голова" соответственно Фангарере и Тафуа; но, с другой — боги "являются" рыбами, а конкретно — угрями. Следовательно, мы обнаруживаем в смещенном виде различие между тотемизмом и религией, косвенно выступавшее перед нами в оппозиции сходства и смежности. Как и у оджибве, тотемизм тикопия выражается посредством метафорических связей. Напротив, в религиозном плане связь бога с животным — метонимического порядка. Во-первых, потому что, как считается, атуа входит в животное, но не преобразуется в нем; затем, потому что никогда речь не идет о тотальности вида, а лишь об отдельном животном (следовательно, о части вида), которое, благодаря своему нетипичному поведению служит проводником бога. Наконец, такого рода ассоциация осуществляется лишь временами, не постоянно и даже в исключительных случаях, в то время как связь — более отдаленная — между растительным видом и богом имеет постоянный характер. Исходя из последнего, можно было бы сказать, что метонимия соответствует порядку события, а метафора — порядку структуры (см. об этом моменте: Jakobson et Halle, chap. V )* .
To, что съедобные растения и животные сами не являются богами, подтверждается другой фундаментальной оппозицией: между атуа и пищей. Именно несъедобные рыбы, насекомые и рептилии обозначаются как атуа потому, подсказывает Фирт, что "создания, не пригодные к потреблению, происходят не из обычного порядка природы... В случае животных, следовательно, как раз несъедобные ассоциируются со сверхъестественными существами" (с. 300). Итак, продолжает Фирт, если "мы должны трактовать все эти явления как составляющие тотемизма, то надо будет признать, что у тикопия имеются две отличающиеся друг от друга формы этого института: одна позитивная, относящаяся к растительным продуктам, акцентирующая плодовитость; другая негативная, касающаяся животных и ставящая на первое место тех из них, которые непригодны в пищу". Амбивалентность, приписываемая живот н ым, выступает еще отчетливее, ибо боги практикуют множество форм животной инкарнации. Для са тафуа клановый бог — угорь, способствующий созреванию кокосовых орехов у своих приверженцев; он может также превратиться в летучую мышь и в качестве таковой истребить пальмовые рощи других кланов. Отсюда и пищевой запрет, касающийся летучих мышей, камышни ц ы и других птиц и, наконец, рыб, состоящих в тесной связи с определенными божествами. Эти запреты, которые могут быть общими либо ограничиваться каким-либо кланом, линией, не имеют, однако, тотеми-ческого характера: голубь, близкий клану таумако, не употребляется в пищу, но его не колеблясь истребляют, поскольку он грабит огороды. Для старших членов клана этот запрет ослаблен. За отдельными верованиями и запретами вырисовывается фундаментальная схема; ее формальные свойства существуют независимо от связей между таким-то животным или растением и таким-то кланом или линией, по поводу которых она проявляет себя. Так, дельфин имеет особую близость с линией корокоро клана тафуа. Когда животное оказывается выброшенным на песчаную отмель, эта семья преподносит ему свежеприготовленную растительную пищу, называемую путу — "приношение на могилу недавно умершего". Мясо дельфина затем варится и делится между кланами, исключая данную семью, для которой оно является many, поскольку дельфин — это инкарнация, предпочитаемая их атуа. По правилам разделки голова предназначается фангарере, хвост — тафуа, передняя часть тела — туамако, а задняя — клану кафика. Итак, два клана, чей растительный вид (ям е и таро) является "телом" бога, имеют право на "телесные" части, а два, чей вид (плоды кокосовой пальмы и хлебного дерева) есть "голова" бога, получают оконечности (голову и хвост). Система отношений когерентно распространяется на ситуацию, которая на первый взгляд может показаться совершенно ей чу ж дой. Как и у оджибве, вторая система отношений со сверхъестествен н ым миром, подразумевающая пищевые запреты, сочетается с формальной структурой, оставаясь при этом отчетливо отличной, тогда как тотемическая гипотеза повела бы к их смешению. Обожествляемые виды, объекты этих запретов, образуют системы, отдельные от системы с тановых функций (которые имеют отношение к потреблению растений): так, осьминог уподобляется горе, чьи струящиеся потоки как бы являются щупальцами, и потому же — солнцу с его лучами; угри, озерный и морской, составляют объект столь сильного пищевого запрета, что одно лишь их изображение иногда вызывает рвоту. Следовательно, вместе с Фиртом можно заключить, что у тикопия животное не мыслится ни как эмблема, ни как предок, ни как родственник. Почитание, запреты, объектом которых могут быть определенные животные, объясняются комплексно — троякой идеей, что группа произошла от какого-то предка, что бог воплощается в животном и что в мифологические времена существовала брачная связь между предком и богом. Рикошетом приходит почитание животного. С другой стороны, установки относительно растений и животных противопоставлены друг другу. Существуют земледельческие обряды, но отсутствуют обряды рыболовства или охоты. Для людей атуа проявляются в животном облике и никогда — как растение. Пищевые запреты, когда они имеются, касаются животных, а не растений. Связь богов с растительными видами является символической, а с животными видами — реальной. По отношению к растениям она устанавливается на уровне вида, тогда как животный вид никогда не есть атуа, но лишь такое-то животное при таких-то особенных обстоятельствах. Наконец, растения, "маркированные" дифференциальными поведенческими действиями, всегда съедобны, тогда как с животными дело обстоит наоборот. Признавая почти слово в слово формулу Боаса, Фирт из беглого сопоста в ления данных по тикопия с совокупностью полинезийских наблюдений приходит к выводу, что тотемизм — это не явление sui generis, а частный случай в рамках отношений между человеком и элементами его природного окружения (с. 398). Более удаленные от классической концепции тотемизма данные по маори настолько близки с упомянутыми фактами по тикопия, что они только усиливают доказательность этого вывода. Если какие-то ящерицы почитаются как охранители погребальных пещер и тех деревьев, где ставятся ловушки на птиц, это происходит потому, что ящерица представляет бога Уиро, персонифицирующего болезнь и смерть. Несомненно, существует родственная связь между богами и природными элементами или существами: от союза утеса с водой родились все разновидности песка, гальки, песчаниковых пород и других минералов: нефрита, кремня, лавы, а также насекомые, ящерицы и черви. Бог и богиня Тане-нуи-а-Рангуи Кау-параури породили всех птиц и все плоды леса, Ронго — предок возделываемых растений, Тангароа — рыб, Аумиа — диких растений (Best). "Для маори мир в целом развертывается наподобие гигантской родни, где небо и земля изображают первопредков всех существ и всех вещей: моря, прибрежного песка, деревьев, птиц, людей. Можно сказать, что туземец чувствует себя неловко, если не может (а он того желает) до малейших деталей очертить родственные связи, соединяющие его с рыбами океана либо с путешественником, которому он оказывает гостеприимство. С подлинной страстью высокородный маори проникает в генеалогию, сопоставляя ее с генеалогиями своих гостей, стремясь обнаружить общих предков и разбирая ветви на старшие и младшие. Приводятся примеры людей, память которых сохраняла в полном порядке генеалогию, включавшую до 1400 персон" (Prytz-Johansen, р. 9). Новая Зеландия никогда не приводилась в качестве типичного примера тотемизма. Но она предоставляет предельный случай, позволяющий различить, в чистом виде, взаимно исключающие категории, совместимость которых обязаны были бы подтвердить тотемические гипотезы. Именно потому, что животные, растения и минералы действительно мыслятся маори как предки, они не могут играть роль тотемов. Поскольку в "эволюционистских" мифах Самоа ряд, образованный из элементов, происходящих из трех больших природных порядков, мыслится непрерывным с двоякой точки зрения — генетической и диа- хронной. Однако если природные существа или элементы связаны друг с другом как предки и потомки, а в совокупности все они считаются предками людей, то никто из них по отдельности не в состоянии играть роль предка относительно определенной человеческой группы. Если использовать современную терминологию, тотемизм, где все кланы считаются происходящими от разных видов, должен, следовательно, быть полигенным (тогда как полинезийское мышление моногенно). Но эта полигенность сама носит довольно частный характер, поскольку, как это происходит при некоторых раскладах, тотемизм с самого начала игры открывает все свои карты: уже не держит их в запасе, показывая этапы перехода между животным или растительным предком и его человеческим потомком. Переход от одного к другому, таким образом, необходимо мыслится как прерывистый (впрочем, все переходы одного типа одновременны): поистине "наглядные изменения", исключающие какую бы то ни было ощутимую смежность между начальным и конечным состоянием. Удаленные настолько, насколько это возможно от модели, вызванной природными процессами возникновения, тотемические генезисы сводятся к аппликациям, проекциям или диссоциациям. Они состоят в метафорических отношениях, анализ которых зависит скорее от "этно-логики", чем от "этно-биологии". Сказать, что клан А "нисходит" от медведя, а клан В "нисходит" от орла, — это конкретный и сокращенный способ установить отношение между А и В, аналогичное отношению между видами. Этнография маори, которая помогает вскрыть сме ш ение понятий генезиса и системы, дает также возможность рассеять неясность (происходящую от той же тотемической иллюзии) между понятиями тотема мана. Маори определяет каждое существо либо тип существа по его "природе", или "норме", тика, и по его особой функции, его отличительному поведению, тиканга. Мыслимые, таким образом, дифференциро-данно, вещи и существа различаются посредством тупу, приходящего к ним изнутри, идея которого противопоставляется идее мана, приходящей к ним извне и, следовательно, образующей скорее принцип неразличения и смешения: "Значение мана имеет много общего с понятием тупу, но в одном они целиком разнятся. Оба термина вызывают представление о развитии, деятельности, жизни; но тупу соотносится с природой вещей и человеческих существ — такой, как она выявляется изнутри, тогда как мана выражает сопричастие, активную форму аккомпанемента, который по природе никогда не связан неразрывно с какой-либо отдельной вещью или с отдельным человеком" (Prytz-Johansen, р. 85). Однако и обычаи, относящиеся к табу (many, не надо смешивать с тупу), располагаются в плане прерывистости, не позволяющей создать какой-либо амальгамы (что часто пытались сделать Дюркгейм и его школа) между понятиями мана, тотем табу: "То, что объединяет обычаи many в институт, — это... глубокое почитание жизни, почтительный страх, побуждающий людей то бояться, то чтить. Этот почитающий страх относится не к жизни вообще, а к жизни в ее частных проявлениях и даже не во всех: лишь к жизни, замкнутой ареалом родственной группы, простирающимся на огороды, лес и места рыбной ловли и находящим свое наивысшее выражение в личности главы, а также в его богатствах и его сакральных местах" (Prytz-Johansen, р. 198). ГЛАВА II. Австралийский номинализм В 1920 г. Ван Геннеп насчитал сорок одну различную теорию тотемизма, наиболее важные и поздние из которых, несомненно, основывались на австралийских данных. Неудивительно, что, отправляясь именно от этих данных, А. П. Элькин, выдающийся современный специалист по Австралии, попытался вновь обратиться к проблеме, вдохновляясь эмпирическим и дескриптивным методом и одновременно аналитическим подходом, разработанным несколькими годами раньше Рэдклиф-Брауном . Элькин настолько уплотняет этнографическую реальность, что необходимо сначала напомнить некоторые элементарные данные, без которых невозможно уловить существо его изложения. Несколько замеров остаточной радиоактивности углерода-14 позволили отнести появление человека в Австралии к периоду более отдаленному, чем VIII тысячелетие. Сегодня не допускается мысль, что в течение этого огромного промежутка времени австралийские туземцы пребывали в полной изоляции от внешнего мира: по меньшей мере на северном побережье должны были иметь место многочисленные контакты и обмен с Новой Гвинеей (либо непосредственно, либо через острова Торресова пролива) и с южной Индонезией. Однако вероятно, что австралийские общества в гораздо большей степени, чем другие где-либо в мире, развивались как бы под колпаком. Этим объясняется наличие у них многочисленных общих черт, особенно в сфере религии и социальной организации, и часто характерного распределения видов, происходящих от одного и того же типа. Все так называемые общества "без классов" (то есть без фратрий, секций или подсекций) занимают периферическую позицию — по краям района Дампир, полуострова Арнемленд, залива Карпентария, полуострова Кейп-Йорк, Нового Южного Уэльса, Виктории и Большого Австралийского залива. Такое распределение может объясняться либо тем, что эти формы наиболее архаичны и сохранялись по периметру континента как пережиток, либо (что более правдоподобно) они представляют собой результат распада по краям систем, имевших классы. Общества с матрилинейными фратриями (без секций и подсекций) плотно занимают юг Квинсленда, Новый Южный Уэльс, Викторию и восток Южной Австралии, а также небольшую береговую зону, на юго-западе Западной Австралии. Общества с патрилинейными фратриями (с секциями либо подсекциями) располагаются на севере континента, от Дампир до полуострова Кейп-Йорк. Наконец, организации с четырьмя секциями часто встречаются на северо-западе (регион пустынь и вплоть до западного побережья) и на северо-востоке (Квинсленд). Обе стороны центрального региона занимают организации с восемью подсекциями (от полуострова Арнемленд и полуострова Кейп-Йорк до района озера Эйр на юге). Напомним вкратце, в чем суть этих организаций с "матримониальными классами". Подобное разъяснение едва ли необходимо для фратрий, поскольку таковые определяются простым правилом, что индивид, принадлежащий одной из фратрий (по патрилинейной или матрилиней-ной филиации, поскольку в Австралии встречаются оба случая), обязательно должен взять себе супруга из другой фратрии. Вообразим теперь две группы, проживающие на различных территориях, каждая из которых верна, по-своему, правилу экзогамии фратрий, и допустим, что филиация матрилинейна (поскольку это наиболее частый случай, но противоположная гипотеза дала бы симметричный результат). Чтобы соединиться, эти группы решили, что соответственно их члены могут брать себе супруга лишь в другой группе и что женщина и дети будут помещаться у отца. Назовем эти мат-рилинейные фратрии Дюран и Дюпон и две локальные группы — Париж и Лион. Правилом брака и филиации будет:
что читается: если мужчина Дюран из Парижа женится на женщине Дюпон из Лиона, дети будут Дюпон (как их мать) и из Парижа (как их отец). Вот то, что называется системой с четырьмя секциями, или типа кариера, по названию одного западноавстралийского племени. Перейдем к системе с восемью подсекциями, проводя то же рассуж-дение, но отправляясь от четырех локальных групп вместо двух. Используя символическую запись, где буквы представляют локальные пат-рилинейные группы, а цифры — матрилинейные фратрии и где, каково бы ни было направление прочтения (слева направо или справа налево), первый бином представляет отца, а второй — мать, стрелка соединяет бином матери с биномом детей (так называемая система аранда), получим диаграмму:
Смысл этих правил был хорошо показан Ван Геннепом: "... экзогамия имеет результатом и, возможно, целью связывать между собой некоторые обособленные общества, которые без этого не вошли бы в нормальный контакт, как каменщики Руана и шляпники Марселя. Изучая с этой точки зрения матримониальные таблицы... констатируем, что позитивный элемент экзогамии социально столь же силен, как и негативный элемент, но что здесь, как и во всех кодах, он специфицирует то, что защищается... Институт, в его двух нераздельных аспектах, служит, следовательно, укреплению связанности не столько членов клана между собой, сколько различных кланов с обществом в целом. От поколения к поколению устанавливается матримониальная чехарда, тем более сложная, что племя (политическая единица) существует с давних времен и делится заново, при все большем числе фракций, чехарде и попеременном перемешивании, регулярность и периодическое повторение которых обеспечивает экзогамия" (Ван Геннеп с. 351). Эта интерпретация, совпадающая с нашей (см. "Элементарные структуры родства"8), еще и теперь представляется нам более предпочтительной, чем та, которая поддерживалась Рэдклиф-Брауном вплоть до его последних сочинений и состоявшая в выведении систем с четырьмя секциями из двоякой дихотомии: дихотомии матрилинейных фратрий (не вызывающей вопроса) и дихотомии мужских линий на чередующиеся поколения, поименованные либо непоименованные. Действительно, в Австралии нередко линии мужчин разделяются на две категории: одна охватывает четные поколения, а другая — нечетные, если отсчитывать от поколения субъекта. Таким образом, мужчина будет помещен в ту же категорию, что его дед и внук, тогда как его отец и сын будут принадлежать к альтернативной категории. Саму эту классификацию невозможно интерпретировать иначе, как увидев в ней следствие (прямое либо непрямое) выполнения правил брака и филиации уже в комплексе. Логически это нельзя счесть первичным феноменом. Наоборот, всякое упорядоченное общество, каковы бы ни были его организация и степень сложности, должно определяться так или иначе по местопребыванию; следовательно, законно прибегнуть к особому правилу местопребывания как к структурному принципу. Во-вторых, интерпретация, основанная на диалектике местопребывания и филиации, имеет огромное преимущество, позволяя объединить классические австралийские системы — кариера и аранда — в одну общую типологию, не оставляющую вовне ни одной так называемой нерегулярной системы. Если бесполезно настаивать на втором аспекте, то потому, что эта общая типология основывается исключительно на социологических характеристиках и оставляет в стороне тотемические верования и обычаи. Они занимают вторичное место у кариера, и, хотя того же нельзя сказать об аранда, их тотемические верования и обычаи, как бы важны они ни были, выявляются в плане совершенно отличном от плана матримониальных правил, на которые они, кажется, не влияют.
Оригинальность попытки Элькина как раз состоит в том, чтобы исследовать австралийские общества косвенно, через тотемизм. Он предлагает три критерия для определения тотемической системы: форма, или способ, каким тотемы распределяются между индивидами и группами (по полу либо по принадлежности к клану, фратрии и т. д.); значение — согласно роли, выполняемой тотемом относительно индивида (как помощника, охранителя, компаньона либо символа социальной или культовой группы); наконец, функция, соответствующая роли тотемической системы внутри группы (регламентация браков, социальные и моральные санкции, философия и т. д.). Впрочем, Элькин отводит особое место двум формам тотемизма. "Индивидуальный" тотемизм встречается преимущественно на австралийском юго-востоке. Он подразумевает связь между колдуном и тем или иным животным (обычно рептилиями). Животное оказывает помощь колдуну, с одной стороны, в качестве благодетельного или враждебного фактора, а с другой — как вестник или шпион. Известны случаи, когда колдун демонстрирует прирученное животное как доказательство своей силы. Эту форму тотемизма наблюдали в Новом Южном Уэльсе у камиларои и курнаи, а на Северной территории, до Дампир, ее встречают в виде верования в мифологических змей, живущих внутри тела колдунов. Тождество, постулируемое между тотемом и человеком, влечет за собой пищевой запрет, поскольку употребление в пищу животного было бы равнозначно автоканнибализму. Точнее, зоологический вид выступает как медиаторный термин между душой этого вида и душой колдуна. "Половой" тотемизм существует, начиная от региона озера Эйр вплоть до побережья Нового Южного Уэльса и Виктории. Диери устанавливают связь полов с растениями. Иногда призываются также "птицы": летучая мышь и сова (диери); летучая мышь и дятел (ворими); королек и славка (курнаи); королек и летучая мышь (йуин). Во всех этих племенах упомянутые тотемы служат эмблемой половой группы. Если мужской или женский тотем оказывается ранен представителем другого пола, то вся половая группа чувствует себя оскорбленной и происходит столкновение между мужчинами и женщинами. Эта эмблематическая функция покоится на веровании, что каждая половая группа образует живое сообщество с животным видом. Как говорят вотьобалук: "Жизнь летучей мыши — это жизнь человека". Мало известно, как туземцы интерпретировали это подобие: вера в реинкарнацию каждого из полов в соответствующую животную форму или дружеская либо братская связь, или же при помощи мифов, где фигурируют предки, носящие имена животных. При нескольких редких исключениях, встречаемых на побережье Нового Южного Уэльса и Виктории, половой тотемизм выступает в соединении с матрилинейными фратриями. Отсюда имеет место гипотеза, что половой тотемизм может соответствовать желанию более сильно "маркировать" группу женщин: среди курнаи женщины принуждали слишком сдержанных мужчин к вступлению в брак, убивая мужской тотем; следовало сражение, положить конец которому могла лишь помолвка. Однако Рохейм обнаружил половой тотемизм по течению Финк у некоторых северо-западных аранда и у алуридья. Но аранда имеют патрилинейные фратрии ритуального характера, отделенные от локальных тотемических культов и от тотемизма по форме "зачатия", к которому мы позднее вернемся. Однако другие обычаи или институты имеют сходство с бытующими у курнаи. И у аранда женщины порой обладают инициативой: обычно для определения тотема своего ребенка они сами объявляют о месте его зачатия; и в случае специфически женских ритуальных танцев, и эротического вдохновения. Наконец, по крайней мере в некоторых группах Австралии материнский тотем почитается наравне с тотемом субъекта. Серьезная проблема в австралийском тотемизме возникает в связи с отношением между ним и правилами брака. Мы видели, что последние вводят в оборот — в наиболее простых формах — деление группы на фратрии, секции и подсекции. Ничего не остается, как попытаться интерпретировать этот ряд согласно "натуральному" порядку: 2, 4, 8. Тогда секции будут результатом раздвоения фратрий, а подсекции—раздвоения секций. Но какая роль отводится в этом генезисе собственно тотемичес-ким структурам? И в более общем виде: какие отношения существуют в австралийских обществах между социальной организацией и религией? С этой точки зрения издавна привлекали внимание северные аранда, ибо они обладают тотемическими группами, локальными группами и матримониальными классами, но у них нет никакой четкой связи между этими тремя типами структур, которые кажутся располагающимися в различных плоскостях и функционирующими независимым образом. Зато на границе Восточного Кимберли и Северной территории отмечается сращение социальных и религиозных структур; но ввиду этого первые перестают обеспечивать регламентацию браков. Там все происходит, как если бы "все подсекции, секции и фратрии... [были бы]* тотемическими формами, [средством определения] связей человека [не с обществом, но] с природой..." (Elkin 2, р. 66).
Действительно, в этом регионе при разрешении или запрещении брака исходят не из принадлежности к группе, а из родственной связи. Не так ли обстоит дело и в некоторых обществах с подсекциями? В восточной части Арнемленда подсекции обладают различными тотемами, иначе говоря, правила брака и правила сочетания тотемов брачу-ющихся совпадают. У мангараи и янгман Северной территории и Кимберли, где тотемы ассоциируются с указанными местами, а не с социальными группами, в итоге происходит то же самое: благодаря изобретательной теории, что духи-зародыши всегда стремятся избрать местожительство в лоне женщины желательной подсекции, чтобы было соблюдено теоретическое совпадение между тотемом и подсекцией. Совершенно иное положение у кайтиш, северных аранда и лоритья северо-запада. У них тотемизм "зачатия", то есть тотем, приписываемый каждому ребенку, — уже не тотем его отца, или матери, или деда а животное, растение или природное явление, ассоциированное посредством мифов с местностью, в которой (либо вблизи которой) мать почувствовала себя беременной. Несомненно, это правило, с виду произвольное, часто корректируется благодаря заботе духов-зародышей о выборе женщин, которые были бы из той же подсекции, что и мать тотемного предка. Тем не менее, как это объясняли некогда Спенсер и Гиллен ребенок аранда не принадлежит обязательно ни к тотемической группе своего отца, ни к тотемической группе своей матери и что, в соответствии с местом, где будущая мать осознала свое состояние, дети, происшедшие от одних и тех же родителей, могут принадлежать к различным тотемам. Следовательно, существование подсекций не может служить основанием или достаточным критерием для уподобления одного общества другому (как это делалось в свое время). Иногда подсекции смешиваются с тотемическими группами, не обеспечивая регламентацию браков, которая осуществляется, исходя из степени родства. Иногда подсекции действуют как матримониальные классы, но тогда они уже прямо не соотносятся с правилом сочетания тотемов брачующихся. Такая же неопределенность обнаруживается и в случае обществ, имеющих секции. Так, то секционный тотемизм, то многочисленные тотемические кланы, поделенные на четыре группы, соответствующие четырем секциям. Поскольку секционная система приписывает детям секцию, отличную от секции того или другого родителя (фактически секцию, альтернативную секции матери в рамках той же фратрии, — способ передачи, имеющий название непрямой матрилинейной филиации), оказывается, что дети имеют тотемы, обязательно отличающиеся от тотемов их родителей. Фратриальные общества без секций и подсекций распределены по периферии материка. На австралийском северо-востоке эти фратрии названы по двум видам кенгуру; на юго-востоке — по двум птицам: белый «акаду и ворона или сокол и ворона; на востоке — по двум разновидностям какаду, соответственно белому и черному и т. д. Этот дуализм распространяется на всю природу, и, хотя бы теоретически, все существа и все явления поделены между двумя фратриями — тенденция, уже заметная у аранда: их учтенные тотемы, которых насчитывается гораздо более четырехсот, сгруппированы в шестьдесят категорий. Фратрии не обязательно экзогамны, лишь бы соблюдались правила тотемической экзогамии, родственной и локальной. Наконец, могут существовать одни лишь фратрии, как в случае периферических обществ, либо они сопровождаются секциями, подсекциями или обеими этими формами. Так, в племенах региона Лавертон имеются секции, но нет ни фратрий, ни подсекций; на Арнемленде отмечаются племена с фратриями и подсекциями, но без секций. Наконец, нангиомери имеют подсекции, но нет ни фратрий, ни секций. Итак, представляется, что фратрии не подчиняются какому-то генетическому ряду, делающему из них обязательное условие для секций (как последние являются условием для подсекций); что их функции заключаются не в том, чтобы необходимо и автоматически регламентировать браки, и что их наиболее постоянная характеристика — отношение с тотемизмом, ввиду раздвоения универсума по двум категориям. Рассмотрим теперь ту форму тотемизма, которую Элькин называет "клановой". Австралийские кланы могут быть патрилинейными или матрилинейными, а еще — "по зачатию", то есть группирующими всех индивидов, зачатых предположительно в одном и том же месте. Обычно кланы (к какому бы типу они ни относились) являются тотемическими, иначе говоря, их члены соблюдают пищевые запреты относительно одного или нескольких тотемов, и у них есть привилегия или обязанность проводить обряды, обеспечивающие умножение тотемического вида. Связь, объединяющая членов клана с их тотемами, определяется в разных племенах как генеалогическая (тотем — порядок клана) или как локальная (когда какая-то орда связана со своими тотемами посредством своей территории, где располагаются тотемические участки — места пребывания духов, вышедших из тела мифологического предка). Связь с тотемом может быть и просто мифологической, как в случае секционных организаций, где человек внутри своей матрилинейной фратрии принадлежит к той же секции, что и отец его отца, и обладает теми же, что и тот, тотемами. Матрилинейные кланы преобладают в Восточной Австралии — Квинс-ленде, в Новом Южном Уэльсе, в западной части Виктории, а также в небольшом регионе на юго-западе Западной Австралии. Действительно, из мнимого незнания (или более правдоподобно — из отрицания) роли отца при зачатии следует, что ребенок получает от своей матери плоть и кровь, непрерывно упрочиваемые по женской линии. О членах одного и того же клана говорят, что они образуют "одну-единственную плоть", и в языках востока Южной Австралии тот же термин, что обозначает плоть, обозначает также и тотем. Из этого отождествления по плоти клана и тотема проистекают одновременно как правило клановой экзогамии в социальном плане, так и пищевые запреты в религиозном плане: подобное не должно смешиваться с подобным, будь это пищевое потребление или соитие. В таких обществах каждый клан обычно имеет основной тотем и большое количество вторичных и третичных тотемов, ранжированных в порядке убывающей важности, В пределе все существа, вещи и природные явления оказываются охваченными этой системой. Структура универсума воспроизводит структуру общества. Кланы патрилинейного типа встречаются в Западной Австралии, на Северной территории, на полуострове Кейп-Иорк, а на побережье —в пределах Нового Южного Уэльса и Квинсленда. Как и матрилинейные кланы, эти кланы тотемические, но, в отличие от первых, каждый из них смешивается с локальной патрилинейной ордой, и духовная связь с тотемом устанавливается не через плоть, а локально — посредством тотемичес-ких участков, расположенных на территории орды. Из этой ситуации вытекают два следствия, а именно: передача тотема также происходит по отцовской линии или же эта передача относится к типу "зачатие". В первом случае патрилинейный тотемизм ничего не прибавляет к локальной экзогамии. Религия и социальная структура находятся в гармонической связи: с точки зрения статута индивидов они усиливают друг друга. Это противоположно тому, что мы констатировали в случае матрилинейных кланов, ибо в результате того, что местопребывание индивида в Австралии всегда патрилокально, отношение между правилом филиации и правилом местопребывания оказывается дисгармоничным и сложение их соответствующих действий служит определению индивидуального статута, который никогда в точности не является статутом того или другого родителя*. С другой стороны, тотемизм оказывается вне отношения к туземной теории прокреации. Принадлежность к одному и тому же тотему выражает лишь локальный феномен — солидарность орды.
Когда определение тотема происходит по зачатию — идет ли речь (как у аранда) о месте зачатия или (как на западе Южной Австралии) о месте рождения, ситуация усложняется: местопребывание и здесь патрилокально. и зачатие и рождение также могут произойти на территории отцовской орды, так что и для правила передачи тотемов сохраняется опосредованно патрилинейная характеристика. Тем не менее могут быть исключения, особенно когда семьи перемещаются, и в таких обществах всего лишь вероятно, что тотем детей останется включенным в число тотемов отцовской орды. Идет ли речь о следствии или о сопутствующем явлении, среди аранда (по крайней мере, среди северных аранда) не обнаруживается правило тотемической экзогамии. Регламентация экзогамии у аранда определяется отношениями родства и системой подсекций, которые совершенно не зависят от тотемических кланов**. Поразительно, что в обществах с патрилинейными кланами, пищевые запреты более мягки и даже иногда полностью отсутствуют (как у яралди), тогда как в матрили нейных кланах они всегда, по-видимому, проявляются в жестких формах.
Попытаемся привести, чтобы напомнить, последнюю форму тотемизма, описанную Элькиным, — тотемизм "сновидения" (dream totemism). который встречается на северо-западе у карадьери и в двух западных регионах Южной Австралии у диери, макумба и лоритья. Тотем "сновидения" может явиться будущей матери, когда она ощущает первые следствия беременности — иногда после употребления в пищу мяса которое ей кажется сверхъестественной сущностью, поскольку оно не обычно жирно. "Пригрезившийся" тотем отличается от "культового" тотема, детерминированного местом рождения ребенка. Из вновь предпринятого, дополненного другими работами длинного анализа (изложенного нами здесь сжато, чтобы прокомментировать его), Элькин заключает, что в Австралии существуют разнородные формы тотемизма. Они могут совмещаться: так, диери, живущие на северо-западе Южной Австралии, имеют одновременно фратриальный тотемизм, половой тотемизм, тотемизм матрилинейных кланов и культовый тотемизм, связанный с патрилокальным пребыванием. Кроме того, среди этих туземцев культовый тотем брата матери почитается сыном сестры более, чем тотем его отца (единственный, передаваемый им своим детям). На севере Кимберли обнаруживаются соединения тотемиз-мов: фратриального, патрилинейной локальной орды и сновидения. у южных аранда существуют патрилинейные тотемные культы (смеши-дд^щиеся с тотемами сновидения) и тотемные культы, унаследованные от брата матери; тогда как у других аранда обнаруживается индивидуальный тотемизм "зачатия", связанный с почитанием материнского тотема. Итак, удобно различать нередуцируемые "виды" тотемизма: индивидуальный; социальный, в рамках которого можно выявить множество разновидностей — половой тотемизм, фратриальный, секций, подсекций и клановый (патрилинейный или матрилинейный); культовый, религиозный по сути тотемизм, включающий две разновидности — патрилиней-ную и "зачатия"; наконец, тотемизм сновидения, он может быть социальным или индивидуальным. Как видно, демарш Элькина начинается со здравой реакции против амальгам (создаваемых по неосторожности или бесстыдно-осознанно), к которым прибегали теоретики тотемизма, чтобы конструировать его в виде единого и повторяющегося в значительном числе обществ института. Нет никакого сомнения, что огромные исследовательские усилия, предпринятые австралийскими этнологами, следующими за Рэдклиф-Брауном, и в особенности Элькиным, остаются необходимой базой для какой бы то ни было новой интерпретации австралийских данных. Не отказывая в восхищении, на которое имеет право одна из наиболее плодовитых школ в антропологии и ее блестящий руководитель, можно тем не менее задаться вопросом, не осталась ли она как в теоретическом, так и в методологическом плане пленницей дилеммы, вовсе не являвшейся неизбежной. Хотя исследование Элькина предстает в объективной эмпирической форме, однако создается впечатление, что Элькин пытается заново строить на почве, опустошенной американской критикой. У Рэдклиф-Брауна более двусмысленная установка. Как мы увидим позднее, Рэдклиф-Браун в 1929 г. высказался о тотемизме столь же негативно, как и Боас. Однако он особенно настаивал на австралийских данных, предлагая практически те же различения, что мы находим снова у Элькина. Но в то время как Рэдклиф-Браун использовал эти различения, чтобы, так сказать, взорвать понятие тотемизма, Элькин пошел в другом направлении: из разнообразия австралийских форм тотемизма он не делает вывода (как Тайлор, Боас и сам Рэдклиф-Браун), что понятие тотемизма неконсистентно и что внимательная проверка фактов ведет к его растворению. Он ограничивается оспариванием его единства, как если бы верил, что может спасти реальность тотемизма при условии возвращения его к множеству разнородных форм. Для него это уже не один тотемизм, а тотемизмы, каждый из которых существует как несводимая сущность. Вместо того чтобы способствовать уничтожению гидры (и именно на том участке, где это действие было бы решающим ввиду той роли, которую играют австралийские данные в разработке тотемических теорий), Элькин разрезает ее на куски и с этими кусками заключает мир. Но дело в том, что иллюзорно как раз понятие тотемизма, а не только его единство. Иначе говоря, Элькин полагает, что может материализовать тотемизм при одном условии — что атомизирует его. Пародируя картезианскую формулу, можно сказать, что он раскалывает проблему под предлогом ее лучшего разрешения10.
Попытка была бы безопасной и ее можно было бы просто классифицировать как 42, 43 или 44-ю теорию тотемизма, если бы — в отличие от многих своих предшественников — ее автор не был крупным полевым этнографом. Поэтому его теория может ударить рикошетом по эмпирической реальности и раздробить ее. И это как раз происходит: можно было сохранить однородность и точность австралийских данных (что объясняет их выдающуюся роль в этнологической рефлексии), -но при условии отказа от тотемизма как синтетической формы их peaль-ности; либо, сохраняя при плюральности тотемизм как реальный ряд. подвергнуться риску, что сами факты будут заражены этим плюрализмом. Вместо того чтобы из большего уважения к фактам позволило доктрине лопнуть, Элькин разобщает факты во имя спасения доктрины. Но, желая сохранить в полной мере реальность тотемизма, он рискует свести австралийскую этнографию к собранию разнородных фактов, установить преемственность которых становится невозможным. Итак, в каком же состоянии Элькин обнаружил австралийскую этно-график)? Без всякого сомнения, она была близка к тому, чтобы подвергнуться разгрому со стороны системного сознания. Было слишком заман-чиво — мы об этом сказали — рассматривать лишь те формы, что казались лучше организованными, располагать их в порядке возрастающей сложности, наконец, решительно недооценивать те из аспектов, которые — как тотемизм аранда — с трудом интегрировались. Однако в этой ситуации можно действовать двумя способами. Либо, как говорят англичане, выплеснуть с грязной водой ребенка, то есгь оставить всякую попытку системной интерпретации, и таким образом избежать столкновения с новыми затруднениями. Либо, достаточно доверяя уже проглядывающим наметкам порядка, расширить перспек-тиву и отыскать более общую точку зрения, позволяющую интегрировать те формы, правильность которых обретена, и те формы, чье сопротивление систематизации объясняется, возможно, не присущими им характеристиками, а тем, что они плохо определены, неполно проанализированы или рассмотрены под слишком узким углом зрения. Именно так предстала проблема применительно к правилам брака и системам родства. В другой работе мы попытались сформулировать целостную интерпретацию, пригодную для того, чтобы учесть одновременно и системы, теоретический анализ которых уже проделан, и другие, еще считающиеся отклоняющимися от правила. Мы показали, что при условии изменения концепции, созданной относительно правил брака и систем родства, возможно дать связную интерпретацию совокупности фактов этого типа. Однако, в случае тотемизма, Элькин предпочитает не ставить под вопрос это понятие (за исключением замены мнимого социологического "вида" нередуцируемыми разновидностями, которые вследствие этого сами становятся видами) и смириться с тем, чтобы феномены были подвергнуты расчленению. Нам представляется (хотя здесь не место показывать это)*, что было бы ценнее, по-новому совершая демарш, упоминавшийся в предыдущем разделе, прежде всего поискать, нет ли возможности расширить поле интерпретации, а затем придать ему дополнительные измерения — в надежде воссоздать систему глобальную объединяющую на этот раз социальные и религиозные феномены, даже если бы синтетическое понятие тотемизма скорее всего не выдержало бы такого истолкования.
Вернемся к арифметической прогрессии классов, поскольку все идет оттуда. Как уже говорилось, многие авторы интерпретируют ее как генетический ряд. На деле все не столь просто, ведь фратрии не "преобразуются" в секции, а секции — в подсекции. Логическая схема не состоит из трех этапов, которые можно было бы считать последовательными: 2, 4, 8; она скорее относится к типу:
Иначе говоря, организации могут быть либо только фратриальные, либо только с секциями, либо с подсекциями, либо строиться из каких-то двух этих форм без третьей, как показал Элькин. Но можно ли отсюда прийти к заключению, что конечный смысл этих способов группировки нельзя обнаружить в социологическом плане и что его следует искать непременно в религиозном плане? Рассмотрим сначала наиболее простой случай. Теория дуальных организаций длительное время страдала от чрезвычайной путаницы между фратриальными системами, данными эмпирически и наблюдаемыми как институт, и дуальной схемой, всегда подразумеваемой во фратриальных организациях, но проявляющейся также и в других ситуациях, в не одинаково объективированных формах и, возможно, даже универсальной. Эта дуальная схема лежит не только за фратриальными системами, но и за системами с секциями и с подсекциями. Она проявляется уже в том факте, что секции и подсекции всегда кратны 2. Следовательно, это ложная проблема — задаваться вопросом, обязательно ли фратриальные организации предшествовали во времени более сложным формам. Это было возможно там, где схема уже конкретизировалась в институт; но дуальная схема могла и непосредственно, в институциональном плане, обрести более развитую форму. Можно представить, что в соответствии с обстоятельствами простая форма рождается либо путем всасывания сложной формы, либо предшествует ей во времени. К первой гипотезе тяготел Боас*, но, конечно, она не отвечает единственно возможному способу происхождения, поскольку мы сами видели У намбиквара Центральной Бразилии, как дуальная организация создавалась у нас на глазах не путем уменьшения прежде большего числа групп, а путем составления из двух простых, прежде разобщенных социальных единиц.
Итак, дуальность нельзя представлять как изначальную социальную структуру или как предшествующую другим. По меньшей мере схематически она обеспечивает общий субстрат для организаций фратриальных, с секциями и с подсекциями. Тем не менее нет уверенности, что подобнее рассуждение может быть распространено на последние, ибо в отличие от дуальной не существует ни четырехчастной схемы, ни схемы из восьми частей, обнаруживаемой в австралийском мышлении независимо от конкретных институтов, выявляющих структуры этого типа. Для всей Австралии исследователи приводят лишь один случай, где распределе- ние на четыре секции (каждая из них обозначена по названию различных видов ястреба-перепелятника) может происходить из исчерпывающей и систематической четырехчастности. С другой стороны, если бы секции и подсекции были независимы от своей социологической функции, то они встречались бы в любом числе. Сказать, что секций всегда четыре, а подсекций — восемь, было бы тавтологией, поскольку их количество составляет часть их определения; но имеет значение то, что австралийская социология не нуждалась в том, чтобы выковывать другие термины для характеристики систем ограниченного обмена. В Австралии отчетливо выявлены организации с шестью классами: они являются созданием обществ с четырьмя классами, частые браки между членами которых привели к тому, что две из соответствующих секций были обозначены одним и тем же именем:
Действительно, Рэдклиф-Браун показал, что в регламентации браков кариера беспокоятся не столько о принадлежности к определенной секции, сколько о степени родства. И у вуламба полуострова Арнемленд (которых прежде называли мурнгин) подсекции не играют реальной роли в регламентации брака, поскольку таковой имеет место с перекрестной матрилатеральной кузиной, что больше соответствовало бы системе с четырьмя секциями. В более общем виде, если предпочитаемые или предписываемые супруги обычно принадлежат к одному классу (секции или подсекции), то они не единственные, кто его занимает. Отсюда напрашивается мысль, что секции и подсекции не обладают ни единственной в своем роде, ни даже главной функцией в регламентации браков. Согласно нескольким авторам, в том числе Элькину, они скорее являются чем-то вроде способа классификации индивидов в категориях родства в случае межплеменных церемоний соответственно потребностям ритуала. Несомненно, эта функция может ими выполняться наподобие упрощенного кода, более легкого в употреблении при эквивалентности нескольких диалектов или нескольких языков. Ибо этот код, упрощенный относительно систем родства, свойственных каждой группе, неизбежно пренебрегает различиями. Но если он должен выполнить свою функцию, то не может противоречить более сложным кодировкам. Признание того, что каждое племя имеет два кода для выражения своей социальной структуры (система родства и правила брака, с одной стороны, и организация по секциям или подсекциям — с другой), никоим образом не влечет за собой и даже исключает вывод, что эти коды, по существу, предназначены передавать различные сообщения. Сообщение остается одним и тем же; могут различаться лишь обстоятельства и адресаты: "Подсекции мурнгин основаны на брачной системе и системе филиации, и они образуют по своей сути структуры родства. Они производят генерализацию, отправляясь от развитой структуры родства, где количество связей гораздо выше, классифицируя совокупность групп родственников и обозначая их лишь одним термином. Посредством этого метода перегруппировки термины родства сводятся к восьми, поскольку система подсекций содержит восемь делений" (Warner, р. 117). Метод особенно употребим во время межплеменных собраний: "Ради больших церемоний люди приходят из округи за многие сотни километров... и у них могут быть совершенно различные терминологии родства. Но названия секций практически те же самые, и их восемь; поэтому для туземца соответственно легче обнаружить, какова его связь по секции с чужаком" (Warner, р. 122). Но, как мы показали в другом месте, было бы ошибочным отсюда делать вывод, что: "...в противоположность мнению прежних авторов, система секций и подсекций не регламентирует браки... поскольку именно отношение родства между мужчиной и женщиной в конце концов определяет возможность брака между ними... у мурнгин мужчина женится на женщине В1 или В2, если он сам А1 или А2" (Ibid., р. 122—123). Несомненно, однако: 1) он не может вместо нее жениться на какой-либо другой, и система, следовательно, по-своему выражает регламентацию браков на уровне секций, если не подсекций; 2) даже на уровне подсекций, оказывается, устанавливается совпадение между классом и родственной связью при дополнительном условии, что эти два типа брака практикуются попеременно; 3) "мнение прежних авторов" базировалось на рассмотрении групп, которые сами, возможно, и не представляли себе системы из подсекций со всеми ее социологическими импликациями, но вполне ее усваивали. Не так обстоит дело в случае мурнгин, их нельзя отнести к таким группам. Итак, нет никакого основания, как нам кажется, возвращаться к традиционной концепции матримониальных классов. Система с четырьмя секциями может объясняться изначально как социологический способ интеграции двойной дуальности (это не значит, однако, что одна из них исторически предшествовала другой), а система с восемью секциями — как редупликация того же действия. Ибо если ничто не подтверждает, что организации с четырьмя секциями были прежде фратриальными организациями, то представляется резонным допустить генетическую связь между организациями с восемью подсекциями и организациями с четырьмя секциями. Во-первых, потому, что в противном случае наблюдались бы организации с любым числом подразделений; и далее, потому, что если двойная дуальность — это еще дуальность, то тройная дуальность вводит новый принцип. Это обнаруживается в системах с шестью классами типа амбримпентекост. Но именно эти системы отсутствуют в Австралии*; здесь системы с восемью подсекциями не могут, следовательно, происходить иначе, как от операции типа: 2 х 4.
Тогда-как же надо интерпретировать случаи, затронутые Элькиным, где подсекции предстают чисто тотемическими и не сказываются на регламентации браков? Во-первых, разработка этих примеров не абсолютно убедительна. Достаточно рассмотреть пример с мурнгин. Их система из подсекций настолько не чужда регламентации брака, что ее пришлось обработать изобретательным и усложненным образом с единственной целью — восстановить соответствие: устроив подсекции, туземцы так изменили их механизм (посредством, приблизительно, введения для обеих сторон правила брака по выбору), чтобы аннулировать влияние подсекционного деления на брачные обмены. Единственный Вывод, который можно сделать из этого примера, состоит в том, что, прибегая к подсекциям, мурнгин не стремились найти лучший способ социальной интеграции по сравнению с тем, который действовал прежде, или основанный на иных принципах. Сохраняя традиционную структуру, они, так сказать, принаряжали ее, скрывали старое содержание под внешними облачениями, заимствованными у соседних обществ; по-видимому, их побуждало к этому характерное для австралийских туземцев преклонение перед усложненными социальными институтами. Известны и другие примеры таких заимствований: "Некогда у мурин-бата были только патрилинейные фратрии. Подсекции — недавнее введение, занесены несколькими туземцами, исключительными интеллектуалами и большими путешественниками, которые в совершенстве постигли механизм подсекций, обучаясь на чужих кочевьях. Даже когда их они не понимали, эти правила все равно пользовались значительным престижем, хотя тогда же существовали и реакционеры с той и другой стороны. Без всякого сомнения, система подсекций имеет неотразимую привлекательность для этих племен... Однако ввиду патрилинейного характера предшествующей системы подсекции были определены неуклюже, и отсюда следовало большое число неправильных, с формальной точки зрения, браков, хотя родственные связи почитались" (резюме Станнера—- Stanner). Иногда система, заимствованная извне, остается непонятной. Т. Г. X. Штрелов излагает историю о двух южных мужчинах-аранда, отнесенных их соседями, пришедшими с севера, в различные подсекции, хотя сами они всегда при обращении называли друг друга братьями: "Два южных аранда были помещены этими вновь прибывшими в различные классы, поскольку один из них взял в жены женщину, происходящую из группы с восемью подсекциями; теперь брак был "легализован" в терминах чужой теории. Южные аранда завершили свои пояснения мне, высказав суровые замечания относительно самонадеянных северных аранда, которые решили внедрить свою систему на древней южной территории, где люди ведут образ жизни, обусловленный режимом четырех классов, настолько издавна, насколько могут простираться их память и традиции: "Из двух систем система с четырьмя классами является лучшей для нас, людей юга; мы совсем не понимаем восемь классов. Это абсурдная система, не служащая ничему, и хорошая как раз для таких сумасшедших, как северные аранда; но мы не унаследовали от наших предков этого глупого обычая" (Strehiow, р. 72). Итак, всякий раз, когда секции или подсекции изобретались, копировались или интеллектуально заимствовались, их функция была вначале социологической, то есть они служили — и еще часто служат — для кодирования, в относительно простой форме, применимой за пределами племенных границ, систему родства и систему брачных обменов. Но коль скоро эти институты имеются, они начинают жить независимой жизнью: как объект любопытства или объект эстетического восхищения, а также благодаря их усложненности как символ более высокого типа цивилизации. Неоднократно они, должно быть, заимствовались соседними общностями, не вполне понимавшими их действие. В таких случаях они приблизительно прилаживались к прежде существовавшим социальным правилам, а то и этого не делалось. Их способ существования оставался идеологическим, туземцы "играли" в секции или подсекции или подчинялись им, по-настоящему не зная, как ими пользоваться. Иначе говоря, и в противоположность точке зрения Элькина, такие системы следует объявлять неправильными не потому, что они являются тотемическими: как раз потому, что они являются неправильными, они могут быть тотемическими. При нехватке социальной организации тотемизм обеспечивает единственный план, где они могут действовать, ввиду его умозрительного, безмотивного характера. И термин "неправильное" не имеет одинакового значения в обоих случаях. Элькин приводит эти примеры, чтобы имплицитно осудить всякую попытку систематической типологии, которую он стремится заменить простым перечнем или эмпирическим описанием разнородных модальностей. Но для нас термин "неправильное" ("irregulier") не противоречит существованию правильных форм; он применяется к патологическим формам, менее часто встречающимся, о которых неприятно говорить и реальность которых — предполагая, что она ясно установлена, — нельзя принять в том же плане, что и нормальные формы. Как говорил Маркс, сыпь не столь позитивна, как кожа. Не угадывается ли за эмпирическими категориями Элькина набросок системы? С полным правом он противопоставляет тотемизм матрили-нейных и патрилинейных кланов. В первом случае тотем — это "плоть", во втором — "сон". Органический и материальный в одном случае, духовный и бестелесный — в другом. Кроме того, матрилинейный тотем свидетельствует о диахронной и биологической преемственности клана, о том, что плоть и кровь увековечиваются от поколения к поколению женщинами этой общности; тогда как патрилинейный тотемизм выражает "локальную солидарность орды", то есть внешнюю, а не внутреннюю связь, территориальную, а не биологическую, которая объединяет синхронно, а не диахронно членов клана. Все это верно, но следует ли отсюда заключать, что мы имеем дело с разными социологическими "видами"? Это настолько неопределенно что оппозиция может быть инвертирована: матрилинейный тотемизм имеет также и синхронную функцию, состоящую в том, чтобы на каждой патрилокальной территории, куда приходят жить супруги, происходящие из различных кланов, выразить симультанно дифференциальную структуру племенной группы. В свою очередь, патрилинейный тотемизм имеет и диахронную функцию: он выражает временную непрерывность орды, периодически напоминая через посредство культовых групп о вод ворении мифологических предков на определенной территории. Вовсе не чуждые одна другой, эти две формы тотемизма предстают. следовательно, как бы дополняющими друг друга. От одной к другой переход осуществляется посредством преобразований. Хотя и различ ными средствами, они обе устанавливают связь между миром матери альным и миром духовным, диахронией и синхронией, структурой и событием. Это два различных, но коррелятивных способа, подходящих. среди прочих, для выражения параллельных определений природы и общества. Элькин настолько хорошо это ощущает, что, расчленив тотемизм на отличные друг от друга сущности, пытается придать им некое единство. Все типы тотемизма, заключает он, выполняют двойственную функцию. состоящую в том, чтобы выражать, с одной стороны, родство и взаимодействие человека с природой, а с другой — непрерывность между настоящим и прошлым. Но эта формула столь смутная и столь общая. что непонятно, почему преемственность во времени должна подразуме- вать, что первопредки имели животный облик, почему солидарность социальной группы должна утверждаться обязательно в форме множества культов. Не только тотемизм, но любая философия и любая религия, каковы бы они ни были, имеют те характеристики, через которые Элькин пытается определить тотемизм: "...философия... порождающая достаточно веры, надежды и храбрости, так, чтобы человек, сталкивающийся со своими повседневными нуждами, оставался настойчивым и упорным — и как индивид, и как член общества" (Elkin 2, р. 131). Требуется ли столько наблюдений, столько исследований, чтобы прийти к такому заключению? Никакой связи между богатым и проницательным анализом Элькина и этим итоговым синтезом не ощущается. Пустота, царящая между этими двумя планами, неудержимо вызывает в памяти ту, которой в XVIII в. укоряли гармонию Гретри(12) говоря, что у него между верхними и нижними тонами проедет карета.
ГЛАВА III. Функционалистские тотемизмы Мы только что видели, как Элькин пытался спасти тотемизм: разрывая его боевой порядок, чтобы пропустить американское наступление, он перегруппировал свои силы на двух флангах, один из которых опирается на более тонкий анализ, а другой — на более крупный синтез, чем у его предшественников. Но в действительности Эта стратегия отражает важные влияния, которым Элькин подвергся и которые тянут его в противоположные стороны: от Рэдклиф-Брауна он получит метод тщательного наблюдения и вкус к классификации, тогда как пример Малиновского побуждает его к скороспелым и эклектичным решениям. Анализ Элькина вдохновляется уроками Рэдклиф-Брауна, а попытка синтеза — таковой же попыткой у Малиновского. Действительно, Малиновский допускает реальность тотемизма. Тем не менее его ответ на американскую критику состоит не в том, чтобы (как у Элькина) для восстановления тотемизма в действии расчленить его отличные друг от друга сущности, а в том, чтобы с самого начала превзойти уровень наблюдения и интуитивно уловить тотемизм в его вновь обретенном единстве и простоте. С этой целью Малиновский принимает скорее биологическую и психологическую перспективу, а не собственно этнологическую. Выдвинутая им интерпретация является натуралистской, утилитарной и аффективной. Так называемая тотемическая проблема сводится для него, Малиновского, к трем вопросам, на которые легко получить ответ, если они берутся раздельно. Прежде всего, почему в тотемизме задействованы животные и растения? Потому, что они обеспечивают человеку пищу и потому, что потребность в пище занимает первое место в сознании первобытного человека, вызывая сильные и разнообразные эмоции. Ничего нет удивительного в том, что определенные виды животных и растений, составляющие основные продукты питания племени, становятся для его членов центром интересов: "Коротка дорога, ведущая от девственного леса к желудку, а затем к уму дикаря: мир представляется ему как смутная картина, где выделяются лишь используемые животные и растительные виды, и в первую очередь — те, что съедобны" (Malinowski 1, р. 27). Зададимся вопросом, что же составляет основу верования в родство человека с растениями и животными, обрядов умножения, пищевых запретов и сакраментальных форм потребления. Подобие человека и животных легко подтверждается: как и человек, животное движется, издает звуки, выражает эмоции, имеет тело и "физиономию". Более того, иной раз кажется, что его способности превосходят человеческие: птица летает, рыба плавает, рептилии меняют кожу. Животные занимают промежуточное положение между человеком и природой, и в первую очередь они вызывают смешанные чувства, являющиеся ингредиентами тотемизма: восхищения, страха и пищевого вожделения. Неодушевленные объекты — растения, феномены природы, изготовленные предметы — внедряются лишь в качестве "вторичного образования... не имеющего ничего общего с субстанцией тотемизма". Что касается культов, то они отвечают желанию контролировать вид, чтобы таковой был съедобен, полезен или опасен, и вера в возможность такого контроля приводит к возникновению идеи общности жизни: необходимо, чтобы человек и животное происходили из одной и той же природы, и тогда первый мог бы воздействовать на второе. Отсюда проистекают "очевидные ограничения", а именно запрет на убивание или употребление в пищу животного, а также коррелятивное утверждение силы (которой наделен человек), способной вызывать умножение данного животного. Последний вопрос касается сосуществования в тотемизме социологического и религиозного аспектов, ведь до настоящего времени рассматривался лишь первый из них. Но всякий ритуал имеет тенденцию к магии, а всякая магия имеет тенденцию к индивидуальной или семейной специализации: "В тотемизме магическое умножение каждого вида обычно становится обязанностью или привилегией какого-то специалиста, которому помогают его близкие родственники" (с. 28). Поскольку сама семья имеет тенденцию трансформироваться в клан, то определение отличительного тотема для каждого клана не является проблемой. Так тотемизм сам по себе "... предстает как благословение, данное религией первобытному человеку в его попытке извлечь из окружающей среды то, что может быть ему полезным, и в его борьбе за жизнь" (с. 28). Итак, проблема дважды переворачивается: тотемизм — уже не культурный феномен, а "естественный результат естественных условий". По своему источнику и по своим проявлениям он происходит из биологии и психологии, а не из этнологии. Речь идет уже не о том, чтобы узнать, почему тотемизм существует там, где он существует, и почему он существует в различных формах, наблюдение, описание и анализ которых представляют вторичный интерес. Единственная проблема, которая могла бы быть поставлена — но ставят ли ее? — заключалась бы в понимании того, почему он не существует повсюду... Действительно, вообразим, что от прикосновения волшебной палоч- ки Малиновского тотемизм развеялся, подобно облаку. Проблема про сто перевернулась. Со сцены могла бы исчезнуть только этнология со всеми ее завоеваниями, ее ученостью и методами. В конце своей жизни Рэдклиф-Браун внес, должно быть, решающий вклад в ликвидацию тотемической проблемы, сумев выделить и об нажить реальные проблемы, скрывавшиеся за фантасмагориями теоре тиков. Назовем это его второй теорией. Но сперва необходимо рассмотреть первую — более аналитичную и более строгую в своей основе, чем у Малиновского, — которая увенчалась, однако, весьма близкими к за ключению Малиновского выводами. Хотя, несомненно, Рэдклиф-Браун постарался бы это не признать. отправные моменты его и Боаса совпадали. Как и Боас, он задается вопросом, "не потерял ли термин "тотемизм", взятый в его техническом значении, свою полезность". Как Боас и почти в тех же выражениях, он объявляет о своем проекте, который должен будет свести так называемый тотемизм к частному случаю связей между человеком и природными видами, как эти связи формулируются в мифах и ритуале. Понятие тотемизма было выковано из элементов, заимствованных из различных институтов. Неважно, что в Австралии приходится различать множество тотемизмов: половой, локальный, индивидуальный; фратрий, секций, подсекций, клановый (патрилинейный и матрилинейный), орды и т. д. "Все, что эти тотемические системы имеют общего, — это главная тенденция в характеристике сегментов общества посредством ассоциации каждого сегмента с несколькими природными видами или с часть природы. Эта ассоциация может покрывать большое число различных форм" (Radcliffe-Brown 2, р. 122). До сегодняшнего дня делались попытки совершить восхождение к началу каждой формы. Но, поскольку нам ничего или почти ничего не известно из прошлого туземных обществ, это предприятие остается предположительным и умозрительным. Рэдклиф-Браун намеревается заменить исторические исследования индуктивным методом, подсказанным естественными науками. Он будст стремиться сквозь эмпирическую сложность добраться до нескольких простых принципов:"Нельзя ли показать, что тотемизм — это особая форма феномен, универсально наличествующего в человеческих обществах, который, следовательно, появляется во всех культурах, но в различных формах?" (с. 123). Дюрктейм первым поставил проблему в этих терминах. Воздавая ему должное, Рэдклиф-Браун отвергает его аргументацию, вытекающую из неполного рассмотрения понятия сакрального. Сказать, что тотем сакрален, значит констатировать существование ритуального отношения между человеком и его тотемом и допускать, что термином "ритуальные отношения" мы обозначаем совокупность обязательных установок и поведенческих действий. Следовательно, понятие сакрального не дает объяснения, оно лишь отсылает к общей проблеме ритуальных отношений. Для того чтобы социальный порядок поддерживался (а если бы этого не было, то не было бы и проблемы, поскольку рассматриваемо общество исчезло бы или трансформировалось в другое), следует обес- печить постоянство и солидарность кланов, являющихся сегментами, и которых состоит общество. Эти постоянство и солидарность могу покоиться лишь на индивидуальных чувствах, а они для своего действен ного проявления требуют коллективного выражения, которое должно фиксироваться на конкретных объектах: индивидуальные чувства привязанности; Я коллективные ритуализированные действия; Я объект, представляющий группу. Так объясняется в современных обществах роль, отводимая таким символам, как знамена, короли, президенты и т. п. Но почему тотемизм использует животных или растения? Дюpкгeйм дал возможное объяснение этому феномену: постоянство и преемствен ность клана требуют лишь эмблемы, которая может — и изначально должна быть — произвольным знаком, достаточно простым, чтобы любое общество могло воплотить в нем идею даже при недостатке средств художественного выражения. Если в конечном счете "признали" за этими знаками представительство животных или растений, то потому что животные и растения существуют, доступны и легки для означивания. Следовательно, для Дюркгейма место, отводимое тотемизмом животным и растениям, образует нечто вроде запаздывающего феномена. Естественным было то, что он воспроизводился, но он не представлял ничего существенного. Наоборот, Рэдклиф-Браун утверждает, что ритуализация отношений между человеком и животным образует более общие и широкие рамки, чем тотемизм, внутри которых тотемизм и должен был разрабатываться. Эта ритуальная установка подтверждена у народов (например, у эскимосов), не имеющих тотемизма. Известны и другие примеры, не относящиеся к тотемизму, ведь у островных андаманцев существуют ритуальные действия в отношении черепах. играющих значительную роль в питании этого племени, у калифорнийс ких индейцев— в отношении лососей и у всех арктических народов — относительно медведей. Эти поведенческие действия фактически универсальны для охотничьих обществ. Ситуация оставалась бы в том же положении, если бы не возникало социальной сегментации. Но поскольку она возникает, автоматически за ней следует ритуальная религиозная сегментация. Так, культ святы. в католицизме образовался вместе с организацией церковных приходов и религиозной индивидуализацией. Такая же тенденция по крайней мере замечена у эскимосов — с делением на "людей зимы" и "людей лета и с соответствующей ритуальной дихотомией. При дополнительном двойном условии (что всегда и везде подсказы вается наблюдением), то есть если естественные интересы порождают ритуализированные действия и ритуальная сегментация следует за социальной сегментацией, проблема тотемизма исчезает и уступает место другой проблеме, которая является гораздо более общей: "Почему многие народы, называемые первобытными, в своих обычаях и в мифа; принимают ритуальную установку относительно животных и других природных видов?" (с. 129). Как считает Рэдклиф-Браун, предшествующее рассмотрение опреде- ляет ответ: повсеместно засвидетельствовано, что всякая вещь или всякое событие, оказывающее важное влияние на материальное или духовное благосостояние общества, имеет тенденцию становиться объектом ритуальной установки. Если тотемизм выбирает природные виды, чтобы они служили социологическими эмблемами сегментов общества, то просто потому, что эти виды уже сделались объектом ритуальных установок. Рэдклиф-Браун таким образом переворачивает дюркгеймовскую интерпретацию, согласно которой тотемы являются объектом ритуальных установок (в языке Дюркгейма — "сакральных"), поскольку сначала они были призваны служить социологической эмблемой. Для Рэдклиф-Бра- уна природа скорее инкорпорирована в социальный порядок, чем подчинена ему. Действительно, на этой стадии развития своей мысли Рэдклиф- Браун, так сказать, "натурализует" дюркгеймовскую мысль. Можно лишь добавить, что метод, прямо заимствованный из естественных наук, ведет к парадоксальному результату — конституированию социального на обособленном плане. Говоря, что этнология подпадает под метод естественных наук, он приходит к утверждению, что этнология — естественная наука. Итак, недостаточно (как это делают естественные науки на другом уровне) наблюдать, описывать и классифицировать: сам объект наблюдения должен принадлежать природе, быть ей покорным. Интерпретация тотемизма может дать в финале превосходство социальной сегментации над ритуальной, религиозной сегментацией. И та и другая на одном и том же основании остаются функцией "естественных" интересов. Согласно первой теории Рэдклиф-Брауна, для него (как и для Малиновского) животное становится "тотемическим", если оно прежде всего "пригодно в пищу". Однако несравненный исследователь, каким был Малиновский, знал лучше кого бы то ни было, что до вершины конкретной проблемы не добраться посредством общих рассуждений. Когда он изучает не тотемизм в целом, но особенную форму, которую тот принимает на Тробриандских островах, то биологические, психологические и моральные соображения оставляют свободное поле для этнографии и даже для истории. Вблизи деревни Лаба'и находится отверстие, называемое Обукула, через которое, как считается, вышли из недр земли четыре клана, составляющие тробриандское общество. Сначала появилась игуана, животное клана лукулабута; затем собака — клан лукуба, занявший затем первое место; следом идет свинья, представляя клан малази, являющийся обычно главным кланом; наконец, крокодил, змей или опоссум в разных версиях — тотем клана луквазизига. Собака и свинья начали повсюду скитаться, собака нашла на земле плод дерева ноку, обнюхала его и съела. Тогда свинья сказала: "Ты съела ноку, ты поела отбросов, ты низкого происхождения. Я буду главной". С тех пор главенство принадлежит наиболее высокой линии клана малази. Действительно, плод ноку, собираемый только в период голода, считается низшей пищей (Malinowski 2, vol. II, р. 499). По свидетельству Малиновского, эти тотемные животные отнюдь не равно важны в туземной культуре. Говорить, как он это делает, что незначительность тотема, названного первым (игуана) и идущих последними (крокодила, змеи или опоссума) объясняется более низким положением, приписываемым соответствующим кланам, означает вступать в противоречие с его же общей теорией тотемизма, поскольку такое объяснение принадлежит культурному, а не природному порядку: оно социологическое, а не биологическое. Кроме того, чтобы учесть иерархию кланов, Малиновский должен рассмотреть гипотезу, по которой два клана происходили бы от завоевателей, прибывших морем, а два других представляли бы автохтонов. Помимо того, что эта гипотеза исторична, а следовательно, не может быть универсальной (в противоположность общей теории, претендующей на универсальность), она подсказывает, что собака и свинья, возможно, фигурируют в мифе в качестве "культурных" животных, а другие — в качестве "природных", поскольку более тесно связаны с землей, водой или лесом. Если пойти по этому или параллельному пути, то потребовалась бы отсылка к меланезийской этнозоологии (то есть к позитивным знаниям туземцев этой части мира относительно животных — как они их используют в техническом и в ритуальном плане и к верованиям, связанным с ними), а не к предрассудкам утилитаризма, лишенным какого бы то ни было конкретного эмпирического обоснования. С другой стороны, ясно, что отношения, подобные тем, о которых мы только что упомянули в качестве примера, мыслятся, а не проживаются. Формулируя их, разум руководствуется скорее конечной теоретической, а не практической целью. Во-вторых, поиски "любой ценой" полезности наталкиваются на несчетное число случаев, когда тотемические животные или растения не имеют никакой заметной пользы с точки зрения туземной культуры. Чтобы соблюсти принципы, приходится обратиться к понятию интереса, всякий раз придавая ему надлежащий смысл, так что установленное вначале эмпирическое требование все более превращается в словесную игру, логическую ошибку либо тавтологию. Сам Малиновский не в состоянии удовольствоваться аксиомой (которая, впрочем, обосновывает его систему), сводящей тотемные виды к полезным видам, в особенности к съедобным. Ему тут же требуется выдвигать другие мотивы: преклонение либо страх. Но почему в Австралии встречаются столь причудливые тотемы, как смех, различные болезни, рвота и труп? Упорная склонность к утилитарным истолкованиям втягивает порой исследователей в странную диалектику. Так, мисс Мак-Коннел утверждает, что тотемы у вик-мункан (берег залива Карпентария, Северная Австралия) отражают экономические интересы: береговые племена имеют тотемами дугонг — морскую черепаху, разнообразных акул, крабов, устриц и других моллюсков, а также гром, "возвещающий о сезоне северного ветра", прилив, "приносящий пищу", и маленькую птичку, "которая, как считается, покровительствует действиям рыболовов". И общности внутренней части континента также имеют тотемы, соответствующие окружающей среде: лесная крыса, кенгуру — валлаби, молодое растение, "которым эти животные питаются", аррорут, ямс и т. д. Труднее объяснить привязанность к падающей звезде — другой тотем, — "возвещающей о смерти родственника". Но, как продолжает наш автор, это потому, что сверх либо вместо своей позитивной функции "тотемы могут представлять собой опасные и неприятные вещи, такие, как крокодилы и мухи, в иных случаях также — пиявки, которые имеют негативный социальный интерес в том смысле, что их можно множить для нанесения вреда врагам и чужакам" (McConnel, р. 183). В этом плане, вероятно, трудно найти какую-либо вещь, о которой, в том или другом отношении, позитивно или негативно (даже в случае индифферентности) нельзя было бы сказать, что она представляет какой- то интерес; и утилитарная и натуралистская теория свелись бы к серии бессодержательных предположений. Однако Спенсер и Гиллен давно подсказали гораздо более удовлетворительное объяснение включения в число тотемов тех видов, которые наивный утилитаризм счел бы просто вредными: "Мухи и москиты — это на первый взгляд такой бич, что мало понятно, почему существуют церемонии, предназначенные обеспечить их умножение... Тем не менее нельзя забывать, что мухи и москиты, весьма отвратительные сами по себе, тесно связаны с тем, что туземец более всего желает получить в определенные периоды года, а именно — сильный дождь" (с. 161). Приходим к заключению (и формулу эту, вероятно, можно распростра-нить на все поле тотемизма), что мухи и москиты не воспринимаются как стимулы, они мыслятся лишь как знаки. В исследовании Фирта, рассмотренном нами в предыдущей главе, он, кажется, еще близок к утилитарным объяснениям. Ямс, таро, кокосовый орех, плод хлебного дерева являются главными продуктами питания у тикопиа и в качестве таковых считаются бесконечно ценными, Однако, когда мы стремимся понять, почему съедобные рыбы исключены из тотемической системы, этот тип интерпретации должен быть нюансирован: до вылавливания рыбы образуют смутную и недифференцированную сущность. Иная сущность — у растений, находящихся на огородах и в садах. К тому же рыболовецкие ритуалы не разделены по кланам; они проводятся солидарно около сакральных пирог, при помощи которых люди добывают себе рыб. "... В случае пищевых растений общество заинтересовано в их произрастании; в случае рыбы оно заинтересовано в ее поимке" (Firth 1, р. 614). Такова туземная теория. Но если даже ее принять, уже она показывает, что связь между человеком и его потребностями опосредована культурой и не может мыслиться лишь в терминах природы. Сам Фирт это отмечает: "... многие из тотемных животных видов не имеют четко маркированного экономического интереса" (Firth 1, р. 395). Другая работа Фирта показывает, что даже в отношении растений, употребляемых в пищу, дело обстоит сложнее, чем это допускает утилитарная интерпретация. Понятие экономического интереса имеет несколько аспектов, которые удобно различать, обычно у них нет совпадения ни между собой, ни у каждого из них с социологическими и религиозными действиями. Поэтому возможно ранжировать пищевые растения в нисходящем иерархическом порядке, согласно которому мы рассматриваем их место в питании (I), необходимую работу по их культивированию (II), сложность ритуала, призванного обеспечить их произрастание (III), сложность ритуалов, связанных с уборкой урожая (IV), наконец, религиозную значимость кланов, контролирующих главные виды, а именно: кафика (ямс), таумако (таро), тафуа (кокосовая пальма), фангарере (хлебное дерево) (V). Подытожим данные Фирта следующей таблицей (таблица IV):
(Firth 2, p. 65). Таблица не соответствует тотемической системе, поскольку количество фигурирующих там растений больше числа тотемов. Ямс, который контролируется выше помещенным кланом и ритуал которого как для разведения, так и для уборки урожая также наиболее сложен, занимает последнее место по значимости среди потребляемых растений и второе — по затрачиваемой на его культивирование работе. Банановая пальма и саго не-"тотемические", являются объектом более важного ритуала, связанного или с их культивированием, или со сбором урожая, чем "тотемические" хлебное дерево и кокосовая пальма, и т. д. Маловероятно, что Рэдклиф-Браун ясно представлял себе эволюцию своего мышления в течение последних тридцати лет жизни, ибо даже наиболее поздние из его трудов свидетельствуют о том, что он оставался верен духу своих прежних работ. Впрочем, можно сказать, что у него всегда сосуществовали две тенденции и что в разные моменты и разных ситуациях утверждалась то одна, то другая. По мере того как он старел, каждая из тенденций уточнялась и очищалась, все более усиливалась их оппозиция, но нельзя было предвидеть, какая из них в итоге могла возобладать. Итак, нет ничего удивительного в том, что десять лет спустя после того, как Рэдклиф-Браун сформулировал свою первую теорию тотемизма, оказалось, что он противостоит Малиновскому в вопросе магии, а его интерпретация этого феномена весьма далека от его прежних идей. Малиновский, более последовательный в данном случае, трактовал проблему магии так же, как и проблему тотемизма: прибегая к общим психологическим рассуждениям. Все магические ритуалы и действия сводились им к средству избежать беспокойства или смягчить тревогу, испытываемую человеком при вовлечении в предприятия, исход которых неопределен. Таким образом, магия обретала практическую и аффективную конечную цель. Сразу же отметим, что связь между магией и риском, постулируемая Малиновским, совсем не очевидна. Любое начинание включает в себя риск, заключающийся в том, что оно может потерпеть неудачу или результат его не вполне будет отвечать ожиданиям. Однако в каждом обществе магия занимает довольно ограниченный участок, куда включаются лишь определенные практические начинания, другие же остаются вне его. Настаивать на том, что первые из них — это именно те, которые общество считает ненадежными, было бы логической ошибкой, поскольку нет объективного критерия, позволяющего отнести те или иные предприятия к разряду рискованных независимо от того, что некоторые о них сопровождаются магическими ритуалами. Известны общества, в которых виды деятельности, содержащие определенную опасность, остаются непричастными к магии. Это относится, например, к нгиндо, небольшому племени банту, стоящему на очень низком техническом и экономическом уровне и ведущему в лесах южной Танганьики жизнь, полную случайностей; важное место в хозяйственной жизни нгиндо занимает лесное пчеловодство. "Принимая во внимание, что пчеловодство таит в себе множество опасностей: долгие ночные проходы по враждебному лесу и встреча с не менее враждебным роем на головокружительной высоте, — может показаться поразительным, что оно не сопровождается никакими ритуалами. Но я заметил, что опасность не обязательно вызывает ритуал. Некоторые племена, живущие в лесу, без особых церемоний нападают на самую крупную дичь. Ритуал слишком мало привязан и к повседневным поискам пищи нгиндо" (Crosse-Upcott, р. 98). Итак, постулированная Малиновским эмпирическая связь не подтве- рждается. Выдвигаемая им (впрочем, вслед за Луази13) аргументация, как отмечает Рэдклиф-Браун, была бы вполне правдоподобна, если в ней переставить термины, чтобы прийти к противоположному тезису: "...а именно, что при отсутствии ритуала и связанных с ним верований индивид не будет испытывать беспокойства; и что ритуал имеет психологическим результатом возникновение чувства опасности и страха. Малоправдоподобно, что островной андаманец считал бы опасным потреблять мясо дугонга, свиньи или черепахи, если бы не существовало совокупности специальных ритуалов, декларируемая цель которых — защита от этих опасностей. Итак, если этнологическая теория утверждает, что магия и религия приносят человеку уверенность в себе, моральное благополучие и чувство безопасности, то столь же верно было бы сказать, что они рождают у людей страхи и тревоги, от которых те в ином случае были бы свободны" (Radcliffe-Brown 3, р. 148—149).
Итак, не оттого люди прибегают к магии, что испытывают беспокойство в определенных ситуациях, а напротив: именно потому, что эти ситуации сопровождаются магическим ритуалом, они порождают беспокойство. Но эта аргументация может быть использована также против первой теории тотемизма Рэдклиф-Брауна, поскольку там утверждается, что люди принимают ритуальную установку относительно животных и растений, вызывающих у них интерес (подразумевается спонтанный интерес). А разве нельзя сказать (и не внушается ли это предположение причудливостью перечня тотемов?), что скорее по причине ритуальных установок, которых придерживаются относительно этих видов, люди подводятся к тому, чтобы находить в них интерес? Конечно, можно представить, что на заре общественной жизни (и даже и сегодня) индивиды, подверженные беспокойству, изобрели (и всегда изобретают) принудительные поведенческие действия, сходные с теми, что наблюдаются у психопатов. Относительно этого множества индивидуальных вариаций таких действий могло проводиться нечто вроде социальной селекции, которая, подобно естественной селекции для мутаций, сохраняла бы и генерализовала те из них, что полезны для увековечения группы и поддержания порядка, исключая при этом прочие. Эта гипотеза, с трудом проверяемая в настоящем и вовсе не проверяемая для отдаленного прошлого, ничего бы не прибавила к простой констатации, что ритуалы могут рождаться и исчезать неупорядоченно. Чтобы выставить аргумент беспокойства, пусть хотя бы как намек на объяснение, потребуется сначала узнать, в чем заключается беспокойство, а затем — какие связи существуют между смутной и неупорядоченной эмоцией, с одной стороны, и поведенческими действиями, отмеченными печатью самой строгой точности и подразделяющимися на несколько различных категорий, — с другой. Посредством какого механизма первая породила бы вторые? Беспокойство не причина, это способ, каким человек постигает, субъективно и смутно, внутреннее расстройство, не зная, физическое оно или психическое. Если существует умопостигаемая связь, то ее следует искать между расчлененными поведенческими действиями и неупорядоченными структурами, теорию которых нужно еще создать, а не между этими действиями и отражением непознанных явлений на экране чувственности. Психиатрия, на которую имплицитно ссылается Малиновский, учит нас тому, что поведенческие действия больных являются символическими и что их интерпретация подчиняется какой-то грамматике, иначе говоря, коду, который, как и всякий код, естественно, экстра-индивидуален. Эти поведенческие действия могут сопровождаться тревогой, но не тревога их порождает. Фундаментальный недостаток тезиса Малиновского состоит в принятии за причину того, что в лучшем случае есть следствие либо сопутствующий феномен. Поскольку аффективность — это наименее ясная сторона человека, к ней постоянно пытались прибегнуть как к объяснению, забывая при этом, что нельзя ничего объяснить явлением, которое само не поддается объяснению. Данность не является первичной, оттого что она непостижима; объяснение, если оно существует, надо искать в другом плане. В противном случае довольствуются наклеиванием на проблему другой этикетки, веря, что разрешили ее. На примере первоначальной доктрины Рэдклиф-Брауна уже можно показать, как эта иллюзия исказила рефлексию относительно тотемизма. Именно она губит также и попытку Фрейда сформулировать свой взгляд на данную проблему в "Тотеме и табу". Известно, что Крёбер осудил эту работу за неточности и не вполне научный метод, но спустя двадцать лет несколько изменил свое отношение к ней. В 1939 г. он винит себя в несправедливости: не расплющится ли бабочка под песто- вым молотом? Если Фрейд отказался (а кажется, он это сделал) считать убийство отца историческим событием, то здесь можно увидеть символическое выражение возобновляющейся возможности: родовую и вневременную модель психологических установок, подразумеваемых повторяющимися феноменами или институтами, такими, как тотемизм и табу (Kroeber 3, р. 306). Но подлинная проблема заключается не в этом. В противоположность тому, чего придерживается Фрейд, происхождение и устойчивость социальных напряжений, позитивных и негативных, не объясняются действием импульсов или эмоций, которые возникали бы снова с теми же самыми характеристиками в течение веков или тысячелетий у различных индивидов. Ибо если бы повторение чувств объясняло устойчивость обычаев, то возникновение обычаев должно было бы совпасть с возникновением чувств, и тезис Фрейда не станет иным, даже если побуждение к отцеубийству соответствовало бы типической ситуации, а не историческому событию*.
Мы не знаем и никогда не узнаем о первоначале верований и обычаев, корни которых уходят в далекое прошлое. Но о том, что относится к настоящему, можно определенно сказать, что социальные действия не совершаются каждым индивидом спонтанно, под действием непосредственных эмоций. Будучи членами общности, люди не действуют соответственно своим индивидуальным ощущениям: каждый человек ощущает и действует так, как ему позволяется или предписывается. Обычаи даны человеку как внешние нормы до возникновения внутренних чувств, и эти внечувственные нормы детерминируют индивидуальные чувства, как и обстоятельства, в которых те смогут или должны будут проявиться. Впрочем, если бы институты и обычаи обретали свою жизнеспособность благодаря постоянному освежению и усилению индивидуальных чувств, сходных с теми, что составляли первоначало, то они должны были бы заключать в себе вечно брызжущее аффективное богатство, которое и было бы их позитивным содержанием. Однако известно, что дело обстоит отнюдь не так и что устойчивость, которую они выказывают, проистекает чаще всего из конвенциальной установки. К какому бы обществу ни принадлежал субъект, он редко способен видеть причину того, что есть в таком конформизме. Все, что он может сказать: вещи всегда были таковы, и он действует так, как действовали до него. Такого рода ответ кажется вполне правдоподобным. Не в послушании и практике проявляется рвение, как то было бы в случае, если бы каждый индивид воспринял социальные верования после того, как в тот или иной момент своего существования он их интимно, лично пережил. Эмоции возникают тогда, когда обычай (сам по себе индифферентный) нарушен. Покажется, что мы присоединились к Дюркгейму, но в последнем исследовании он и социальные феномены выводит из аффективности. Его теория тотемизма исходит из потребности и завершается обращением к чувству. Как мы уже упоминали, у него существование тотемов объясняется тем, что изображениям животных и растений стали приписывать ту же роль, которую прежде выполняли абстрактные произвольные знаки. Но почему же люди пришли к символизации своих клановых отношений посредством знаков? По причине, утверждает Дюркгейм, "инстинктивной тенденции", приводящей "людей низшей культуры... объединенных в общинную жизнь... к тому, чтобы на теле изображались или вырезались образы, напоминающие об этой общности существования" (с. 332). Этот графический "инстинкт" лежит в основе системы, находящей свое завершение в аффективной теории сакрального. Но как и те, что мы только что критиковали, дюркгеймовская теория коллективного источника сакрального покоится на логической ошибке: не актуальные эмоции, испытываемые по случаю собраний и церемоний, порождают или упрочивают ритуалы, а ритуальная деятельность вызывает эмоции. Религиозная идея не рождается "из возбужденной социальной среды и из самого этого возбуждения" (Durkheim, р. 313), а именно они ее предполагают. Действительно, импульсы и эмоции ничего не объясняют, они всегда проистекают: или из мощи тела, или из немощности духа. В обоих случаях это следствие; они никогда не являются причиной. Их истоки можно отыскать либо в организме, как это делает биология, либо в интеллекте, что является единственным путем для психологии, как и для этнологии14.
Талленси севера Золотого Берега разделены на патрилинейные кланы, соблюдающие различные тотемические запреты. Эта черта общая у них с племенами Верхней Вольты и даже с совокупностью племен Западного Судана. Речь идет не только о формальном сходстве: на всей этой обширной территории запрещены одни и те же животные виды, и мифы, привлекаемые для обоснования этих запретов, обычно одни и те же. Тотемические запреты талленси распространяются на таких птиц, как канарейка, горлица, курица; рептилий — крокодил, змея, черепаха (сухопутная и водяная); некоторых рыб; крупного кузнечика; грызунов: белка и заяц; жвачных животных: коза и баран; плотоядных — кошка, собака и леопард; наконец, других животных — на обезьяну, дикого кабана и т. д.: "Невозможно обнаружить что-либо общее у всех этих существ. Некоторые из них занимают важное место в экономической жизни туземцев в качестве источника пищи, но с этой точки зрения многие из них не заслуживают внимания. Многие представляют собой изысканное кушанье для тех, кто имеет право их употреблять; мясом других пренебрегают. Никто из взрослых не станет по своей воле есть кузнечиков, канареек или небольших съедобных змеек, и только малые дети, поедающие все, что они находят, могут быть всем довольны. Несколько видов считаются опасными в действительности либо в магическом плане: крокодил, змеи, леопард и все хищные звери. Напротив, многие совершенно безобидны как с практической, так и с магической точки зрения. Некоторые из них встречаются в скудном фольклоре талленси, в частности такие разные существа, как обезьяна, горлица и кошка... Отметим попутно, что кланы, имеющие тотемом кошку, не проявляют никакого почтения к домашним кошкам, да и к домашним собакам не существует особого отношения со стороны тех, кто может или не может есть их. Итак, тотемические животные талленси не образуют класса ни в зоологическом, ни в утилитарном, ни в магическом смысле. Можно лишь сказать, что вообще они принадлежат к достаточно обычным диким или домашним видам" (Fortes, р. 141—142). Итак, мы далеко ушли от Малиновского. Надо отметить особо, что Фортес полностью высветил проблему, которая, начиная с Боаса, смутно просматривается за иллюзиями, порожденными тотемизмом. Чтобы понять такого рода верования и обычаи, недостаточно приписывать им глобальную функцию, считая их простым, конкретным, удобно передаваемым в виде привычек, усвоенных с детства, способом выявить сложную структуру общества. Ибо возникает еще один вопрос, вероятно фундаментальный: почему появился именно животный символизм? И в особенности почему возник именно такой тотемизм, а не какой-то другой, ведь установлено, хотя бы и негативно, что выбор определенных животных нельзя объяснить с утилитарной точки зрения? В отношении талленси рассмотрим эту проблему поэтапно. Имеются отдельные животные или часто даже географически локализованные виды, являющиеся объектами табу, поскольку их встречают поблизости от жертвенников, относящихся к культу определенных предков. Там не идет речь о тотемизме в значении, обычно придаваемом этому термину. "Табу Земли" образуют промежуточную категорию между сакральными животными или видами животных и тотемами: так, крупных рептилий — крокодила, питона, древесную или водяную ящерицу — нельзя убивать в пределах жертвенника Земли. Они суть "люди Земли" в том же смысле, в каком люди считаются людьми такой-то или такой-то деревни, и они символизируют силу Земли, которая может быть благотворной или вредоносной. Необходимо узнать, почему выбираются определенные животные суши, а не другие: в частности, питон сакрален на территории одного определенного клана, а крокодил — на территории другого. Кроме того, животное является чрезвычайно простым для понимания объектом запрета: это предок, уничтожение которого было бы эквивалентно убийству. Не потому, что талленси верят в метемпсихоз, а потому, что предки, их человеческие потомки и оседлые животные объединены территориальной связью: "Предки... духовно присутствуют в социальной жизни своих потомков таким же образом, как сакральные животные присутствуют в сакральных водоемах либо на том участке, с которым группа идентифицируется" (с. 143). Итак, общество талленси сопоставимо с тканью, ряды и нити которой соответствуют локальным группам и линиям. Чтобы быть тесно связанными, этим элементам нет необходимости образовывать в общих рамках культа предков некие реальности, сопровождаемые особыми ритуальными санкциями и символами. Талленси знают, что индивид как социальная личность совмещает в себе множество ролей, каждая из которых соответствует аспекту или функции общества, и что перед ним постоянно встают проблемы ориентации и отбора: "Тотемические символы, как и все другие ритуальные символы, являются идеологическими ориентирами, используемыми индивидом для руководства" (с. 144). Как член расширенного клана, человек подчинен общим отдаленным предкам, символизированным тотемами; наконец, как индивид, — частным предкам, которые определяют его личную судьбу и могут проявляться через домашнее животное или какую-либо дичь: "Но какова общая тема у всех этих форм животного символизма? Для талленси люди и их предки вовлечены в бесконечную битву. Люди с помощью жертв стремятся сдержать предков или пытаются примириться с ними. Но поведение предков непредсказуемо. Они могут наносить вред, и люди оказывают им постоянное внимание, ожидая с их стороны скорее угрозы повседневной безопасности, чем благотворного покровительства. Именно агрессивным вмешательством в человеческие. дела предки удерживают социальный порядок. Что бы они ни делали, люди никогда не могут указывать предкам. Подобно речным и лесным зверям, они беспокойны, коварны, вездесущи; их поведение непредсказуемо и агрессивно. Отношение между людьми и животными, как мы наблюдаем это на опыте, представляет собой символ, подходящий для отношений между людьми и предками в плане мистической причинности" (с. 145). В таком сближении Фортес находит объяснение преобладающего места, отведенного хищным животным — тем, кого талленси объединяют словом "носители клыков", кто существует и защищается, нападая на других животных и даже на людей: "их символическая связь с потенциальной агрессивностью предков очевидна". Ввиду своей живучести эти животные являются также подходящим символом бессмертия. То, что этот символизм всегда лишь одного типа, а именно животного, проистекает из фундаментального характера социального и морального кода, образованного культом предков; использование различных животных символов объясняется тем, что этот код содержит в себе разные аспекты. В своем исследовании тотемизма в Полинезии Фирт уже склонялся к такому типу объяснения: "Природные виды, представленные в полинезийском тотемизме, — это чаще всего животные суши или моря. Растения, хотя они при случае и фигурируют, никогда не занимают преобладающего места. Мне кажется, предпочтение, оказываемое животным, объясняется верованием, что поведение тотема дает знать о действиях или намерениях божества. Поскольку растения неподвижны, то они не могут представлять никакого интереса. В более благоприятном положении здесь оказываются виды животных, наделенные двигательной активностью, способные к разнообразным движениям, ибо они часто обладают также и другими удивительными характеристиками — формой, цветом, свирепостью и особенным криком,—которые воспринимаются как средства, используемые сверхъестественными существами, чтобы проявить себя" (Firth 1, р. 393). Эти интерпретации Фирта и Фортеса гораздо удовлетворительнее, чем те, что имеются у классических приверженцев тотемизма или у таких его противников, как Гольденвейзер, поскольку им удалось избежать двух подводных камней: произвольности и искусственной очевидности. Ясно, что в так называемых тотемических системах природные виды не обеспечивают каких-то наименований социальным единицам, которые с тем же успехом могут обозначаться иначе; и столь же ясно, что, принимая животный или растительный эпоним, социальная единица не утверждает имплицитно, что между нею и им существует субстанциальное подобие: что она от него происходит, что она причастна его природе или что она им питается... Связь не является произвольной; это и не связь по смежности. Связь между ними, вероятнее всего, как и предусматривают Фирт и Фортес, основывалась на восприятии сходства. И еще требуется знать, в чем это сходство и в каком плане оно постигается. Можно ли сказать (как авторы, которых мы только что цитировали), что оно относится к физическому или моральному порядку, перенося таким образом эмпиризм Малиновского из органического и аффективного плана в план восприятия и суждения? Прежде всего отметим, что подобная интерпретация мыслима лишь по отношению к обществам, которые отделяют тотемический ряд от генеалогического, при этом признавая за ними равную значимость: один ряд может напоминать о другом, поскольку они не являются взаимосвязанными. Но в Австралии ряды смешиваются, и интуитивно воспринимаемое сходство, упомянутое Фортесом и Фиртом, оказалось бы из-за этого непостижимым. Во многих племенах Северной или Южной Америки сходство между тотемическим рядом и генеалогическим не постулируется ни имплицитно, ни эксплицитно; связь между предками и животными носит внешний и исторический характер: они знакомятся друг с другом, встречаются, наталкиваются друг на друга или оказываются ассоциированными. Это же утверждают многие африканские мифы, в том числе и талленси. Все эти факты побуждают искать связь в гораздо более общем плане, и обсуждаемые нами авторы не смогли бы этому противостоять, поскольку связь, которую они сами подсказывают, является лишь следствием. Во-вторых, рассматриваемая гипотеза имеет очень ограниченное поле применения. Фирт принимает ее для Полинезии на основании констатируемого там предпочтения, для животных тотемов. И Фортес признает, что она особенно подходит для определенных животных — "носителей клыков". Что же делать с другими и что делать с растениями там, где они занимают среди тотемов более значительное место? Что, наконец, делать с природными явлениями или объектами, с нормальными или патологическими состояниями, с изготовленными предметами — все они также могут служить тотемами и играют в некоторых формах австралийского и индейского тотемизма не ничтожную, а иногда даже существенную роль. Иначе говоря, интерпретация Фирта и Фортеса ограничена двояко. Прежде всего, она ограничена культурами, обладающими как весьма развитым культом предков, так и социальной структурой тотемического типа. Затем, в самих этих культурах она ограничена формами главным образом животного тотемизма или даже тотемизма, касающегося лишь определенных типов животных. Однако — и в этом мы согласны с Рэдк-лиф-Брауном — мы сможем покончить с так называемой тотемической проблемой не путем придумывания решения с ограниченным полем применения, чтобы потом обрабатывать непокорные случаи, пока факты не пожелают признать себя побежденными, а сразу достигая достаточно высокого общения, чтобы все наблюдаемые случаи могли фигурировать в ней как частные виды. И наконец, и это главное, психологическая теория Фортеса базируется на неполном анализе. Возможно, что животные в общих чертах и сопоставлялись с предками. Но это условие не является ни необходимым, ни достаточным. Если можно так выразиться, то не сходства, а различия сходны здесь между собой. Под этим подразумевается прежде всего, что нет животных, сходных между собой (оттого, что всем им присуще поведение животных), и предков, сходных между собой (оттого, что им присуще поведение предков), наконец, нет глобального сходства между обеими группами, но есть, с одной стороны, животные, отличающиеся друг от друга (поскольку они принадлежат к различным видам, У каждого из которых — свойственный ему физический облик и образ жизни), а с другой стороны, люди — относительно которых предки образуют частный случай, — различающиеся между собой (поскольку они поделены между сегментами общества, каждый из которых занимает особую позицию в социальной структуре). Подобие, подразумеваемое так называемыми тотемическими представлениями, располагается между этими двумя системами различий. Фирт и Фортес значительно продвинулись вперед, перейдя от точки зрения субъективной полезности к точке зрения объективной аналогии. Но как только такой сдвиг был совершен, осталось лишь сделать переход от внешней аналогии к внутренней гомологии. Идея объективно воспринимаемого сходства между людьми и тотемами выглядела бы проблематично уже в отношении азанде, числящих среди своих тотемов воображаемых животных: хохлатая змея, змея- радуга, водяной леопард, животное-гром (Evans-Pritchard 1, р. 108). Но даже для нуэр, все тотемы которых соответствуют реальным существам или объектам, следует признать, что этот список образует весьма причудливый подбор: лев, водяной козел (полорогое), варан, крокодил, различные змеи, черепаха, страус, белая цапля, птица дурра, различные деревья, папирус, тыква, различные рыбы, пчела, красный муравей, река и ручей, скот разнообразной масти, животное с одним семенником, кожа, стропило (несущей конструкции), веревка, различные части тела животных, наконец, несколько болезней. Рассматривая эти тотемы в их совокупности, "можно сказать, что никакой явно обозначенный фактор полезности не направляет их отбор. Млекопитающие, птицы, рыбы, растения и предметы, наиболее полезные для нуэр, не фигурируют среди их тотемов. Следовательно, наблюдения над тотемизмом нуэр не подтверждают тезис тех, которые, главным образом или исключительно, видят в тотемизме ритуальное выражение эмпирических интересов" (Evans-Pritchard 3, р. 80). Возражение эксплицитно направлено против Рэдклиф-Брауна, и Эванс-Притчард напоминает, что оно было сформулировано уже Дюркгеймом по поводу аналогичных теорий. Нижеследующее можно отнести к интерпретации Фирта и Фортеса: "Вообще-то тотемы нуэр совсем не являются созданиями, которые могли бы обратить на себя внимание благодаря какой-то своей удивительной особенности. Как раз напротив, создания, вдохновившие мифо- поэтическое воображение нуэр и занимающие первенствующее место в их сказках, не выступают в качестве тотемов, разве что изредка и незначительно" (ibid., р. 80). Итак, наш автор отказывается отвечать на вопрос, фигурирующий постоянно и как лейтмотив с начала нашего изложения: почему млекопитающие, птицы, рептилии и деревья становятся символами связи между духовной силой и человеческими общностями. Более того, как он отмечает, диффузные верования могут предуготовить определенные существа к выполнению этой функции: птицы летают, и, следовательно, они лучше подходят для коммуникации с верховным духом, пребывающим на небе. Довод не относится к змеям, хотя, на свой лад, они также суть проявления духа. Деревья, редкие в саванне, считаются божественным благодеянием ввиду даваемой ими тени; реки и ручьи имеют отношения с духом воды. Что касается животных с одним семенником и тех животных, которые характеризуются необычной мастью, то верят, что они суть видимые знаки какой-то исключительно мощной духовной деятельности. Лучше, не возвращаясь к эмпиризму и натурализму, которые Эванс-Притчард с полным основанием отвергает, признать, что эти туземные рассуждения малопонятны. Ибо если исключить, что вода была объектом ритуальных установок ввиду ее биологической или экономической функции, то ее отношение к предполагаемому духу воды сводится к любому вербальному способу выражать придаваемую ей духовную значимость, что не может быть объяснением. Так же и в других случаях. Напротив, Эванс-Притчарду удалось углубить анализ, что позволяет ему обнаружить одну за другой связи, соединяющие в мышлении нуэр некоторые типы людей с некоторыми видами животных. Для определения близнецов нуэр используют формулы, которые на первый взгляд кажутся противоречивыми. С одной стороны, они говорят, что близнецы суть "один человек" (ран); с другой — что близнецы являются не "людьми" (ран), а "птицами" (дит). Чтобы правильно интерпретировать эти формулы, следует поэтапно рассмотреть подразумеваемое ими рассуждение. Будучи проявлением божественных сил, близнецы являются прежде всего "божественными детьми" (гат квот), и, поскольку небо — божественное местопребывание, о них можно также сказать "люди сверху" (ран нхиал). В этом отношении они противопоставляются обычным людям, которые суть "люди снизу" (ран пини). Поскольку птицы тоже — "сверху", то близнецы им уподоблены.
Тем не менее близнецы остаются человеческими существами: будучи все же "сверху", они суть относительно "снизу". Но такое же различение применимо и к птицам, поскольку некоторые виды летают ниже и не так хорошо, как другие: на свой лад, следовательно, и в общем оставаясь "сверху", птицы также могут быть разделены в отношении верха и низа. Итак, теперь понятно, почему близнецов называют по именам "земляных" птиц: цесарка, куропатка и т. п. Отношение, устанавливаемое таким образом между близнецами и птицами, не объясняется ни принципом сопричастия на манер Леви-Брюля15, ни утилитарными соображениями, как те, что упоминаются Малиновским, ни интуицией чувственного сходства, допускаемой Фиртом и Фортесом. Мы присутствуем при серии логических сцеплений, соединяющих ментальные отношения. Близнецы "суть птицы" не потому, что они с ними смешиваются или им подобны, а потому, что относятся к другим людям, как "люди сверху" к "людям снизу", и среди птиц выступают, как "птицы снизу" по отношению к "птицам сверху". Итак, как птицы они занимают промежуточное положение между верховным духом и людьми.
Хотя сформулированное Эвансом-Притчардом положение неясно, это рассуждение приводит его к важному заключению. Ибо такого рода вывод применим не только к тем особенным связям, которые нуэр устанавливают между близнецами и птицами (впрочем, настолько параллельными тем отношениям, которые квакиютль Британской Колумбии мыслят между близнецами и лососями, что уже этого сближения достаточно для предположения, что в обоих случаях действие основывается на более общем принципе), но к любой связи, постулируемой между человеческими группами и животными видами. Как отмечает Эванс-Притчард, это связь метафорического порядка (ibid., р. 90: поэтические метафоры). Нуэр говорят о природных видах по аналогии с их собственными социальными сегментами, такими, как линии, и связь между линией и тотемным видом мыслится по модели того, что они называют бут: связь между коллатеральными линиями, происходящими от общего предка. Следовательно, животный мир мыслится в терминах социального мира. Имеется сообщество (сиенг) хищных животных — лев, леопард, гиена, шакал, дикая собака и домашняя собака, охватывающее в качестве одной из своих линий (ток двель) мангуст, подразделяющихся на подлинии: разновидностей мангуст, малых кошачьих и т. д. Травоядные образуют коллектив или класс (баб), охватывающий всех полорогих: антилоп, газелей, буйволов и коров; а также зайцев, баранов, коз и т. д. Сообщество "безногие люди" группирует линии змей, а сообщество "люди рек" объединяет всех животных, которые часто навещают воду и болотистые места: крокодилов, ящериц, рыб, водяных птиц и птиц, ловящих рыбу, — впрочем, как и туземцев ануак и балак динка, занимающихся не скотоводством, а рыболовством и огородничеством по берегам рек. Птицы образуют широкое сообщество, подразделяющееся на несколько линий: "дети Бога", "племянники детей Бога" и "сыновья либо дочери благородных" (ibid., р. 90). Эти теоретические классификации лежат в основе тотемических представлений: "Тотемическую связь, следовательно, возможно отыскать не в собственно природе тотема, а в тех ассоциациях, которые он вызывает в сознании" (ibid., р. 82). Формула, которой Эванс-Притчард недавно придал более строгое выражение: "На живые существа проецируются понятия и чувства, источник которых оказывается не в них" (Evans-Fritchard 4, р. 19). При всей их плодотворности эти взгляды требуют, однако, двух оговорок. Во-первых, анализ туземной теории близнечества слишком тесно подчинен собственно теологии нуэр: "Формула (уподобляющая близнецов птицам} передает не диадную связь между близнецами и птицами, а триадную связь между близнецами, птицами и Богом. Именно через отношение к божеству близнецы и птицы имеют общую характеристику..." (Evans-Pritchard 3, р. 132). Тем не менее вера в верховное божество не является необходимой для того, чтобы установились связи этого типа, ведь и мы сами выявили их в гораздо менее теологичных обществах, чем нуэр* 16>.
Формулируя таким образом свою интерпретацию, Эванс-Притчард рискует ее ограничить: подобно Фирту и Фортесу (хотя в меньшей степени), он даёт общую интерпретацию в языке конкретного общества и тем ограничивает пределы ее применимости. Во-вторых, как нам кажется, Эванс-Притчард не оценил важности революции, совершенной второй теорией тотемизма** Рэдклиф-Брауна за несколько лет до публикации "Религии нуэр". Она гораздо более радикально отличается от первой, чем считали английские этнологи. По нашему мнению, она не только довершает ликвидацию тотемической проблемы: она высвечивает подлинную проблему, выдвигающуюся на другом уровне и в иных терминах, проблему, которая еще не была ясно воспринята, хотя ее наличие могло, в конце концов, показаться глубинной причиной интенсивных завихрений, вызванных тотемической проблемой в мышлении этнологов. Действительно, представляется маловероятным, чтобы многие крупные умы изощрялись безо всякого основания, даже если учесть, что состояние знаний и укоренившиеся предрассудки препятствовали правильному осознанию эмпирического материала или что им открывалась лишь искаженная видимость. Теперь, следовательно, направим наше внимание на вторую теорию Рэдклиф-Брауна.
Хотя сам автор не подчеркивает ее новизну, эта теория появилась спустя двадцать два года после первой и была опубликована в Huxley Memorial lecture for 1951, в статье "Сравнительный метод в социальной антропологии". В сущности, Рэдклиф-Браун представляет эту теорию как пример того сравнительного метода, который единственно способен позволить антропологии сформулировать "общие положения". Таким же образом была введена и первая теория (см. выше, с. 76—77). Итак, между первой теорией и второй существует преемственность в методологическом плане. Но на этом сходство их кончается. Австралийские племена реки Дарлинг в Новом Южном Уэльсе делятся на две экзогамные матрилинейные фратрии, названные соответственно Сокол и Ворона. Можно попытаться дать историческое объяснение такой социальной организации: например, два враждующих племени однажды решили заключить мир и, чтобы лучше его обеспечить, условились, что отныне мужчины из одного племени будут брать в жены женщин из другого и наоборот. Поскольку нам не все известно из прошлого данных племен, это объяснение обречено оставаться необоснованным и гадательным. Лучше посмотрим, нет ли в других местах аналогичных институтов. Хайда с островов королевы Шарлотты, в Британской Колумбии, разделены на матрилинейные экзогамные фратрии, названные Орел и Ворон. В одном из мифов хайда рассказывается, что в начале времен орел был хозяином всей воды в мире, которую он хранил запертой в герметичной корзине. Ворон похитил корзину, но в то время, как он перелетал через острова, вода пролилась на землю: так возникли озера и реки, в которых с тех пор птицы утоляют жажду и которые заселены лососями, составляющими основную пищу людей. Птицы-эпонимы этих австралийских и американских фратрий принадлежат к весьма близким и симметрично противопоставленным видам. Но в Австралии существует миф, весьма сходный с тем, что мы только что изложили: некогда сокол держал воду в колодце, заделанном большим камнем, который он приподнимал, когда хотел пить. Ворона подметила эту уловку и, в свою очередь, желая пить, сняла камень, задела своей головой, полной паразитов, поверхность воды и забыла закрыть колодец. Вся вода вытекла, породив гидрографическую сеть Восточной Австралии, и вши от птицы превратились в рыб, которыми питаются сейчас туземцы. Следует ли, в духе исторических реконструкций, для объяснения этих аналогий вообразить древние связи между Австралией и Америкой? Это было бы забвением того, что австралийские экзогамные фратрии — матрилинейные и патрилинейные — часто обозначаются по названиям птиц и что, следовательно, именно в Австралии племена реки Дарлинг иллюстрируют общую ситуацию. В Западной Австралии обнаруживаем белого какаду, противопоставленного вороне; в штате Виктория — белого какаду, противопоставленного черному какаду. Птицы-тотемы весьма распространены и в Меланезии; фратрии некоторых племен Новой Ирландии носят названия соответственно морского орла и ястреба-рыболова. Обобщая далее, мы приблизимся к предшествовавшим фактам, характерным для тотемизма полов (а не фратрий), также обозначенного названиями птиц или подобных животных: в Восточной Австралии летучая мышь — мужской тотем, сова — женский. В северной части Нового Южного Уэльса эти функции соответственно выпадают на долю летучей мыши и пищухи (Climacteris sp). Наконец, приходим к тому, что австралийский дуализм проявляется и на плане поколений: в том, что индивид может быть помещен в ту же категорию, что его дед и внук, тогда как его отец и сын находятся в противоположной категории. Чаще всего эти фратрии, образованные чередующимися поколениями, не именуются. Но если это происходит, они могут носить имена птиц. Так, в Западной Австралии — зимородок и птица-осоед, а еще — красная птица и черная птица: "Вопрос, поставленный нами вначале: "Для чего все эти птицы?" — следовательно, расширяется. Помимо экзогамных фратрий, другие типы дуального деления обозначены через соотнесение с парой птиц. И более того, не всегда речь идет о птицах. В Австралии фратрии могут также ассоциироваться с другими парами животных: в одном регионе — два вида кенгуру, в другом — два вида пчел. В Калифорнии одна фратрия ассоциируется с койотом, а другая — с дикой кошкой" (Radcliffe-Brown 4, р. 113). Сравнительный метод и состоит в интегрировании частного феномена в совокупность, чтобы поступательное сопоставление делалось все более общим. И наконец, мы сталкиваемся со следующей проблемой: как объяснить, что социальные группы или сегменты общества могут различаться через ассоциацию каждого из них каким-либо природным видом? Эта проблема, являющаяся как раз проблемой тотемизма, прикрывает собою две другие: каким образом каждое общество мыслит отношение между человеческими существами и другими природными видами (проблема внешняя для тотемизма, как это видно из примера андаманцев); и, с другой стороны, каким путем социальные группы приходят к тому, чтобы быть идентифицированными посредством эмблем, символов либо эмблематических или символических предметов? Эта вторая проблема также выходит за рамки тотемизма, поскольку с этой точки зрения одна и та же роль может достаться (в соответствии с рассматриваемым типом сообщества) знамени, гербу, какому-либо святому или виду животных. Вплоть до настоящего момента критический анализ Рэдклиф-Брауна возобновляет то, что было сформулировано им в 1929 г. в строгом соответствии, как мы видели, с выводами Боаса (см. выше, с. 46 и 76—77). Но в своей лекции 1951 г. он вносит изменения, заявляя, что этого критического анализа недостаточно, ибо существует неразрешенная проблема. Даже полагая, что возможно удовлетворительное объяснение "тотемической" предрасположенности к животным видам, следует еще понять, почему один определенный вид предпочитается другому: "В силу какого принципа отбираются пары — такие, как сокол т и ворона, орел и ворон, койот и дикая кошка, — чтобы представлять фратрии дуальной организации? Вопрос вызван не пустым любопытством. Если бы мы поняли принцип, то, возможно, были бы в состоянии познать изнутри, как сами туземцы представляют себе дуальную организацию в качестве своей социальной структуры. Другими словами, вместо того чтобы спрашивать себя: "Для чего все эти птицы?" — мы можем задаться вопросом: "Почему преимущественно сокол и ворона и все прочие пары?" (ibid., р. 114). Решительный демарш. Он влечет за собой реинтеграцию содержания в форму и таким образом открывает дорогу подлинному структуральному анализу, равно удаленному от формализма и от функционализма17. Ибо Рэдклиф-Браун предпринимает структуральный анализ — с одной стороны, тесно связывая институты с представлениями, а с другой — интерпретируя совместно все варианты одного и того же мифа.
Миф, известный в нескольких регионах Австралии, выводит двух протагонистов, конфликты между которыми обеспечивают основную ткань повествования. Одна версия из Западной Австралии выводит Сокола и Ворону (самца), первый из них — дядя второго по материнской линии, а также его потенциальный тесть ввиду предпочтительности брака с дочерью брата матери. Тесть, реальный либо потенциальный, имеет право требовать от своего зятя пищевые подарки, и Сокол приказывает Вороне доставить ему кенгуру-валлаби. После успешной охоты Ворона поддается искушению: он съедает дичь, но притворяется, что вернулся ни с чем. Но дядя не верит этому и задает вопрос о его округлившемся животе. Ворона отвечает, что для утоления голода набил живот смолой акации. Однако недоверчивый Сокол начинает щекотать своего племянника, и тот изрыгает мясо. В наказание Сокол бросает виновника в огонь и держит его там, пока глаза у того не покраснели и перья не почернели. Тогда же боль исторгает у Вороны крик — отныне характерный для него. Сокол постановил, что Ворона впредь не будет сам охотиться, а будет похищать дичь, добытую другими. С тех пор так и происходит. Невозможно, продолжает Рэдклиф-Браун, понять этот миф, не обращаясь к этнографическому контексту. Австралиец считает себя "едоком мяса", и сокол и ворона -— плотоядные птицы — являются его основными конкурентами. Когда туземцы охотятся, поджигая джунгли то вскоре появляются соколы, чтобы оспорить у них дичь, ускользающую от пламени: они тоже охотники. Вороны же, взгромоздясь на деревья неподалеку от огней стойбища, поджидают случая поживиться за счет пиршества других. Мифы подобного типа можно сопоставить с другими с аналогичной структурой, хотя в них выводятся разные животные. Так, туземцы, живущие в Южной Австралии и Виктории, рассказывают, что кенгуру и фасколом (вомбат: другое сумчатое, но поменьше), составляющие их основную дичь, некогда были друзьями. Однажды Вомбат затеял построить себе "дом" (это вид, живущий на земле), а Кенгуру насмехался над ним. Но когда впервые пошел дождь и Вомбат укрылся в своем "доме", он запретил Кенгуру входить туда, ссылаясь на то, что "дом" слишком мал для двоих. Кенгуру в ярости ударил Вомбата камнем по голове и сплющил ему череп. Вомбат нанес ответный удар, воткнув копье в заднюю лапу Кенгуру. Так с тех пор и идет: у вомбата плоская голова, и он живет в норе; у кенгуру ~ хвост, и он живет под открытым небом: "Конечно, это не что иное, как "вот такая история", и, как можно считать, детская. Но если взять несколько дюжин сказок одного и того же типа, можно обнаружить в них общую тему. Сходства и различия между видами животных переводятся в термины дружественности и конфликта, солидарности и противоположения. Иначе говоря, мир жизни животных представлен в виде социальных связей, таких, какие преобладают в человеческом обществе" (Radcliffe-Brown 4, р. 116). Чтобы получить такой результат, природные виды классифицированы по парам оппозиций, а это возможно при условии, если выбираются виды, которые имеют хотя бы одну общую характеристику, позволяющую их сопоставлять. Принцип ясен в отношении сокола и вороны, которые являются плотоядными птицами, но все же отличаются друг от друга: первая — как хищник, вторая — как пожиратель падали. Но как интерпретировать пару: летучая мышь — сова? Рэдклиф-Браун признается, что соблазнился их общей характеристикой как ночных птиц. Однако в регионе Нового Южного Уэльса как раз пищуха, дневная птица, противопоставляется летучей мыши как женский тотем: действительно, в мифе рассказывается, что пищуха обучила женщин искусству лазить по деревьям. Поощренный этим объяснением информатора, Рэдклиф-Браун спрашивает: "Какое сходство между летучей мышью и пищухой?" На что туземец отвечает, явно удивленный таким неведением: "Но посмотри же! Они обе живут в дуплах деревьев!" То же в случае совы (night owl) и козодоя (nightjar). Общая черта рассматриваемой пары — оба питают- ся мясом и живут под сенью деревьев, что и обусловливает их сравнение с человеческим состоянием*. Но здесь за сходством имеется и внутренняя оппозиция: будучи плотоядными, птицы соответственно — "охотник" и "вор". Члены одного и того же вида какаду различаются по цвету - белый или черный; точно так же птицы, живущие на деревьях, - дневные или ночные и т. д.
Следовательно, деление "сокол — ворона" у племен реки Дарлинг, из чего мы исходили, при завершении анализа выступает как "весьма часто употребляемый тип определенного структурного принципа" (с. 123). Этот принцип состоит в объединении противопоставленных терминов. Посредством специальной номенклатуры, образованной животными и растительными терминами (и в этом его единственная отличительная характеристика), так называемый тотемизм выражает на свой лад (сегодня мы бы сказали "посредством особого кода") корреляции и оппозиции, которые могут быть формализованы и по-другому. Так, у некоторых племен Северной и Южной Америки — посредством оппозиции типа: небо — земля, война — мир, верховье — низовье, красное — белое и т. п. Наиболее общая модель и наиболее систематическое употребление таких оппозиций встречаются, вероятно, в Китае, в противоположении двух принципов Ян и Инь — мужского и женского, дня и ночи, лета и зимы — из их союза проистекает организованная целостность (тао): брачная пара, сутки или год. Тотемизм, таким образом, сводится к частному способу формирования общей проблемы: сделать так, чтобы оппозиция, вместо того чтобы препятствовать интеграции, служила бы ее ускоренному осуществлению. Доказательство Рэдклиф-Брауна определенно превосходит дилемму, которой были ограничены как противники, так и приверженцы тотемизма, поскольку ими приписывались живым видам только две роли: природного стимула или произвольного предлога. Животные в тотемизме перестают быть исключительно или в особенности теми созданиями, которых страшатся, которыми восхищаются или которых страстно жаждут: их чувственная реальность обнаруживает понятия и связи, постигаемые теоретическим мышлением исходя из данных наблюдения. Понятно, наконец, что природные виды отбираются не из-за того, что они "хороши, чтобы кушать", а потому, что "хороши, чтобы думать". Между этим тезисом и тем, который ему предшествовал, разрыв настолько велик, что хотелось бы знать, отдавал ли себе отчет Рэдклиф-Браун о пройденном пути. Вероятно, ответ находится в конспекте лекций, прочитанных им в Южной Африке, и в неизданном тексте лекции по австралийской космологии — последние случаи, когда он имел возможность публично высказаться до его смерти в 1955 г. Он не был человеком настолько обходительным, чтобы менять свое мнение или признавать случайные влияния. И. однако, трудно не заметить, что десять лет, которые предшествовали его "Huxley Memorial Lecture", были отмечены приближением к антропологии и к структурной лингвистике. Всем тем, кто принял участие в этой затее, следует хотя бы попытаться поверить, что она могла найти отклик в мышлении Рэдклиф-Брауна. Понятия оппозиции и корреляции, понятие пары оппозиций имеют длительную историю, но именно структурная лингвистика и вслед за ней структуральная антропология вновь ввели их в словарь гуманитарных наук. Удивительно встретить их в сочинениях, вышедших из-под пера Рэдклиф-Брауна, со всеми их импликациями, которые, как мы видели, подводят его к тому, чтобы оставить прежние позиции, отмеченные печатью натурализма и эмпиризма. Тем не менее этот отход осуществляется не без колебания: в какой-то момент Рэдклиф-Браун кажется неуверенным относительно распространения своего тезиса за пределы австралийских данных: "Австралийская концепция того, что мы здесь обозначили термином "оппозиция", — это частный случай употребления ассоциации через противопоставление, что является универсальной чертой человеческого мышления и что побуждает нас мыслить парами контрастов: высокое и низкое, сильное и слабое, черное и белое. Но австралийское понятие оппозиции сочетает идею пары противоположностей с идеей пары соперников" (ibid., р. 118). Верно и то, что последствием современного структурализма, впрочем, еще неясно выраженным, должно стать извлечение ассоциативной психологии из немилости, в которую она впала. Ассоцианизм имел большую заслугу в очерчивании контуров элементарной логики, являющейся как бы наименьшим общим знаменателем всякой мысли, но при этом осталось незамеченным, что здесь речь идет об изначальной логике, непосредственном выражении структуры ума (и, несомненно, за умом — мозга), а не о пассивном продукте действия среды на аморфное сознание18. Но в противоположность тому, во что Рэдклиф-Браун еще склонен верить, именно логика оппозиций и корреляций, исключений и включений, совместимостей и несовместимостей объясняет законы ассоциации, а не наоборот: обновленный ассоцианизм должен будет основываться на системе операций, которая будет аналогична алгебре Буля19. Как показывают выводы самого Рэдклиф-Брауна, анализ австралийских данных ведет его дальше простого этнографического обобщения: вплоть до законов языка и даже мышления.
И это не все. Мы уже отмечали, что Рэдклиф-Браун понял: в том, что касается структурального анализа, невозможно отделить форму от содержания. Форма не вне, а внутри. Чтобы постичь основание животных наименований, следует рассмотреть их конкретно, ибо мы не вольны перейти грань, за которой будет царить произвол. Значение не декретируется, его нет нигде, если оно не везде. Наши ограниченные познания часто не позволяют нам преследовать его вплоть до последнего убежища: так, Рэдклиф-Браун не объясняет, почему некоторые австралийские племена видят подобие между жизнью животных и человека в их плотоядных вкусах, тогда как другие племена упоминают об общности мест их обитания. Но его демонстрация имплицитно предполагает, что и это различие значимо, и если бы мы были достаточно осведомлены, то смогли бы поставить его в корреляцию с другими различиями, обнаруживаемыми между соответствующими верованиями двух групп, между их техниками или между их отношениями со средой. Действительно, метод, которому следует Рэдклиф-Браун, столь же надежен, как и подсказываемые им интерпретации. Каждый из уровней социальной реальности выступает в качестве необходимого дополнения, при отсутствии которого невозможно понять другие уровни. Обычаи отсылают к верованиям, а те—к техникам; однако различные уровни не просто отражают друг друга: они диалектически взаимодействуют между собой таким образом, что нельзя надеяться познать один, не оценив прежде, в свете соответствующих им оппозиционных и коррелятивных связей, институты, представления ситуации. В каждом из этих практических предприятий антропология, таким образом, подтверждает гомологию структуры между человеческим мышлением в действии и человеческим объектом, к которому оно применяется. Методологическая интеграция глубинного основания и формы по-своему отражает более существенную интеграцию — метода и реальности20.
Несомненно, Рэдклиф-Браун мог бы отвергнуть выводы, только что извлеченные нами из его демонстрации, ибо до конца своей жизни из соображений якобы верности делу* он оставался приверженцем эмпиристской концепции структуры. Тем не менее мы полагаем, что очертили, не исказив, начальную стадию пути, открытого его лекцией 1951 г. Если бы даже у нее не нашлись последователи, она свидетельствует о плодотворности мышления, хотя и подстерегаемого старостью и болезнью, но несшего в себе обещания обновления.
Насколько бы новой ни показалась в этнологической литературе последняя теория тотемизма Рэдклиф-Брауна, он тем не менее не является ее изобретателем. При этом маловероятно, что он вдохновлялся предшественниками, располагающимися за рамками собственно этнологической рефлексии. Принимая во внимание интеллектуалистский характер, признанный нами за этой теорией, можно удивляться, что Бергсон защищал весьма близкие идеи. В "Двух источниках морали и религии" находим набросок теории, интересной тем, что в некоторых ее моментах можно провести аналогию с теорией Рэдклиф-Брауна. Впрочем, здесь представляется случай поставить проблему, касающуюся истории идей вообще и позволяющую также совершить восхождение к постулатам, которые подразумевают размышления о тотемизме. Чем объяснить, что философ, отводящий первостепенное место аффективности и проживаемому опыту, приступая к этнологической проблеме, оказывается на противоположной стороне от тех этнологов, чья доктринальная позиция во многих отношениях близка его собственной? В "Двух источниках" Бергсон21 подступает к тотемизму через культ животных, который он доводит до разновидности культа духов. Тотемизм не смешивается с зоолатрией, но в то же время предполагается,"что человек обращается с животным или даже с растительным видом. а иногда и с простым неодушевленным предметом с почтением. которое имеет сходство с религией" (с. 192). Это почтение представляется связанным в туземном мышлении с верой в тождество между животным или растением и членами клана. Как же можно объяснить эту веру? Гамма предложенных интерпретаций ограничена двумя крайними гипотезами, которые, следовательно, и достаточно будет рассмотреть: либо "партиципация" на манер Леви-Брюля, имеющая дело со множеством значений выражения, переводимого в различных языках посредством глагола "быть", значение которого двусмысленно, даже у нас; либо сведение тотема к роли эмблемы и простого обозначения клана, как это делает Дюрктейм, но тогда невозможно учесть место, занимаемое тотемизмом в жизни людей.
Ни одна, ни другая интерпретация не позволяет, впрочем, ответить просто и недвусмысленно на вопрос, почему, если речь идет о тотемах, выказывается явное предрасположение к животным и растениям. Итак, вновь приходится отыскивать, что является изначальным в том способе, каким человек воспринимает и мыслит растения и животных:"В то время, когда природа животного кажется сосредоточенной на каком-то отдельном качестве, можно сказать, что его индивидуальность растворяется в роде. Узнавание человека состоит в том, чтобы отличать его от других людей; но узнавать животное — это значит обычно представлять себе тот вид, к которому оно принадлежит... Каким бы животное ни было конкретным и индивидуальным, оно выступает неким качеством настолько же сущностно, как род" (Bergson, р. 192). Именно это непосредственное восприятие рода через индивидов характеризует связь между человеком и животным или растением; именно оно также помогает лучше понять "эту странную вещь, каковой является тотемизм". В самом деле, истину следует искать на полпути между двумя крайними позициями, только что упомянутыми:"Как бы в одном клане ни говорилось, что он есть такое-то или такое-то животное, из этого ничего не извлечь; но то, что два клана, входящие в одно и то же племя, необходимо должны быть двумя различными животными, гораздо более значимо. Действительно, предположим, что эти два клана составляют два вида в биологическом смысле слова... дадим первому из них название одного животного, а второму — другого. Каждое из этих названий, взятое отдельно, не что иное, как просто наименование; вместе они эквивалентны утверждению, что два клана имеют разную кровь" (Bergson, р. 193—194). Нет необходимости следовать за Бергсоном до вершины его теории, ибо мы оказались бы увлеченными на шаткую почву. В тотемизме Бергсон видит средство экзогамии, а в ней самой — действие инстинкта, предназначенного предотвращать биологически вредные браки между близкими родственниками. Но если бы существовал такой инстинкт, то обращение к институциональным путям оказалось бы излишним. Более того, принятая социологическая модель находилась бы в забавном противоречии с как бы вызвавшим ее зоологическим источником: животные эндогамны, а не экзогамны: они соединяются и размножаются исключительно в пределах вида. Делая "специфическим" каждый клан и "специфически" дифференцируя одни от других22, мы придем, следовательно (если бы тотемизм был основан на биологических тенденциях и на естественных чувствах), к противоположному от искомого результату: каждому клану придется быть эндогамным, подобно биологическому виду, и кланы останутся друг другу чужеродными.
Бергсон настолько осознает эти трудности, что старается модифицировать свое положение в двух моментах. Все еще считая реальной потребность людей избегать кровнородственные браки, он признает, что никакой "реальный и действующий" инстинкт ей не соответствует. Природа компенсирует этот недостаток на путях интеллекта, порождая "воображаемую репрезентацию, детерминирующую поведение, как это бы сделал инстинкт" (с. 195). Однако, помимо того, что мы здесь полностью открываем дорогу метафизике, эта "воображаемая репрезентация" имела бы, как мы только что видели, содержание, прямо противоположное своему предполагаемому объекту. Несомненно, именно для того чтобы преодолеть это второе препятствие, Бергсону приходится свести "воображаемую репрезентацию" к форме: "Итак, когда они {члены обоих кланов} заявляют, что образуют два вида животных, они делают акцент не на анимальности, а на дуальности" (ibid, р. 195). Несмотря на различие в посылках, Бергсон на двадцать лет ранее формулирует вывод, к которому пришел Рэдклиф-Браун. Эта проницательность философа, внушившая ему, хотя и против воли, ответ на проблему, еще не разрешенную профессиональными этнологами ("Два источника" были опубликованы не позднее первой теории Рэдклиф-Брауна), гораздо более замечательна, чем происходящая по этому поводу настоящая доктринальная чехарда между Бергсоном и Дюркгеймом, как-никак современниками. Философствуя о движущемся, Бергсон находит решение тотемической проблемы в сфере оппозиций и понятий; совершая противоположный демарш, Дюрктейм, также считавший, что должен всегда восходить к категориям и даже к антиномиям, искал решение в плане неразличенности. Дюрктеймовская теория тотемизма состоит из трех моментов, из которых Бергсон в своей критике попытался оставить два первых. Сперва клану "инстинктивно" придается эмблема (см. выше, с. 100), которая может быть обобщенным рисунком, сведенным к нескольким штрихам. В конечном счете в рисунке "признают" изображение животного, которое впоследствии модифицируют. Наконец, это изображение сакрализуется ввиду смешения чувства к клану и к его эмблеме. Но каким образом ряд этих операций, осуществляемых каждым кланом независимо от других кланов, может в итоге сложиться в систему? Дюркгейм отвечает: "Если тотемический принцип предпочтительно опирается на определенный животный или растительный вид, он не может здесь пребывать локализованно. Сакральная характеристика в наивысшей степени заразительна; она распространяется от тотемического существа на все, с чем оно соприкасается, близко или далеко...: вещество, которым оно кормится... вещи, сходные с ним... различные существа, с которыми оно находится в постоянных отношениях... В конечном счете весь мир оказался разделенным между тотемическими принципами того же самого племени" (Durkheim, р. 318). Термин "разделен" скрывает, по-видимому, неоднозначность, ибо подлинное разделение проистекает не из взаимного и непредсказуемого ограничения в экспансии нескольких зон, каждая из которых охватила бы лагерь полностью, если бы не противоречила продвижению других. Распределение в итоге было бы произвольным и случайным; оно шло бы от истории и от прецедента, и было бы невозможно понять, каким образом пассивно проживаемые различения, обреченные никогда не быть постигнутыми, могли бы являться источником тех "первобытных классификаций", систематически и логически связный характер которых установлен Дюркгеймом совместно с Моссом23: "Нам недостает соотнесения этой ментальности с нашей. Наша логика рождена из этой логики... Сегодня, как и прежде, объяснить — значит показать, каким образом вещь причастна одной или нескольким другим... Всякий раз, как мы объединяем внутренней связью разнородные термины, мы неизбежно отождествляем противоположности. Несомненно, объединяемые нами таким образом термины не являются теми, которые сближает между собой австралиец; мы отбираем их исходя из других критериев и по другим основаниям; но само действие, посредством которого разум соотносит их, существенно не отличается.
Таким образом, нет пропасти между логикой религиозного мышления и логикой научного мышления. И одна и другая построены из тех же самых сущностных элементов, но в неравной степени и по-разному развитых. Что выступает особенно характерным для первой — это естественная склонность как к неумеренным сближениям, так и к резким противопоставлениям. То есть она имеет склонность к чрезмерности по обоим направлениям. Когда она сближает, она смешивает; когда она различает, она противопоставляет. Ей не известны мера и нюансы, она берет крайности; вследствие этого она использует логические механизмы с какого-то рода угловатостью, но не игнорирует ни одного из них" (Durkheim, р. 340—342). Мы привели эту длинную цитату прежде всего потому, что она выражает лучшее у Дюркгейма, признавшего, что всякая социальная жизнь, даже элементарная, предполагает у человека интеллектуальную деятельность, формальные свойства которой не могут, следовательно, быть отражением конкретной организации общества. Но текст "Элементарных форм", как и то, что нам удалось извлечь из второго предисловия к "Правилам" и из очерка о первобытных формах классификации24, показывает противоречия, присущие противоположной перспективе, слишком часто принимаемой Дюркгеймом, когда он утверждает примат социального над интеллектом. Однако в той мере, в какой Бергсон желает быть противоположностью социологу в дюркгеймовском значении термина, он может сделать из категории рода и из понятия оппозиции непосредственные данности рассудка, используемые социальным порядком для самоконституирования. А коль скоро Дюркгейм считает категории и абстрактные идеи производными от социального порядка, то, чтобы учесть этот социальный порядок, в его распоряжении оказываются лишь чувства, аффективные ценности или смутные идеи, такие, как заразительность и заражение. Его мышление разрывается противоречивыми требованиями. Этот парадокс, хорошо иллюстрируемый историей тотемизма, объясняется тем, что Бергсон находился в лучшей позиции, чем Дюркгейм, чтобы заложить фундамент подлинной социологической логики, и что психологии Дюркгейма в той же мере, как и психологии Бергсона (хотя симметрично-инвертированным образом), пришлось взывать к несформулированному.
Вплоть до настоящего времени бергсонианский демарш представал перед нами построенным из последовательных отступлений: как если бы Бергсон, вынужденный к такому отходу в силу возражений, вызванных его тезисом, против воли оказался прижатым спиной к подлинности тотемизма. Однако эта интерпретация не проникает в глубь вещей, иначе проницательность Бергсона имела бы более позитивные и более веские основания. Если ему удалось лучше, чем этнологам, или раньше их понять некоторые аспекты тотемизма, то не выявляет ли его мышление забавные аналогии с мышлением многих так называемых первобытных народов, которые проживают или проживали тотемизм изнутри? У этнолога философия Бергсона неудержимо вызывает представление о философии индейцев сиу, и он сам мог бы отметить сходство, поскольку читал "Элементарные формы религиозной жизни" и размышлял над ними. Действительно, Дюркгейм воспроизводит там (с. 284—285) рассуждение одного мудреца-дакота, формулирующего в языке, близком к языку "Творческой эволюции"25, метафизику, общую для всех сиу (от осэдж на юге до дакота на севере), согласно которой вещи и существа суть застывшие формы созидательной непрерывности. Цитируем по американскому источнику: "Каждая вещь, пребывая в движении, в тот или иной момент, здесь и там делает остановки. Птица, которая летит, останавливается в каком- то месте, чтобы сделать себе гнездо, в другом — чтобы отдохнуть. Идущий человек останавливается, когда пожелает. Таким же образом и бог совершал остановки. Солнце, столь блистающее и чудесное, — это место, где он остановился. Луна, звезды, ветры — и там он был. Деревья, животные — все это пункты его остановок, и индеец думает об этих местах и направляет туда свои молитвы, чтобы они достигли места, где бог остановился, и чтобы получить помощь и благословение" (Dorsey, р. 435).
В целях лучшего подчеркивания сходств приведем параграф из "Двух источников", где Бергеон кратко излагает свою метафизику: "Большой поток созидающей энергии устремляется внутрь материи, чтобы добыть из нее, что возможно. Во многих местах он останавливается; на наш взгляд, эти остановки Передаются посредством появления множества живых видов, иначе говоря, организмов, в которых наше внимание, по сути аналитическое и синтетическое, различает множество элементов, координирующихся для выполнения множества функций; организационная работа - не что иное, однако, как собственно остановка, простой акт, аналогичный следу от ноги, моментально предназначающему к взаимообусловленным действиям тысячи песчинок, чтобы дать рисунок" (Bergson, р. 221). Два текста настолько точно перекрывают друг друга, что, несомненно, после их прочтения покажется менее рискованным допустить, что Бергcон смог понять то, что скрывается за тотемизмом, поскольку его собственное мышление неведомым для него самого образом пребывало в симпатическом соответствии с мышлением тотемических сообществ. Итак, что же у них общего? Похоже, что родство происходит из одного и того же желания постичь глобально те два аспекта реальности, которые философия обозначает выражениями: непрерывное прерывистое; из одинакового отказа выбирать между ними; и из одинакового усилия сделать из них две взаимно дополняющие друг друга перспективы, выходящие на одну и ту же истину*. Остерегаясь метафизических рассуждений, которые были чужды его темпераменту, Рэдклиф-Браун следовал тем же путем, сведя тотемизм к частной форме общей попытки примирить оппозицию интеграцию. Эта встреча полевого этнографа, прекрасно знающего манеру мышления дикарей, и кабинетного философа, который, в определенных отношениях, мыслит, как дикарь, могла осуществиться лишь в основополагающем пункте, который стоит выделить.
У Рэдклиф-Брауна имеется еще более дальний и едва ли менее неожиданный предшественник, в лице Жан Жака Руссо. Конечно, Руссо испытывал к этнографии гораздо более горячее чувство, чем Бергcон. Этнографические знания в XVIII в. были очень ограниченными, что делает еще более удивительной проницательность Руссо, которая на многие годы предваряет первые понятия о тотемизме. Вспомним, что таковые были введены Лонгом, книга которого датируется 1791 г., тогда как "Рассуждение о происхождении неравенства" относится к 1754 г. Однако, подобно Рэдклиф-Брауну и Бергсону, Руссо видит в постижении человеком "специфической" структуры животного и растительного мира источник первых логических операций и, в последующем, источник социальной дифференциации, которая может проживаться при условии, что она воспринимается. "Рассуждения о происхождении и основаниях неравенства среди людей" являются, несомненно, первым трактатом по общей антропологии во французской литературе. Почти в современных выражениях Руссо ставит центральную проблему антропологии — проблему перехода от природы к культуре. Более осмотрительный, чем Бергcон, он остерегается упоминать об инстинкте, который, принадлежа порядку природы, не позволял бы ее превзойти. До того как человек стал социальным существом, инстинкт размножения, "будучи слепой наклонностью... производил чисто животный акт". Переход от природы к культуре был обусловлен демографическим ростом; но последний не действовал непосредственно, как природная причина. Сначала он понуждал людей разнообразить свой способ жизни, чтобы можно было существовать в различной среде и множить свои отношения с природой. Но чтобы это разнообразие и это умножение могли повлечь за собой технические и социальные преобразования, им потребовалось стать для человека предметом и средством мышления: "Это повторяющееся приложение различных существ к нему самому и одних — к другим должно было, естественно, породить в уме человека восприятие определенных отношений. Связи, которые мы выражаем словами: большой, малый, сильный, слабый, быстрый, медленный, боязливый, храбрый — и другие подобные идеи, сопоставляемые бездумно по мере надобности, вызвали в нем, наконец, какого-то рода рефлексию или, скорее, машинальную осмотрительность, указывающую ему на наиболее необходимые меры предосторожности для обеспечения его безопасности" (Rousseau 1, р. 63). Последнюю часть фразы не следует воспринимать как сожаление: в мышлении Руссо предусмотрительность и любознательность связаны как два лика интеллектуальной деятельности. Когда царит природное состояние, их обоих равно недостает человеку, поскольку он "предается лишь чувству своего актуального существования". Впрочем, для Руссо жизнь аффективная и жизнь интеллектуальная противопоставляются таким же образом, как природа и культура: и культура, и интеллектуальная жизнь полностью отдалены от "чистых впечатлений при самых простых познаниях". Это настолько верно, что порой из-под его пера выходит — в противоположении состоянию природы — не момент состояния общества, а "состояние рассуждения" (1.c., р. 41, 42, 54). Итак, пришествие культуры совпадает с рождением интеллекта. С другой стороны, оппозиция непрерывного и прерывистого, которая кажется нередуцируемой к биологической сфере, поскольку там она выражается в совокупности индивидов в рамках вида и в гетерогенности видов между собой, преодолевается в рамках культуры, покоящейся на способности человека к самосовершенствованию: "... свойство, которое... имеется у нас, как в виде, так и в индивиде; тогда как животное через несколько месяцев после рождения уже является тем, чем оно будет всю свою жизнь, а его вид по прошествии тысячи лет — тем, чем он был в первый год из этой тысячи лет" (Rousseau 1, р. 40). Тогда как же следует понимать, во-первых, тройственный (в действительности же единый) переход от животного состояния к человеческому, от природы к культуре и от аффективности к интеллектуальности. а затем — возможность приложения животного и растительного универсума к обществу, уже постигнутую Руссо, в которой мы видим ключ к тотемизму? Ибо, радикально разделяя термины, исследователь подвергается опасности (как это позднее станет ясно Дюркгейму) не понять их генезис. Ответ Руссо заключается в том, что следует, сохраняя различия, определить естественное состояние человека исключительно через его психическое состояние, в котором аффективное и интеллектуальное неразрывно соединены, и что для превращения одного плана в другой достаточно сознавать: сострадание или, как говорит Руссо, отождествление с другим — дуальность терминов, соответствующая, до определенного момента, дуальности внешнего облика. Именно потому, что человек ощущает себя изначально тождественным всем своим подобиям (к их числу следует отнести и животных, решительно утверждает Руссо), он обрел впоследствии способность отличать себя, подобно тому как он различает их, иначе говоря, воспринимать разнообразие видов в качестве концептуальной опоры социальной дифференциации. Эта философия изначального отождествления человеком себя со всеми другими является наиболее удаленной, насколько можно судить, от сартровского экзистенциализма, воспроизводящего в этом пункте тезис Гоббса26. Впрочем, именно она подвигает Руссо к своеобразным гипотезам: так, замечание 10 в "Рассуждении", где внушается, что орангутан и другие человекообразные обезьяны Азии и Африки, могущие стать людьми, противозаконно смешиваются, согласно предрассудкам путешественников, с животным царством. Но она же позволяет складываться чрезвычайно современному взгляду на переход от природы к культуре, основанному, как мы видели, на возникновении логики, действующей посредством бинарных оппозиций и совпадающей с первоначальными выражениями символизма. Глобальное постижение людей и животных как чувственных существ, на чем и основывается их отождествление, приводит к осознанию оппозиций: сначала между логическими качествами, мыслимыми как составные части поля, а затем, внутри поля, между "человеческим" и "не-человеческим". Таков же вывод Руссо и относительно языка: истрчник его не в потребностях, а в страстях, и отсюда вытекает, что первоязык должен быть образным.
"Поскольку первыми мотивами, заставившими человека говорить, были страсти, их первым выражением были Тропы. Образный язык родился первым, собственно значение этих образов обнаружилось позднее. Своим подлинным именем вещи были названы, когда их увидели в их истинной форме. Сперва изъяснялись поэтически; рассуждать принялись лишь долгое время спустя" (Rousseau 2, р. 565). Обволакивающие выражения, смешивающие в некую сюрреальность объекты восприятия и вызываемые ими эмоции, предшествовали аналитической редукции к чистому значению. Метафора, роль которой в тотемизме нами неоднократно подчеркивалась, является не поздним украшением языка, а одной из его фундаментальных разновидностей. Взятая Руссо в том же плане, что и оппозиция, она образует на том же основании первоначальную форму дискурсивного мышления. Парадоксально, что очерк, озаглавленный "Тотемизм сегодня", завершается ретроспективным рассмотрением. Но парадокс — не что иное, как аспект тотемической иллюзии, которую более строгий анализ фактов, первоначально служивших ей опорой, позволяет развеять, а истина, скрываемая ею, принадлежит более прошлому, чем настоящему. Ибо тотемическая иллюзия состоит прежде всего в том, что один философ, не знающий этнологии, — Бергсон, и другой, живший в эпоху, когда понятие тотемизма еще не оформилось, смогли раньше, чем современные специалисты, а в отношении Руссо — даже раньше "открытия" тотемизма проникнуть в природу верований и обычаев, которые были им мало знакомы. Несомненно, что успех Бергсона — косвенное следствие его филосо ф ских посылок. Столь же озабоченный узаконением ценностей, как и его современники, он расходится с ними, намечая пределы ценностей в рамках обычного мышления белого человека, а не по периметру. А на долю "дикаря" и "закрытого общества" выпадает логика различений и оппозиций — в той мере, в какой бергсонианская философия приписывает ей низший ранг относительно других способов познания: истина там добывается, так сказать, "обходным путем". Для того урока, который мы желаем извлечь, нам важно, что Бергсону и Руссо удалось совершить восхождение к психологическим основам экзотических институтов (о существовании которых Руссо даже не подозревал) путем демарша вовнутрь, то есть примеривая на себя способы мышления, сначала ухваченные извне или просто воображенные. Они также показали, что всякое человеческое сознание есть плацдарм для возможного опыта, с тем чтобы контролировать то, что происходит в умах людей, каково бы ни было разделяющее их расстояние. Ввиду приписанной тотемизму причудливости, еще увеличенной интерпретациями наблюдателей и спекуляциями теоретиков, он способствовал в какой-то момент усилению давления, оказываемого на первобытные институты, чтобы дистанцировать их от наших институтов — что было особенно уместно в отношении религиозных феноменов, где сближение делало слишком явным подобие. Ибо навязчивая религиозная идея поместила тотемизм в разряд религий, при этом как можно более отдаляя его (и выставляя по мере надобности в карикатурном виде) от так называемых цивилизованных религий из страха, чтобы те не подверглись опасности раствориться при соприкосновении с ним; или, по крайней мере, как в опыте Дюркгейма, чтобы сочетание их не привело к новому корпусу идей, лишенному первоначальных свойств и тотемизма, и религии. Но ученые, будучи людьми, могут эффективно оперировать только с помощью ясных идей или таких, которые могут стать ясными. Если попытаться выделить религию в автономный порядок, зависящий от особого исследования, то тем самым она избежит участи, общей для всех объектов науки. Из такого определения религии, по контрасту, с точки зрения науки неизбежно вытекает, что она представляет собой не что иное, как царство смутных идей. Отныне всякие попытки, нацеленные на объективное изучение религии, вынуждены становиться не на почву идей, а на другую — уже лишенную всего человеческого и соответствующую претензиям религиозной антропологии. Открытыми останутся лишь пути аффективного (если не органического) и социологического приближения, с хождением вокруг да около феноменов. И наоборот, если мы припишем религиозным идеям такую же значимость, как и любой другой концептуальной системе, иначе говоря, если сделать акцент на механизме мышления, то религиозная антропология будет узаконена в своих действиях, но она утратит свою автономию и специфику. Именно это, как мы видели, происходит в случае тотемизма, реальность которого сводится к своеобразной иллюстрации определенных способов рефлексии. Конечно, здесь проявляются чувства, но как вспомогательный элемент, как ответ на лакуны и на повреждения в корпусе идей, который никогда не достигает завершенности. Так называемый тотемизм подчиняется рассудку, и требования, которым он отвечает, способ, каким он стремится их удовлетворить, принадлежат прежде всего интеллектуальному порядку. В этом смысле в нем нет ничего архаического или отдаленного. Его образ проецируется, а не воспринимается; он не обретает свою суть извне. Ибо если иллюзия покрывает собой часть истины, то истина находится не вне, а внутри нас. БИБЛИОГРАФИЯ Anthropos. Das Problem des Totemismus. Т. IX, I, XI, 1914-1916. BERGSON H. Les Deux Sources de la morale et de la religion, 164e ed. Paris, 1967. BEST E. Maori Religion and Mythology, Dominion Museum, Bulletin N 10, section 1. Wellington, 1924. BOAS F., ed. (1) General A nthropology. Boston; New York; London, 1938. BOAS F. (2) The Origin of Totemism, American Anthropologist. Vol. 18. 1916. COMTE A. Cours de philosophi c positive. 6 vol. Paris, 1908. CROSSE-UPCOTT A. R. W. Social Aspects of Ngindo Bee-Keeping // Journal of the Royal Anthropological Institute. Vol. 86. Part II, 1956. CUOO J. A. Lexique de la langue algonquine. Montreal, 1886. DORSEY J. 0. A Study of Siouan Cults, Xlth Annual Report (1889—1890), Bureau of American Ethnology. Washington, 1894. DUMEZIL C. Loki. Paris, 1948. DURKHEIM E. Les Formes elementaires de la vie religieuse. 5e ed. Paris, 1968. ELKIN A. P. (1) Studies in Australian Totemism. Sub-Section, Section and Moiety Totemism: Oceania. Vol. 4, N 1. 1933—1934. ELKIN A. P. (2) Studies in Australian Totemism. The Nature of Australian Totemism: Oceania. Vol. 4. N 2. 1933—1934. ELKIN A. P. (3) The Australian Aborigines, 3e ed. Sydney; London, 1954. EVANS-PRITCHARD E. E. (1) Zande Totems, Man. Vol. 56. N 110. 1956. EVANS-PRITCHARD E. E. (2) Zande Clan Names, Man. Vol. 56. N 62. 1956. EVANS-PRITCHARD E. E. (3) Nuer Religion. Oxford, 1956. EVANS-PRITCHARD E. E. (4) Preface to: R. Hertz Death and the Right Hand. London, 1960. FIRTH R. (1) Totemism in Polynesia: Oceania. Vol. 1. N 3 et 4. 1930—1931. F I RTH R. (2) Primitive Polynesian Economy. London, 1939. FIRTH R. (3) History and Traditions of Tikopia. Wellington, 1961. FORTES M. The Dynamica of Clanship among the Tallensi. Oxford, 1945. FRAZER J. G. Totemism and Exogamy. 4 vol. London. 1910. FREUD S. Totem et Tabou, trad. fran c aise. Paris, 1924. GOLDENWEISER A. A. (1) Totemism, an Analytical Study // Journal of American Folklore. Vol. XXIII. 1 910. GOLDENWEISER A. A. (2) Form and Content in Totemism // American Anthropologist. Vol. 20.1918. Handbook of American Indians, North of Mexico. Bureau of American Ethnology, Smithsonian Institution, Bulletin 30. 2 vol. Washington, 1907—1910. HILGER SISTER M. 1. Some early customs of the Menomini Indians // Journal de la Societe des Americanistes. T. XLIX. Paris, 1960. JAKOBSON R. et HALLE M. Fundamentals of Language. ' S. Gravenhage, 1956. JENNESS D. The Ojibwa Indians of Parry Island. Their Social and Religious Life, Bulletin of the Canada Department of Mines. N 78. Ottawa, National Museum of Canada, 1935. KINIETZ W. V. Chippewa Village. The Story of Katikitegon, Cranbook Institute of Science. Detroit. Bull. N 25. 1947. KROEBER A. L. (1) Anthropology. New York, 1923. KROEBER A. L. (2) Anthropology, new ed. New York, 1948. KROEBER A. L. (3) Totem and Taboo: An Ethnologic Psychanalysis 1920 // The Nature of Culture. Chicago, 1952. KROEBER A. L. (4) Totem and Taboo in Retrospect (1939) // The Nature of Culture. Chicago, 1952. LANDES R. Ojibwa Sociology, Columbia University Contrubutions to Anthropology. Vol. XXIX. New York, 1937. LANE S. S. Varieties of Cross-cousin marriage and Incest Taboos: Structure and Causality // Dole and Carneiro, eds, Essays in the Science of Culture in Honor of Leslie A. While. New York, 1960. LEVI-STRAUSS C. Les Structures elementaires de la parente. Paris, 1949. LINTON R. Totemism and the A.E.E. // American Anthropo l ogist. Vol. 26, 1924. LONG J. K. Voyages and Travels of an Indian Interpreter and Trader (1791). Chicago, 1922. LOWIE R. H. (1) Traite de sociologie primitive, trad. fran c aise. Paris, 1935. LOWIE R. H. (2) An Introduction to Cultural Anthropology. New York, 1934. LOWIE R. H. (3) Socia l Organization. New York, 1948. LOWIE R. H. (4) On the Principle of Convergence in Ethnology // Journa l of American Folklore. Vol. XXV. 1912. McCONNEL U. The Wik-Munkan Tribe of Cape York Peninsula, Oceania. Vol. 1. N let 2. 1920—1931. McLENNAN J. F. The Worship of Animals and Plants // The Forthightly Review. London. Vol. 6. 1869 et Vol. 7. 1870. MALAN V. D. and McCONE (R. Clyde). The Time Concept Perspective and Premise in the Sociocultural Orber of the Dakota Indians // Plains Anthropologist. Vol. 5. 1960. MALINOWSKI В. ( 1 ) Magic, Science and Religion. Boston, 1948. MALINOWSKI B. (2) The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia. 2 vol. New York; London, 1929. MICHELSON T. Explorations and Field-Work of the Smithsonian Institution in 1925 / Smithsonian Misce l laneous Collections. Vol. 78. N 1. Washington, 1926. MURDOCK G. P. Social Structure, New York, 1949. Notes and Queries on Anthropology , 6e ed. London, 1951. PIDDINGTON R. An Introduction to Social Anthropology. 2 vol. Vol. 1. Edinburgh; London, 1950. PRYTZ-JOHANSEN J. The Maori and his Religion. Copenhagen, 1954. RADCLIFFE-BROWN A. R. (1) The Social Organization of Australian Tribes, Oceania, Vol. 1, 1930—1931. RADCLIFFE-BROWN A. R. (2) The Sociological Theory of Totemism (1929) // in: Structure and Function in Primitive Society. Glencoe. Il l , 1952. RADCLIFFE-BROWN A. R. (3) Taboo (1939) // Structure and Function in Primitive Society. Glencoe. Ill, 1952. RADCLIFFE-BROWN A. R. (4) The Comparative Method in Social Anthropological Institute. Vol. 81. Parts I and II. 1951 (Published in 1952). (Republi c dans: Method in Social Anthropology. Chap V. Chicago, 1958.) RIVERS W. H. R. The History of Melanesian Society. 2 vol. Cambridge, 1914. ROUSSEAU J. J. (1) Discours aur l'origine et les fondements de l'inegalite parmi les hommes. Ceuvres melees, nouv. ed. T. II. Londres, 1776. ROUSSEAU J. J. (2) Essai sur l'origine des langues, Ceuvres posthumes. T. II. Londres, 1783. SPENCER B. et GYLLEN F. J. The Northern Tribes of Central Australia. London, 1904. STANNER W. E. H. Murinbata Kinship and Totemism. Oceania. Vol. 7. N 2. 1936—1937. STREHLOW T. G. H. Aranda Tralitions. Melbourne, 1947. THOMAS N. W. Kinship Organizations and Group Marriage in Australia. Cambridge, 1906. TYLOR E. B. Remarks on Totemism // Journal of the Royal Anthropo l ogical Institute. Vol. L „ 1899. VAN GENNEP A. L'Etat actuel du probleme totemique. Paris, 1920. WARNER W. L. A Black Civilization, Revised ed. New York, 1958. WARREN W. History of the Ojibways, Minnesota Historical Collections. Vol. 5. Saint-Paul, 1885. ZELENINE D. Lecultedesidolesen Siberie, trad. frans. Paris, 1952. Зеленин Д. К. Культ онгонов в Сибири. М.; Л., 1936.
|