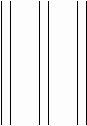Робинсон Дэниел Н.ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ
Часть 1. Философская психология
Часть 2. От философии к психологии
Послесловие(В. П. Зинченко, А. И. Назаров)
ЧАСТЬ II. ОТ ФИЛОСОФИИ К ПСИХОЛГИИ Глава 7. Эмпиризм: авторитет опыта
Среди историков психологии бытует негласное соглашение, согласно которому рационализм изображается как почти механическая “причина” эмпиризма и материализма. Рассуждая таким образом, эмпиризм следует трактовать как растянутый во времени ответ на претензии рационалистов, а материализм — как усовершенствование или следствие эмпиризма. Таким образом мы узнаем (еще и еще раз), что “отец” современного эмпиризма (им считается Джон Локк) намеревался опровергнуть теорию “врожденных идей”, выдвинутую главой современного рационализма Рене Декартом. Приверженцев этого тезиса как будто бы не беспокоит то, что Локк в Опыте о человеческом разумении нигде не упоминает Декарта, а Декарт, как мы увидим, определенно отрицал свою преданность теории “врожденных идей”, в которой его обвиняли. Доверие к названному соглашению не ослабляется также и тем откровенным рационализмом, который мы находим в локковской трактовке “интуитивного” знания, в его теории “врождённых действий ума” или нравственности. Вообще говоря, все эти три -изма на протяжении всей интеллектуальной истории обычно находятся рядом друг с другом. Лишь изредка какой-нибудь один из них оказывается совершенно лишенным свойств двух других и одинаково враждебным по отношению к их свойствам. По существу безразлично, следовательно, какой из них рассматривать раньше, — попросту потому, что ни один из них не может претендовать на временной приоритет. Почему же тогда предпочтительнее начать настоящее изложение с эмпиризма? Во-первых, это — доминирующий голос в современной психологии и основные его претензии кажутся читателю более знакомыми, чем те, что предъявляются рационализмом и (даже) материализмом. Во-вторых, если надо назвать его “отца”, то эта честь восходит к раннему Фрэнсису Бэкону, мишенью для которого был не собственно рационализм, а схоластика. Как мы увидим, в мыслях Бэкона обнаруживаются следы герметизма Возрождения и схоластического эмпиризма. Таким образом, есть смысл в том, чтобы расположить анализ идей Бэкона вслед за предыдущими двумя главами, а это, безусловно, и означает рассмотрение нового эмпиризма. Под “новым” эмпиризмом я подразумеваю сопоставление метафизики Бэкона и поздней схоластической психологии. Если бы Бэкон претендовал не более чем на тезис о том, что наше знание мира происходит из непосредственного опыта, то он всего лишь вторил бы Фоме Аквинскому, Уильяму Оккаму и многим другим теоретикам тринадцатого и четырнадцатого столетий. Но Бэкон намеревался предложить нечто выходящее за пределы теории человеческого знания; он собирался предложить официальный метод, посредством которого следует получать знание. Это тоже было не ново, так как Гросетест, Роджер Бэкон и другие представители Оксфордской школы приходили к очень похожим заключениям столетиями ранее. Однако Фрэнсис Бэкон расширил сферу действия методологического эмпиризма, включив туда те области, которые либо ускользнули от внимания более ранних эмпириков, либо же были помещены ими вне арены действия перцептивного знания. Рационализм и эмпиризм, как мы их знаем сейчас, имеют неоспоримое платоновское и аристотелевское происхождение. Но у них есть и более непосредственные корни в гуманизме, герметизме и скептицизме Возрождения. Когда историки говорят нам, что современная эпоха развития науки началась только после преодоления авторитета Аристотеля, они имеют ввиду, в основном, появление экспериментальной установки и приостановление чисто логических подходов к исследованию. Однако, эта самая экспериментальная установка, которая в изобилии представлена у Аристотеля, является в высшей степени развитой уже в “естественной магии” шестнадцатого столетия. В отличие от собственно аристотелевского эмпирического взгляда — взгляда беспристрастного нейтрального наблюдателя (такая позиция подкрепляется простым желанием раскрыть устройство физического и животного мира), эмпиризм и экспериментализм Возрождения обычно базировались на стремлениях контролировать и манипулировать природой, заставить природу приспосабливаться и повиноваться, изменить мир. Именно это различие в основном и объясняет запутанность отношений между наукой и техникой в эпоху Возрождения и удивительное безразличие греческой науки к технике, которое проявлялось во всём.. В этом — еще один пример неудачной попытки Возрождения достичь того, что оно провозгласило своей основной задачей: вос-создание классического мировоззрения. Рационализм Возрождения тоже был посвящен в большей степени “духовной магии” герметического наследия, нежели классической версии рационализма, лучше всего представленной Анаксагором и Аристотелем. Презирая схоластов и, следовательно, аристотелевы основания схоластицизма, такие рационалисты Возрождения, как Джордано Бруно, полагали, что более значительные истины находятся за пределами педантичной точности силлогизма. Их следовало искать, прежде всего, в вечных идеях Платона, или ближе — в доклассических (предположительно) учениях Corpus Hermeticum. Современная эра, следовательно, началась не с науки Возрождения и не с ростков ее предвидения у Аристотеля. В действительности, она вообще началась не в эпоху Возрождения, если исключить то, что умеренный скептицизм Эразма и дерзкий скептицизм Джанфранческо Пико явились, в некоторой степени, предшественниками Нового Органона Фрэнсиса Бэкона (1561–1626). Новая эра началась, повидимому, с отрицания Возрождения, иначе говоря, с тщательного разделения натурализма и спиритуализма. В той мере, в какой она может быть названа современной, ее следует рассматривать как эру замещения больших проектов на малые, эру, во время которой безграничное влияние магии было заменено научным смирением. Возрождение было консервативным в отношении философии и радикальным в отношении науки. Семнадцатое столетие переставило эти свойства, не отказавшись ни от консервативности, ни от радикальности. Леонардо провозгласил новую эру, а Фрэнсис Бэкон пытался определить ее. Как можно увидеть по его высказываниям, цитата из которых приведена в начале этой главы, Бэкон не был поклонником эмпиризма, практиковавшегося во времена Возрождения. Он упрекал тех, кто пытался конструировать теории, основываясь на ограниченном материале или, как он говорил, “на узости и смутности немногих опытов”1. Презирая аристотелеву форму скептицизма, согласно которой эксперименты проводятся с учётом исходной метафизической установки — той, которой должен соответствовать “эксперимент”, Бэкон рекомендует свой собственный эмпиризм: непосредственное, теоретически нейтральное наблюдение природы с целью обнаружения физических фактов реального мира. Эта форма эмпиризма, которую Бэкон противопоставлял как Аристотелю, так и мистицизму, в точности совпадает с той формой, которую Джанфранческо Пико истолковывал как фатальный порок аристотелизма! Джанфранческо полагал, что Аристотель основывал свою эпистемологию на ошибочных данных чувств; Бэкон считал, что он не ограничивал науку чувственными данными. Из этих противоречивых претензий мы узнаем о том, что каждый век действительно прочитывает Аристотеля в значительной степени так, как он хочет. Бэкон дал толчок развитию эмпиризма как научного движения. В рамках этого движения эмпиризм понимается как всеобъемлющая философия, делающая непосредственный опыт эпистемологически значимым. Согласно такому эмпиризму, свидетельства чувств составляют первичные данные всего знания. Он настаивает на том, что без предшествующего сбора этих данных не может быть и никакого знания, что все последующие интеллектуальные процессы, вырабатывающие обоснованные утверждения о реальном мире, должны использовать эти и только эти свидетельства. Какое здесь отличие от рационализма? Рационализм, каким он дошел до нашего времени, есть продукт философских систем Декарта, Спинозы и Лейбница. То, что двое из них, Декарт и Лейбниц, были выдающимися математиками, — не случайное совпадение обстоятельств. Декарт — основатель аналитической геометрии, Лейбниц же изобрел дифференциальное исчисление независимо от Ньютона. Современного рационалиста, начиная с семнадцатого столетия, объединяет с античными пифагорейцами и Платоном общая “теория чисел”, видение реального мира как системы математических, гармонических отношений. Математические доказательства убедили рационалиста в существовании определенного знания, и он склонен держаться в стороне от неточных и эфемерных фактов опыта. Только при исследовании Вселенной посредством разума выявляется небольшое множество фундаментальных неопровержимых принципов, и из них можно рациональным образом делать выводы о более детальных фактах и об устройстве природы. Из своих аристотелевых истоков современный рационализм сохранил убежденность в том, что, если опыт следует отличать от сплошного беспорядка, то сам акт восприятия должен предполагать некоторые категориальные рамки. Разум должен быть устроен так, чтобы выделять и организовывать данные. Он должен иметь средства для того, чтобы направлять чувства, отделять их иллюзорное содержание от реального. Так или иначе, рационалистская позиция включает понятие априорной когнитивной способности. Без этого значимый опыт невозможен. Рационализм считает все определенное знание результатом рационального анализа чувственных данных. Такие данные могут накапливаться только посредством рационально направляемого принципа. Соответственно, первичные “данные”, из которых образуется наше знание, — это врожденные предрасположения, называемые “законами мышления”. Нам следует также отметить точку согласия между рационалистами и эмпириками, сохранившуюся нетронутой вплоть до появления эмпирического бихевиоризма двадцатого столетия. Это общее свойство лучше всего назвать “ментализмом”. В основе эпистемологий всех ведущих творцов эмпиризма лежало очевидное для них допущение о существовании фиксированных предрасположений ума. Иначе говоря, их философские теории были явно предназначены для объяснения фактов умственной жизни. Хотя все они соглашались с тем, что в разуме содержатся данные, полученные посредством чувств, они полагали также, что задача философии — определить, почему это происходит и что из этого следует. Эмпирическая традиция, следовательно, не является ни в каком смысле антименталистской, несмотря на ее акцент на восприятие. Рационализм, конечно, откровенно менталистичен. Теперь, договорившись более или менее о терминологии, мы можем обратиться к первому выдающемуся защитнику эмпиризма и эмпирической науки нового времени, Фрэнсису Бэкону. Бэкон родился в видной семье, но его собственная звезда взошла еще выше, чем у всех его родственников, вместе взятых. Его путь проходил последовательно через такие ступени: ведущий и уважаемый адвокат, член Тайного Совета, Лорд Хранитель Большой Печати, Государственный канцлер, в 1618 он получил имя барона Верулама от своего обожаемого короля Якова I. То, что он, обвиненный во взяточничестве, был принужден отказаться от своей службы в 1621, было знаком его времени. Сомнительна не достоверность этого обвинения, а лишь то, что во всей Англии едва ли смог бы найтись хоть один судья, будь условием такой службы честность. Реформация Лютера была популярна на континенте; бедняки, защищая ее, истребляли немецкие государства, однако в Англии основа ее должна была быть другой. Страшная трещина на столетия разделила здесь дела Церкви и Престола. Уже в двенадцатом веке английские короли стремились добиться независимости от Рима, борясь за то, чтобы в этой стране в мирских делах монаршее желание было законом. Вслед за известным открытым диалогом между Генрихом II и Томасом Бекетом, епископом Кентерберийским, окончившимся убийством последнего (1170), последовала волна активности со стороны католического Рима, угрожавшего свести трон к некоторой форме вассальной зависимости. В течение всего позднего средневековья и шестнадцатого столетия изобретались всевозможные интриги, нацеленные на достижение хрупкого равновесия власти между английскими, европейскими и папскими силами. За время правления Генриха VIII европейское реформаторское движение нанесло настолько большой ущерб авторитету Папы в Европе, что для английского короля стали возможными экстремальные действия. В 1533 Генрих объявил действительной свою женитьбу на Анне Болейн, несмотря на то, что Папа отказался аннулировать имевший место его бесплодный брак с Екатериной. Не прожив и трех лет со дня своего замужества, Анна, обвиненная в супружеской неверности, сложила голову на плахе, но, как можно заподозрить, ее преступление состояло в том, что ей не удалось произвести потомка мужского пола. Этот брак, однако, продолжался достаточно долго для того, чтобы результатом его явилась дочь, Елизавета, позже Елизавета I — самая царственная среди королев на протяжении долгой истории существования этой должности. Если бы правление Елизаветы (1558–1603) прославилось лишь произведениями Шекспира, оно все равно потребовало бы внимания ученых. Но эра Елизаветы принесла не только это. Даже если не принимать во внимание культурные достижения того времени, это был период, когда кальвинизм охватил умы англичан, когда пуритане начали свое священное бдение, направленное против наслаждений, и когда трон, долго забрасывавшийся папскими буллами, нашел свой момент возмездия. Католикам не позволялось праздновать мессу. Алтари и иконы выносили из церквей. Проникали в дома предполагаемых католиков и устраивали там обыск. Рим ответил решением Пия V, объявившего, что Елизавета отлучена от церкви, и приказавшего английским католикам игнорировать ее законы. Притесненное католическое большинство, вспомнив обстоятельства ее рождения, теперь считало, что королева имеет не больше прав на корону, чем кто-либо другой из внебрачных детей Генриха. Как можно было предвидеть, Ирландское восстание было низвергнуто и подавлено ценой почти беспрецедентного для истории Англии того времени количества жизней и денег. Последовавшая за этим война с Испанией и поражение Испанской армады положили начало океаническому господству, которым Англия пользовалась до начала нашего столетия. Однако, ни военный успех, ни культурные достижения не могли сделать неслышными враждебные крики тех, кто подвергался религиозным гонениям. Католическое большинство нарушало закон, маленькая пуританская клика делала это еще в большей степени. Кузина Елизаветы, Мария, годами пребывала в роли изгнанной “Королевы Шотландии”, она представляла собой постоянную угрозу для публичного признания законности Елизаветы, поскольку Мария Стюарт была старшей правнучкой Генриха VII и ее родословная была без изъяна. Елизавета обезглавила ее в 1587, но к этому времени сыну Марии Стюарт, Якову VI, уже было более двадцати одного, он был королем Шотландии и был известен как защитник протестантизма. В возрасте тридцати семи он унаследовал трон Англии под именем Якова I. Меньше, чем через два года после этого, появилась первая значительная работа Бэкона О преуспевании знания (1605). Елизавета была мертва, наступило время возрождения и новых ориентиров. В гражданских войнах 1642–1649 вновь должна будет пролиться кровь, но в правление Якова I (1603–1625) суждено было случиться промежутку для мира и для создания основ того, что отправит английскую науку в путешествие, из которого она никогда не повернет обратно. Бэкон был одним из ее великих капитанов, а Новый Органон — ее картой. Многие идеи, развитые в Новом Органоне, сначала были предложены в работе О преуспевании знания — работе, служащей, скорее, схемой. План Бэкона в О преуспевании был разнородным: описать основные причины продолжительного невежества и разногласий; установить подлинный авторитет в интеллектуальных вопросах; обрисовать малоизвестные области исследований; задать методы, способные справиться с упомянутым выше; оправдать обоснованность затраты усилий на каждое из предприятий. В том, что касается метода, текст О преуспевании оказался скудным, но его недостатки были умело преодолены в Новом Органоне. Конечную цель, исходя из позиции Бэкона, можно сформулировать коротко: значимость любого предприятия оценивается в терминах потенциальной выгоды для человеческого рода. Конечный стандарт — прагматический. Если определенный план может дать людям мало или вообще ничего хорошего в повседневных делах жизни, то имеются самые веские основания предполагать, что он никчемен. Эта позиция, как мы видим, — всего лишь смелая версия того прагматического духа, который впервые расцвел в эпоху Возрождения. Это есть также определенный отказ от того аспекта теологии Реформации, который умаляет ценность человеческих дел. В системе Бэкона полезность и достоинство — синонимы. Это становится ясно из отрывка, еще не совсем разошедшегося с герметической традицией:
А что насчёт признанного авторитета в области эпистемологии? Работа О преуспевании показывает, что Бэкон не был тем рьяным и радикальным антитрадиционалистом, который столь часто изображается в карикатурах на его произведения. Он часто превозносит Аристотеля, как и других ведущих философов. Однако он осуждает тех (в особенности схоластов), кто обращается к античности столь робко, будто не склонен добавить ни строчки, ни оговорки к греческому или римскому учению:
Недовольство, следовательно, адресовано не древним, а их ученикам. Аналогичным образом, те, что шли по стопам Лютера и восстановили многие античные работы для того, чтобы отстаивать его обвинения против Церкви, проявили больше интереса к словам и грамматическому стилю более старых авторов, чем к самим тем вопросам, к которым обращался Лютер:
Мало свести на нет благоговение перед античностью, есть еще и человеческие изобретения, стоящие на пути преуспевания знания, это — изобретения ума, основывающиеся на легковерии. Бэкон отмечает, что таковых три: астрология, естественная магия и алхимия.5 Подобно тому, как Аристотель был “диктатором” схоластов, чудеса, духи, иллюзии и волшебники стали управлять простым умом. Источник этих предрассудков Бэкон отчасти приписывает слишком большому интересу к “конечным причинам”, в частности, — включению дискуссий об этих конечных причинах преимущественно в область физики, а не метафизики. Возможно, самая современная из идей, предложенных в О преуспевании, — та, в которой говорится о разделении естественной науки на эти две ветви (физику и метафизику) и о необходимости использования в физических рассуждениях методов, отличающихся от чисто логических средств, которые обычно применяются при метафизическом анализе.6 Это разделение Бэкон дополняет утверждением о том, что математику следует зарезервировать за метафизическими вопросами и, таким образом, он честно занимает позицию, противоположную рационалистской (неоплатоновской), стремящейся постигать природу в терминах числовых теорий, гармонии и тому подобного.7 Особой значимостью для истории психологии обладает та часть работы О преуспевании, которая касается вопросов, не получивших должного освещения в обсуждениях натурфилософов. Именно в этих разделах Бэкон изобретает такие дисциплины, как теоретическая и экспериментальная психология (не называя их так). Здесь он выражается ясно:
И немногим далее в этой работе:
Мы не можем читать эти отрывки, не вспоминая работу Аристотеля О душе, но нам следует отметить существенное отличие: Бэкон изображает этот предмет как ответвление естественной науки и сводит его к множеству вопросов экспериментальной природы. Это не есть освеженный аристотелизм! На заключительных страницах работы О преуспевании Бэкон представляет свои собственные теории гуманитарии, и они оказываются удивительно нативистскими. Он убежден, что всякого человека можно описать несколькими врожденными свойствами или темпераментами; что некоторые умы “соразмерны с великими делами, а другие — с малыми”10 и что некоторые из этих характеристик “врождённые, а не внешние”, другие же обусловлены случаем.11 В число врожденных детерминант он включает пол, возраст, национальность, болезни, природное уродство и красоту. К детерминантам среды он относит независимость, благородство или неизвестность рождения, бедность и богатство, а также такие неясные факторы, как должность судьи, приватность, преуспеяние, бедственнность, постоянство фортуны (счастье?), изменчивость фортуны, резкое восхождение (скачком), постепенное восхождение (робкими шагами). В некоторых из них прослеживается тот путь, которым продвигался сам Бэкон в молодости, пытаясь добиться благосклонности двора Елизаветы через своего дальнего родственника, лорда Берли. Нигде в этой работе Бэкон не оставляет и даже не подвергает сомнению гиппократовскую и галеновскую теории темпераментов, однако он здесь не так твердо нативистичен, как Гиппократ и Аристотель. Извлекая (из контекста) ту линию аристотелевой Метафизики, которая утверждает, что существующее согласно природе нельзя изменить посредством привычки, он настаивает на том, что даже человеческая природа изменяема посредством тренировки, поощрений и наказаний.12 Он согласен с Аристотелем в том, что камень, брошенный в воздух тысячу раз, “не научится подниматься”, но он проводит различие между фиксированными законами простой материи и законами, охватывающими человеческое поведение. Последние не являются “безусловными”, а предоставляют определенную “свободу”. Соответственно, в силу того, что добродетель и порок являются исключительно или преимущественно привычками, добродетельных граждан можно создать посредством подходящего правления. Именно в этом контексте он хвалит Макиавелли, поскольку тот больше описывал то, что люди делают, чем то, что они должны делать. Бэкон интересовался и тем, что в человеке наследуется и что приобретается. Он рекомендует развивать психологию, способную различать эти две стороны и способную манипулировать формируемыми свойствами для улучшения положения человека. Одним словом, он требует дополнить “оперативной” наукой науку чисто умозрительную — ту, которая была передана потомству Аристотелем и оставлена без улучшений схоластами. Эмпиризм Бэкона был ограниченным. Он принял взгляд, согласно которому человеческая психология несет неизгладимую печать наследственного влияния. Исходя их этого, он был вынужден заключить, что по отношению к поведению и достижениям человека, внешние условия могут произвести лишь изменения ограниченного разнообразия и масштаба. Его эмпиризм был решительно не бихевиористским. Это был, скорее, методологический эмпиризм. Более подробно он излагается в Новом Органоне, к которому мы теперь и обратимся. Если О преуспевании знания — работа молодого человека, лишь пробующего воды нового царства, то Новый Органон — резкая брань бывалого и уважаемого ученого, пишущего с позиции надменного барона Верулама. Поэтому, несмотря на то, что эту работу пытался написать более зрелый человек, она — менее осторожная, менее умеренная, менее взвешенная. Влиятельность же ее была несравненно большей, чем у предшествующей. Она написана в виде двух книг Афоризмов, 130 в первой и 52 во второй. Провозглашаемый метод раскрывается в Книге II; однако, после блестящей, часто остроумной и всегда вызывающей Книги I, Книга II оказывается довольно претенциозной, состоящей из полуфабрикатов туманных теорий, герметических иносказаний, схоластических тонкостей и ярлыков. Если бы до нас дошла только Книга II, то для того, чтобы точно установить, в чем состоял метод Бэкона, потребовалась бы не одна докторская диссертация. К счастью, в Книге I Бэкон извлекает его из склепа:
Бэкон критиковал Аристотеля за то, что последний чаще отмечал или называл что-то, чем занимался поиском причин. Поглощенный, так сказать, сознанием важности конечных причин, Аристотель-натуралист соединил метафизику с физикой или, хуже того, не смог развить естественную физику, трактуя ее предмет метафизическим образом. Если бы Аристотель открыл экспериментальный подход, он бы не тратил свое время на простое историческое описание животного царства, устанавливающее типы животных, обнаруживаемых в различных местах в различное время. Вместо этого он стал бы исследовать физические (действующие и материальные) причины этого разнообразия. Бэкон рассматривает два вида экспериментов. Один он называет Experimenta lucifera (те, которые проливают свет), другой — Experimenta fructifera (те, которые приносят плоды). Наука нуждается в обоих. Первые, при которых экспериментатор в максимальной степени лишен каких-либо теоретических предубеждений, являются просто исследованиями элементарных причинно-следственных последовательностей:
Experimenta lucifera, скромные по цели и, сами по себе, бесполезные, приводят к открытиям, записываемым в Таблицу Открытий, к которой могут обращаться другие ученые. Со временем Таблица заполняется и исследовательские проблемы становятся очевидными. Тогда возможны experimenta fructifera, и их результаты не только приносят великую пользу человечеству, но также раскрывают базовые и нерушимые законы природы. И если кто-то хочет знать, сколь широкую область природы Бэкон собирается охватить, расширяя свою модель, его ответ недвусмысленен:
Вся работа полна обращенными к читателю призывами не терять надежду, понимать, сколь продолжительна и трудна дорога к полезному знанию, и какой великий успех придет при его достижении. Это обращение волнующе выражено в девяносто втором афоризме из Книги I:
Что за обстоятельство вызывает эти повторяющиеся подбадривания? Мы можем ответить на этот вопрос, обратившись к тому социальному климату, с которым сталкивался Бэкон, а позже — Гоббс, Декарт и Локк. Снова со многих кафедр голоса рока провозглашали, что конец близок, что продажность и нравственная деградация — всего лишь бледные копии гигантского разрушения, появившегося над земным горизонтом. Снова, использовав поношенные орудия астрологии, герметическое неистовство и интерпретацию Библии, обыватели убедились в том, что время пришло, что назначенные шесть тысяч лет пролетели. Человечество снова превратилось в “отбросы рода Адамова”, и метафизический поэт Джон Дон (1573–1631) мог лишь сокрушаться:
Причины этого настроения — усталость от Реформации, охлаждение отношения к достижениям Возрождения, крушение правительств, нищета и голод, чума и гражданские войны. Раньше такие же последствия вызвало падение Рима, похожим сигналом послужило и частичное падение папства. Новый Органон был в такой же степени реакцией на это настроение, как и независимым упражнением в ученом искусстве. Бэкон — первый из того ряда философов, в основном британских, которые пытались положить конец всем этим настроениям. Когда всего несколькими десятилетиями позже заявила о себе эпоха Ньютона, действо уже вполне началось. Его психологическую подоплеку яснее всего распознал Джон Локк — “ньютонианский” психолог. Существовали два конкурирующих интеллектуальных движения, противостоящих эмпиризму, который разрабатывался Локком. Каждое из них — и скептицизм, и рационализм — не ладило одно с другим. Но еще сильнее каждое враждовало с эмпиризмом. Поскольку рационализм был (и остался), по существу, континентальным движением и поскольку его основной архитектор, Декарт, едва ли был ведущей фигурой в британских кругах, можно с уверенностью сказать, что Опыт о человеческом разумении Локка в такой же степени являлся ответом его скептическим соотечественникам, как и Размышлениям Декарта. Кембридж времен Локка дал приют возрожденной форме платонизма, изобилующей анти-эмпиристскими доводами. Локк, даже если он и не изучал рационалистическую философию Декарта в период своего отъезда в Амстердам, все равно и у себя дома имел достаточно того, на что он мог дать ответ. Реформация Лютера, коперниковская революция, Кальвин, сформулированные молодым Ньютоном универсальные законы, Елизавета I, Бэкон и гражданская война — никакой век не смог бы ассимилировать все это одновременно, не поставив со всей серьезностью вопрос о том, существует ли вообще что-либо, что может быть познано с уверенностью и навсегда. Поэтому среди современников Локка имелся ряд убежденных скептиков вроде Джозефа Гленвиля (1636–1680), чьи работы Scepsis и Lux Orientalis возродили почти античную форму презрения к тому, что считалось человеческим разумом. Пирронизм, названный так по имени греческого скептика Пиррона, почти полностью превратился в новый схоластицизм. Перспектива приближения судного дня в век Бэкона преобразовывалась теперь в агностицизм, который Локк намеревался подвергнуть сомнению и заменить. Во введении к его Опыту звучит тема Бэкона:
Не оставляет он также никаких сомнений насчет того, какого типа анализ он пытается провести. В отличие от Гоббса и Декарта, чьи психологические системы мы рассмотрим позднее, Локк совершенно нейтрален в отношении тех биологических и физических факторов, которые могут быть ответственны за свойства состояний ума и его деятельность. Он специально избегает всех вопросов, касающихся физиологической основы мышления:
Эта работа, следовательно, не о мозге, не о движениях или о теологических диспутах. Она — о человеческом разумении (understanding), представляющем собой, с точки зрения Локка, не более, чем идеи, которыми разум обладает и над которыми он размышляет. Философия Локка обращается к истокам идей, к их достоверности и полезности, идеи же — это лишь “все, что является предметом понимания, когда человек мыслит... ”20. Что же касается источников наших идей (то есть разумения), то их имеется только два: ощущение и рефлексия. Первое — это не более, чем чувственное схватывание отдельных объектов физического мира. Мы не ощущаем “универсалии”, “виды”, “истины” или “принципы”: мы ощущаем вещи и только вещи. Подобно тому, как органы чувств охватывают материальную сторону мира, разум также обладает перцептивной способностью, в соответствии с которой он может исследовать свое собственное содержание. Эта способность есть рефлексия, а так как разум наполняется содержанием только через опыт, то рефлексия состоит из того, что дают нам органы чувств. Но в неё входит не только это. Рефлексия включает в себя еще и способность разума исследовать свои операции (то есть не только свои содержания), а в число этих операций входит и воздействие страстей на наши идеи. Локк как раз и предлагает теорию познания, базирующуюся на двух взаимодействующих процессах. Один из них — ощущение, чистое и простое, ведущее к фактическому знанию материального мира. Второй — это рефлексия, которая представляет собой внутреннее чувство, способное исследовать вверенным ему ощущениям в более широком контексте нашего общего, эмоционального состояния. Рефлексия есть то, что уводит разум от чисто фотографической регистрации отдельных предметов в пространстве. Напротив, благодаря рефлексии человеческое разумение становится психологической реальностью. Это не означает, что в ней есть нечто спиритическое, так как сами чувства следует понимать в эмпирических терминах. Эмпирическая психология Локка является ассоцианистской, даже в механистическом смысле, но в ней нигде не отрицаются те ментальные свойства человеческой психологии, которые каждый ощущает в себе. Локк не развивает ни ассоциативную форму психологии, которую позже предложит Павлов, ни материалистическую форму, столь рельефно проявившуюся у ранних эпикурейских философов или аверроистов Возрождения. В действительности, он, в частности, отрицает положение о том, что восприятие есть всего лишь активизация органов чувств. Он говорит в Опыте о невнимательном человеке, который, занимаясь некоторым интересующим его объектом, проявляет рассеянность в отношении множества звуков, хотя его орган слуха и лишен каких-либо дефектов.21 Для того, чтобы восприятие произошло, разум должен быть направлен на объект. Это не пассивный процесс, а, скорее, активное взаимодействие между наблюдателем и познаваемым миром. Вопрос же о врожденных идеях встречает бескомпромиссное сопротивление со стороны Локка. Он утверждает, что, вступая в этот мир, мы представляем собой tabula rasa i и что все, становящееся нам известным, дает нам наш опыт. Он не отрицает той возможности, что утробный плод, если его сенсорный аппарат оформился, сможет испытать элементарные ощущения и, следовательно, сможет вступить в мир с определенными примитивными идеями, однако подобные идеи, если они существуют, ни в каком отношении не следует рассматривать как врожденные.22 Поскольку знание говорит нам о конкретных материальных вещах и поскольку этот младенец до своего рождения не мог встретить такие вещи в своем опыте, младенец не может ни в каком смысле обладать “идеями”. Уж если на то пошло, и взрослый человек также не может обладать идеями о том, с чем не соприкасались его чувства. В одном из наиболее известных отрывков из Опыта, Локк аплодирует словам, переданным ему из Ирландии Уильямом Молине, предвосхитившим тот экспериментальный результат, который двадцатое столетие сочло неоспоримым:
Локк заявляет, что мышление и восприятие есть всего лишь разные названия одного и того же процесса. Идеи, являющиеся результатами восприятия, изначально просты, но, благодаря ассоциативному опыту и памяти, простые идеи соединяются, образуя сложные. Однако, какими бы сложными ни становились наши идеи, они попрежнему коренятся в опыте и обогащаются способностью к рефлексии.. Сказать, что мы обладаем знанием, означает не более, чем сказать, что мы имеем идеи. Само знание есть “лишь восприятие связи и соответствия либо несоответствия и несовместимости любых наших идей."24 В этом соответствии (и обратном ему) можно выделить четыре плана. В первую очередь признается, что то, что существует, существует; что вещь не может одновременно и существовать, и не существовать. Вслед за этим “первым действием ума” приходит наше знание об отношениях; оно представляет собой не более, чем осознание того, что определенные идеи (например, масса и вес) связаны друг с другом, тогда как другие — вовсе не связаны или связаны в меньшей степени (например, телефонные номера и годовые количества осадков). Третья форма нашего знания соответствия — то, что Локк называет сосуществованием; на современном языке это можно было бы назвать корреляцией. Например, слово “золото” означает попросту цвет, податливость, вес и так далее, так что при произнесении этого слова, мы узнаем об этих свойствах благодаря привычным ассоциациям. Наконец, четвёртая форма — это знание о реальном существовании, например: “Это — яблоко”. Подводя итог, скажем, что мы приходим к знанию вещей четырьмя путями: идентифицируя (например, черное не есть белое), вводя отношение (например, целое равно сумме своих частей), констатируя сосуществование (например, железо притягивается магнитом) и устанавливая реальное существование (например, Биг Бен находится в Лондоне). Перечисленные способы исчерпывают все основания нашего знания. Они, однако, не объясняют наличие различных степеней достоверности знания. В некоторых вещах мы уверены более, чем в других. Локк упорядочивает человеческое знание по степени его достоверности следующим образом: интуитивное, демонстративное и чувственное. Под интуитивным он подразумевает внезапное непроизвольное постижение истины. Например, круг не есть треугольник или черное не есть белое. Для восприятия таких истин нам не нужна никакая другая идея, и всякий, кто пытается дискредитировать несомненность этой формы знания, “обладает умом скептика”25. Без интуитивного знания несомненность доказательства была бы невозможна. Поэтому для осознания нами того, что две вещи, эквивалентные третьей вещи, должны быть эквивалентны между собой (понимание этого гарантируется неопровержимостью дедуктивных доказательств), мы должны обладать способностью к интуитивному знанию только что описанного типа. Если интуитивное знание образует основу проницательности или мудрости, то демонстративное знание есть продукт рассуждения. Благодаря такому рассуждению вещи, которые в целях сравнения нельзя сопоставить реально, сопоставляются мысленно, благодаря сопоставлению идей. Основное различие между интуитивным и демонстративным знанием — в том, что, хотя оба эти вида знания, в конечном итоге, устойчивы в отношении сомнения, изначально абсолютно бесспорным является только первое. Например, с самого момента произнесения предложения “Черное не есть белое” никто не сомневается в истинности высказанной в нем мысли. Но в истинности того, что “два треугольника с равными основаниями, построенные посредством параллельных прямых, равны”, изначально кто-то мог и усомниться. Последнее высказывание можно доказать и, будучи доказанным, оно считается несомненно истинным. Однако, такая уверенность может прийти только после доказательства. Между полюсом несомненности, который занимают интуиция и доказательство, и противоположным полюсом просто вероятного или возможного (то есть просто веры или мнения) находится конкретное чувственное знание. Чувственное знание бывает двух видов: то, в которое входят первичные качества предметов, и то, в которое входят вторичные качества. Различие между ними фундаментально и заслуживает подробного рассмотрения. Первичные качества, говорит Локк, “выявляются нашими чувствами и находятся в вещах даже тогда, когда мы их не воспринимаем; таковы величина, форма, число, расположение и движение частиц тел, причем эти качества действительно находятся в вещах, обращаем ли мы на них внимание или нет.”26 Что же касается вторичных качеств, то лучше всего позволить Локку точно изложить его понимание этого термина:
“Корпускулярная” реальность Ньютона — это то, что дает начало переживанию, например, “желтого”, но цвет здесь — следствие, а не причина. Это — то воздействие, которое первичные физические свойства оказывают на органы чувств в процессах восприятия. Чувственное знание, следовательно, является частично объективным и частично изобретенным (invented). Физические объекты обладают конкретными первичными качествами, восприятие которых обеспечивается устройством органов чувств. Сюда входят размер, форма, число и движение. Однако материя партикулярна и имеет атомное строение, чувства же не могут иметь дело с материей на уровне ее элементарного строения. Вместо этого элементарные частицы стимулируют чувства и последние сообщают о восприятии материи, вторичные качества которой являются продуктами самого акта восприятия. Не будь воспринимающего, не было бы и таких качеств. В результате всегда будет оставаться “неустранимая часть нашего неведения”, так как “между каким-нибудь вторичным качеством и теми первичными качествами, от которых оно зависит, нельзя обнаружить никакой связи.”28 Тем, кто ищет элемент скептицизма в психологических взглядах Локка, достаточно взглянуть на его теорию вторичных качеств и положение о том, что наше неведение относительно природы связи между первичными и вторичными качествами должно оставаться неустранимым. Он не ставит этот вопрос конкретно в контексте психофизической проблемы, но заключает, что попросту невозможно установить необходимую связь между реальными физическими свойствами материи и производимыми ими психологическими (перцептивными) реакциями. Эта проблема — не просто техническая. Иначе говоря, если мы и создадим инструменты для распознавания элементарного строения материи, эта проблема все равно не исчезнет. Даже если бы мы, например, знали субатомное строение золота, мы не смогли бы установить связь между этими частицами и производимым ими переживанием “желтого”. Природа наших чувств, точно так же как нашей интуиции и нашего разума, позволяют нам продолжать существовать и процветать в том мире, который мы находим вокруг, однако они не способны дать достоверное знание обо всех вещах. Наше знание может продвигаться лишь до некоторого предела, но не дальше. Соответственно, наше знание всегда будет нести печать того, кто это знание воспринимает, метку тех особых качеств, которые свойственны опыту в силу того, что он является опытом. Локк, тем не менее, не приходит к скептическим заключениям. Он не полагает, что ничто не может быть познано достоверно и что все знание иллюзорно. Тем, кто заявляет, что мы не можем различить сон и реальность, что все может оказаться иллюзией, Локк отвечает с пренебрежительным безразличием. Локк интересуется практическими делами жизни и не терпит софистики. Мы обладаем непосредственным и интуитивным пониманием своего существования, всякий же, в этом сомневающийся (Декарт?), не достоин дебатов.29 Установив это, Локк далее определяет то, что действительно может быть познано. Все познаваемое распадается на три категории. Себя мы знаем посредством интуиции. Бога мы знаем посредством разума (демонстрации). Все прочее, что можно назвать знаемым и что действительно существует, известно посредством чувствования.30 В споре номиналистов и реалистов позиция Локка неизменно номиналистическая. Так называемые универсальные высказывания являются либо просто тавтологиями, либо высказываниями о реальных физических сущностях, природа которых известна. Следовательно, выражение “золото ковко” истинно лишь в той степени, в какой слово “золото” включает ковкость в смысле сосуществования. Таким образом, его ковкость устанавливается не посредством утверждения, а благодаря его реальным ощутимым свойствам. “Никакое существование какой-либо вещи вне нас, кроме Бога, не может быть достоверно известно за пределами того, о чем уведомляют нас наши чувства”31 Поскольку мы обладаем памятью, нам не нужно бесконечное повторение событий для того, чтобы убедиться, что мы о них знаем. Знание причин и их следствий возникает у нас благодаря повторяющемуся опыту. Продолжительность и живость этого знания возрастают, если наши переживания усилены удовольствием и болью. То определенное знание, которое эти процессы делают возможными, несовершенно, но оно “велико настолько, насколько этого требуют условия нашего существования”32. Память оказывается недостаточной не только из-за того, что она слабеет со временем (то есть из-за разрушения ее “следов”), но также из-за того, что не все из нас одарены настолько, чтобы найти в хранилище наших воспоминаний то, что мы хотим.33 Однако в пределах остроты наших чувств, нашей способности к концентрации внимания и способности нашей памяти удерживать то, что предоставили ей чувства, вероятность достоверности знания реального мира становится настолько высокой, что оно может служить надежным инструментом для всех практических целей. То, что мы делаем, зависит от того, что мы знаем, поэтому, по крайней мере, согласно Локку-эмпирику, решение эпистемологической проблемы равносильно решению проблемы поведения — так Локк в Опыте кратко рассматривает вопрос о нравственности. Более полно принципы социального управления и поведения он развивает в Двух трактатах о государственном правлении, также опубликованных в 1690. Исходя из исторически сложившейся позиции Локка по вопросу о гражданской свободе и в свете его настаивания на том, что легитимность правительств коренится в идее “общественного контракта” между управляемыми и их назначенными лидерами, иногда допускается, что в области морали позиция Локка была утилитаристской и релятивистской. Кроме этого, иногда полагают, что эмпиризм, как эпистемологическая система, в вопросах морали неизбежно является ситуационно-ориентированным. Здесь не место для исследования теории управления Локка, но мы можем остановиться и обратить внимание на его подход к вопросам нравственности, — мы заметим, что для того, чтобы занять в этих вопросах эмпирическую позицию, нет необходимости сводить утверждения о нравственности к восприятиям и мнениям. Локк начинает свою дискуссию о знании в области нравственности, исследовав предварительно достоверность математических утверждений. Это требует разграничения простых и сложных идей:
Означает ли это, что наши сложные идеи не имеют ничего общего с реальностью? Вовсе нет. Наши сложные идеи, кроме идей о субстанциях, не есть идеи о физических сущностях во внешнем мире, но, тем не менее, они — идеи. И они, точно так же как математические идеи “не есть пустой призрак, не есть ничего не значащая химера нашего мозга”35, идеи о нравственности тоже происходят из интуитивных и демонстративных способностей упорядоченного ума. Таким образом, поскольку “наши нравственные идеи, подобно математическим, являются архетипами и, следовательно, идеями адекватными и полными, то всякое найденное в них соответствие или несоответствие приведет к знанию о реальности точно так же, как в математических фигурах.”36 Тезис Локка говорит не о том, что достоверность утверждений о нравственности связана с нашим восприятием движения или формы, и не о том, что каноны справедливости можно узнать тем же способом, каким мы узнаем, например, о том, что идет дождь. Скорее, он полагает, что большая часть того, что мы знаем, не является знанием типа “идет дождь” или “трамвай движется”. Наше знание от начала до конца есть идея. Идея — это либо результат непосредственной сенсорной реакции на физические свойства реальных объектов (и это, следовательно, — простая идея), либо результат соединения посредством самого ума простых идей в единые конструкции. Благодаря операции логической демонстрации эти сложные идеи могут начать фигурировать в теориях морали и могут принять форму аксиоматических истин, не отличающихся от истин математики. Ни одна из форм знания — интуитивная, демонстративная, перцептивная — не является совершенной или всеобъемлющей. Геометр, заключающий, что окружность — это фигура, образованная углом в 360 градусов, все точки которой находятся на одном и том же расстоянии от ее центра, возможно, никогда не сможет найти такую фигуру в природе. Это не значит, что такая фигура “нереальна” или же просто является продуктом ума. Это значит, что, если бы природа произвела подобную фигуру, то эта фигура была бы окружностью, и, кроме того, из такого определения окружности необходимым образом следовали бы определенные другие её свойства. Более того, если сущность окружности известна, то безразлично, как мы ее назовем. Относящиеся к ней истины будут устанавливаться посредством демонстративной способности ума и будут настолько надежными, насколько таковым может быть человеческое знание.
Как следует понимать эти “архетипы”? В случае простых идей это — представления (representations). Внешний физический объект, благодаря процессам восприятия и обработки перцептивной информации, начинает репрезентироваться в уме как часть его содержания. Благодаря наличию опыта и памяти, подобные представления перерабатываются и переплетаются, давая в результате такие идеи, которые нельзя отнести ни к чему, относящемуся к физическому объекту qua i физического объекта. Это означает, что остроконечный предмет с цветной жидкостью на кончике является “инструментом для письма” лишь настолько, насколько опыт и память проинформировали нас о подобных способах его употребления. Что из себя представляет подобный инструмент — бессмысленен ли он или же он есть некое орудие, или же им пользуется образованное сообщество — определяет реальная практика. Таким образом, сложная идея “инструмент для письма” соотносится не с чем-то физическим, а с умственным архетипом, построенным из простых идей, но теперь выходящим за их пределы. Излишне говорить, что остроконечный предмет с цветной жидкостью на кончике есть ручка, и в этом нет необходимости просто в силу того, что данная идея — продукт культуры. Если “архетипы” физических объектов относятся к тому, что находится вне ума, то архетипы идей о нравственности возникают внутри ума и порождают идеи о нравственности, являющиеся реальными и определенными в той мере, в какой наши дискуссии и наблюдения относительно положения человека приведены с ними в соответствие. Безусловно, именно здесь “архетипы” Локка слишком уж приближаются к рационалистскому понятию врожденного нравственного чувства. При определенной трактовке, самый короткий скачок при переходе от локковских “архетипов” к категорическому императиву Канта пришелся бы именно на это обсуждение истинности утверждений о нравственности. И как раз именно здесь верительные грамоты Локка как рационалиста безупречны.
Часто полагают, что основное психологическое произведение Беркли это — Опыт новой теории зрения38 ; здесь он закладывает экспериментальные и геометрические детерминанты восприятия глубины, а Гоббса и Декарта призывает к ответу за то, что они не нашли эмпирического основания для такого феномена восприятия как “иллюзия Луны39”. Если бы мы занимались историей исследований по зрительному восприятию, то нам надо было бы проанализировать теории Беркли, которые сам философ подытоживает для нас следующими словами:
Самое интересное в этом отрывке — подчеркивание того, что опыт является средством, благодаря которому простые ощущения приобретают интерпретацию и осмысленность. Это — ключ к более общему и примечательному метафизическому тезису, согласно которому всякая реальность требует наличия воспринимающего, чтобы стать бытийной. Он развивает этот тезис в своей самой известной работе — Трактате о началах человеческого знания, опубликованном в 1710, и после переработки — в 173441. Именно написав эту работу Беркли заслужил такие титулы как “субъективный идеалист”, “нематериалист” и “спиритуалист”. А это — титулы, которые, в свою очередь, способствовали превращению его небольшой книги в одну из самых непонимаемых работ по философии42. Трактат Беркли относится к области психологической философии даже еще в большей степени, чем Опыт Локка. Ко времени написания этого трактата все три рационалиста из “учебников” (Декарт, Спиноза, Лейбниц) уже внесли свой вклад — их основные работы были написаны. В действительности, из них троих все еще жив был только Лейбниц. Самая известная философская работа Локка уже стала классикой, знаменитые ньютоновские и Механика были объединены с достижениями Галилея, — все это вместе превращало семнадцатое столетие в наиболее прославленный период научного творчества. К рационалистической традиции мы обращаемся в следующей главе, однако здесь мы можем заметить, что к 1700 году традиция европейского рационализма, соединившись с эмпиризмом Локка, учениями Ньютона и Галилея, создали для части интеллигенции решительно материалистическую перспективу. Падение неувядаемого авторитета Аристотеля и проистекающий из этого отказ от схоластики уже несли ответственность за некую форму религиозного скептицизма, граничащую с атеизмом. Материализм, пока еще отстоящий более чем на столетие от времени своего превращения в некого рода религию, черпал свою энергию от костров скептиков. Даже дуализм Декарта, который мы будем изучать в следующей главе, принимался неохотно, потому что согласно ему большую часть, если не все повседневные дела человеческого сообщества можно понимать, по существу, в механистических терминах. Именно это механистическое свойство социальной организации Гоббс представил в виде вполне сформировавшейся политической теории. Поэтому Беркли намеревался, как минимум, лишить материализм какого бы то ни было признака достоверности и сделать это путем опровержения скрытого или явно выраженного материалистического содержания в работах Локка, Декарта, Гоббса и других. Эту цель преследовали и его Трактат о началах человеческого знания, и его Опыт новой теории зрения. Легче будет проследить за ходом более сложных размышлений, содержащихся в первой из этих работ, если вначале бегло ознакомиться с более простыми задачами второй. Рационалистское объяснение зрительного восприятия, особенно восприятия глубины, базируется на геометрической теории оптики. Согласно этой теории, развитой Декартом, но имеющей очень древние корни, наше видение удаленных или близких к нам объектов определяется углом, образуемым этим объектом, если межокулярное расстояние рассматривать как основание гипотетического треугольника. Чем дальше отодвигается предмет, тем меньше становится угол, находящийся в вершине треугольника; поэтому, согласно теоремам Евклида, все зрительные перцептивные данные можно вывести из тех геометрических принципов, на которых основана наука оптики. Согласно данному рассуждению, восприятие является таким, каково оно есть, в силу необходимости. Чтобы ясно видеть приближающийся предмет, требуется конвергенция глаз, при удаляющемся предмете необходима дивергенция глаз. Глазные мышцы, таким образом, сообщают о расстоянии между предметом и наблюдателем. Вычисляя величину конвергенции или дивергенции, наблюдатель может оценить расстояние. Ответ Беркли на это рассуждение таков: никто не воспринимает вещи таким образом! Когда мы исследуем приближающийся или удаляющийся предмет, мы на самом деле не определяем ни конвергенцию наших глаз, ни угол, сформированный (невидимой) вершиной (невидимого) треугольника. Более того, люди, не знающие математики, столь же точо оценивают расстояния, как и специалисты по оптике, поэтому вряд ли знание об оптических лучах, линиях или углах когда-либо участвует в наших перцептивных оценках. Попросту говоря, расстояние само по себе невидимо, и вообще бессмысленно говорить о "восприятии расстояния". Беркли признавал, что межокулярное расстояние — эффективный признак расстояния, но восприятие расстояния основано на опыте, а не на геометрическом расчёте. Другими словами, мы можем ощущать только события или предметы, а не “пустое” расстояние. Следовательно, идея расстояния должна корениться не в геометрии или оптике, потому что ни та, ни другая не применяется обычным человеком для оценки расстояния, а в том, что доступно каждому, кто способен переживать в своём опыте расстояние. А это и есть ощущение. Мы научаемся оценивать расстояние и узнаём о нём не под воздействием аксиом геометрии, а благодаря нашим чувствам:
В этом отрывке, демонстрирующем стиль рассуждений всей работы, Беркли объясняет одно внутреннее переживание (experience) как основанное на других переживаниях. Он определенно отклоняет доводы рационалистов и математиков, в которых говорится о необходимости. Он настаивает на позиции “здравого смысла”, отдающей предпочтение тому, что все мы хорошо знаем, как на самом деле мы оцениваем расстояние и глубину. Он применяет одно и то же правило “здравого смысла” ко всякому другому опыту: осязанию, слуху, обонянию и вкусу. Предмет, как он утверждает, не “выглядит” круглым подобно тому как он “ощущается” круглым, когда мы ощупываем пальцами его форму. Мы используем одни и те же слова в силу обучения, а не потому, что наши переживания тождественны, и еще менее в силу видового сходства. С этой отправной точки он начинает свое более обширное исследование природы человеческого познания. Он начинает с того, что признает реальный мир совокупностью ощущений и, следовательно, нематериальным. Почему? А на том же самом основании, на котором он отвергает понятие расстояния как чего-то видимого. Мы не видим “расстояние” и мы не видим “материю”. Скорее, мы видим. Далее, что же мы видим, когда мы видим? Беркли отвечает:
Более, чем столетие спустя, Джон Стюарт Милль определит материю как “постоянную возможность ощущения” и тем самым вынужден будет проявить себя в некоторой степени как берклианец. Означает ли это, что Милль — “субъективный идеалист”? Нет, и по той же причине, по какой нам не следует так называть Беркли, если этот термин означает, что материя создаётся той идеей, которую мы имеем о ней. Тот, кто утверждал, что деревья в лесу исчезают, когда он их не воспринимает, был не Беркли. Если бы Беркли утверждал, что материя изобретена разумом, ему потребовалось бы рассмотреть отдельно ту и другую реальности, а затем логически доказать, что материя существует независимо от разума. Но дуализм для Беркли неприемлем:
Данный отрывок иллюстрирует убежденность Беркли в том, что материализм неизбежно ведет к скептицизму, и здесь Беркли подстерегает Немезида. Ярлык “субъективного идеалиста” часто рисуют красками скептицизма. Беркли же требует отвергнуть скептицизм, который заводит нас в тупик. Единственным средством успешного решения этой задачи является построение системы “здравого и подлинного знания”, включающего в себя понимание того, что обозначается понятиями предмет, реальность, существование46. Если говорить о первом из них, то предмет есть бытие, и последнее бывает двух совершенно различных видов. В одном случае — это бытие через идею; во втором — бытие через душу. Первое находит своё выражение в разуме благодаря чувствам, и такие сущности “суть подлинные предметы или реально существуют; этого мы не отрицаем, но мы отрицаем, что они могут существовать без разума, который воспринимает их, или что они суть подобия архетипов, существующих вне разума; потому что действительное бытие ощущения или идеи состоит в том, что они воспринимаются, и идея не может быть ни чем иным, кроме идеи47”. Беркли, таким образом, отвергает “архетипы” Локка. В сущности он говорит, что первичные и вторичные качества должны, в конечном счёте, сводиться только ко вторичным качествам. Движение не может быть ничем, кроме как воспринимаемым движением; число — только воспринимаемым числом; форма — лишь воспринимаемой формой. Соответственно, не может быть никакой разницы между этими так называемыми первичными качествами и вторичными качествами, к которым относятся цвет, жара, холод и т.д. “Идеи”, в том неординарном смысле, в каком Беркли использует этот термин, находятся в уме, их постоянство и достоверность не могут сохраняться в отсутствие ума. Именно в силу этого материалисты обречены на неудачу в понимании реальности. И именно поэтому вклад ученого-теоретика, уходящего от фактов своих собственных ощущений и путешествующего далее в чисто вербальной реальности физических законов природы, неминуемо будет не более, чем бессмыслицей в одеянии тавтологии. Поэтому когда господин Ньютон, автор “великого механического начала, ныне так популярного”, постулирует взаимное притяжение материи, “я не усматриваю в этих словах какого-либо другого смысла, кроме самого результата действия...48”, и этот результат не может быть ничем иным, кроме как воспринимаемым результатом. Тот же самый господин Ньютон в трактате по Механике наделяет существованием время, пространство и то, что находится вне разума, и тот же самый епископ Беркли в ответ вынужден признать, что всё этоон может понять только относительно. Таким образом, “чтобы понять движение, необходимо представить по меньшей мере два тела ... Если бы существовало только одно тело, оно никак не могло бы находиться в движении49.” Теория идей Локка, по мнению Беркли, была непоследовательна в нескольких отношениях. Она была безнадежно дуалистична, требуя одновременно существования и мира материи (первичные качества), способного взывать непосредственно к умственным “архетипам”, и дополнительного, личного, эмпирического мира восприятия, имеющего дело со вторичными качествами и их созданием. Хуже того, вторые никаким способом нельзя извлечь из первых. Основным вкладом Беркли в эпистемологию мы можем считать преодоление такого дуализма или, по крайней мере, его весьма похвальную попытку это сделать. В конце концов, Мир, Вселенная и все живое — это лишь восприятия, вечно совершаемые внутри Божественного ока. Так называемые материальные объекты существуют по отношению к нашему уму таким же образом, как все существует в уме Бога. Это — берклиевское одновременное опровержение скептицизма, материализма и атеизма. Ему не удалось остановить развитие материализма, не смогут и убежденные атеисты, если есть таковые, найти утешение в работах Беркли. Однако, более поздние эмпирики, и особенно Давид Юм, действительно увидели в Трактате умелую атаку на несенсорные подходы к проблеме познания. Предположив, что восприятие — первый и последний критерий, посредством которого можно узнать и оценить реальность, Беркли сумел направить внимание философов на психологический аспект всех философских проблем. Одним словом, он превратил эпистемологию в отрасль психологии и с тех пор эти два направления никогда совсем не расходились. Его эмпиризм был радикальным и, как таковой, служил оправданием более поздних форм идеализма, которые сам Беркли счел бы нелепыми. Его теории восприятия формулировались на языке экспериментальной науки и представляли собой модель для последующих исследователей. Продолжая идти путем Бэкона и Локка, он прояснил различие между словами и обозначаемыми ими предметами; между аналитическими (как назовет их Кант) и синтетическими утверждениями, первые из которых — логические, вторые — эмпирические. Проводя эти различия, он настаивал на том, что необходимость присуща не природе, но нашим логическим утверждениям, которые мы изобретаем, пытаясь понять природу. В этом он предвосхитил Юма, но, конечно, не был с ним идентичен. Трактат Беркли оказался плодотворным в той степени, в какой психологов интересовало восприятие, контекстуальные детерминанты восприятия, отношение между предметами и их (вербальными) обозначениями. Он не написал столько, сколько Локк или Юм, а его учение не распространялось, как у них, до самых удаленных сфер политических, гражданских и нравственных интересов. Но в том, что касается конкретных тем эпистемологии, к которым обращались все эмпирики, и определенных точек соприкосновения между теориями познания и теориями психологии, многое из того, что привнесли следующие за Беркли эмпирики были лишь примечаниями и эпилогами. Философию англоязычного мира двадцатого столетия с очень большой степенью достоверности можно назвать творением Юма. Всегда рисковано пытаться разместить в пределах одного контекста личность подобной значимости, по-прежнему влиятельную в очень многих контекстах. Тем не менее, Юм все еще настолько же сохранял свое влияние как основатель и отец новой философии, насколько он был продуктом мысли восемнадцатого столетия и той особой эпохи в науке Запада, которая именуется шотландским Возрождением. Ньютон произвел революцию в науке, а такие яркие фигуры как Джон Мильтон, Джон Локк, Шефтсбери (Shaftesbury), Хатчесон (Hutcheson) и Сэмюэл Батлер (Samuel Butler) создали нравственные и интеллектуальные основания политического либерализма, невиданные со времен античности. Помимо этого имелись еще и особые локальные условия, подпитывавшие науку и образование. Эдинбургский университет превратился в один из нескольких главных в мире центров юридического и медицинского образования, привлекавших студентов отовсюду. Еще не ставший знаменитым Филипп Пинель (Philippe Pinel) переводил на французский Нозологию Уильяма Каллена (William Cullen); тогда же в Эдинбурге ее изучал Бенджамен Раш, прежде чем вернуться в Америку, изменить метод лечения психически больных и подписать Декларацию независимости. Глазго (Glasgow), Абердин и Св.Эндрюс также уже были известны. В Глазго Адам Смит преподавал современную экономику, Джозеф Блэк (Joseph Black), здесь же и вскоре после этого, — химию; примерно в то же самое время Томас Рид (Thomas Reid) создавал основу шотландской философии “здравого смысла” в Абердине. Философия Рида глубоко подействовала на Канта в Пруссии, как и небольшие по размеру, но значительные по влиянию команды отцов- основателей в мятежных колониях. Томас Джефферсон считал студента Рида, Дугальда Стюарта, одним из двух ведущих метафизиков всего века (другим был Destutt le Comte d’Tracy), Ридом же вдохновлялся в своей законотворческой деятельности Джемс Уилсон (James Wilson) — еще один человек, подписавший Декларацию независимости и самый блестящий юридический ум новой республики. В области архитектуры Шотландия, благодаря таким ярким личностям, как Роберт Эдем (Robert Adam) и Уильям Плейфейр (William Playfair) привела к расцвету классицизма, в это же самое время сэр Вальтер Скот завоевал литературное признание читателей трех континентов. Шотландских учителей призывали возглавлять школы в Европе и Америке, шотландских хирургов многие рассматривали как лучших в мире, а шотландских юристов — как бесподобных. Эдинбург, “северные Афины”, и другие центры высокой культуры и мысли, находившиеся в Шотландии, были лучезарным источником, воздействие которого по многим направлениям имело продолжительные следствия. Одним из таких следствий был Трактат о человеческой природе Дэвида Юма, опубликованный в 1739–1740, мало замеченный в то время, но оказавший впоследствии революционное воздействие на мировые центры мысли. Этот Трактат появился на столетие позже гражданской войны в Англии, и на половину столетия позже Опыта Локка. Мильтон в своей Ариопагитике (1644) столь эффективно нападал на цензуру печати, что многое из этой работы счел за честь переизложить Милль в своей О свободе, написанной двумя столетиями позже. До интеллектуальной свободы все еще было далеко, но во времена Трактата Юма исторических источников воистину деспотического толка было попросту неисчислимо больше. Юм умер в год американской революции, за тринадцать лет до французской революции. Первая так же невообразима без Мильтона, Локка и Юма, как последняя — без Вольтера, Дидро, Руссо и Монтескье. Ученые по обе стороны Ла-Манша не пребывали в неведении относительно друг друга. Вольтер в ряде работ прославлял английских эмпириков, Руссо же фактически жил под одной крышей с Юмом и по завещанию Юма ему был оставлен небольшой пансион. Поэтому значение Трактата не уменьшится, если разместить его в континууме либералистских доводов, выдвигавшихся с гордым пренебрежением против всех защитников status quo в любой отрасли знания или социальной практики. Во введении к своему Трактату Юм отбирает несколько новых “натурфилософов”, которые, по его соображениям, продвинули дело истины вперед. В их число он включил “Локка, лорда Шефтсбери, д-ра Мандевиля, Хатчесона, д-ра Батлера и др.50” То, что Юм включил сюда Шефтсбери и Батлера, служит основанием для краткого комментария, так как оба они были лидерами эмпирического подхода к философии морали. Они — двое из приблизительно дюжины англоязычных авторов начала восемнадцатого столетия, старавшихся отнести этику к той реальности, которую сейчас мы назвали бы психологией. Отношения между Шефтсбери и Локком были очень тесными, Локк для Шефтсбери был и другом, и секретарем, и врачом. Батлер и Юм — современники. И Шефтсбери, и Батлер оба с убедительным красноречием утверждали, что к нравственным и этическим измерениям человеческой жизни следует применять человеческие понятия. Оба доказывали, что окончательную теорию ценностей составляют наши личные интересы, наша потребность жить в обществе, наша способность осознавать последствия наших действий и учиться по ним, наша способность отчетливо формулировать цели и вести себя так, чтобы не препятствовать их достижению51. Согласно этому взгляду, нравственные “абсолюты” могут быть таковыми лишь настолько, насколько мы наделены естественной способностью постигать, в чём состоят наши интересы; настолько, насколько мы способны извлекать пользу из социального обучения и насколько мы предрасположены стремиться заслужить похвалу со стороны других человеческих существ. Выделение Батлером действия как мерила нравственной ценности, а награды и наказания — как инструмента, выковывающего наш характер, будет повторено хорошим другом Юма Адамом Смитом и воплощено в виде систематической философии Иеремии Бентама и последователей утилитаризма девятнадцатого столетия. Признавая вклады Шефтсбери и Батлера, Юм не подписывался, следовательно, под инстинктивной теорией добродетели последнего или теорией эмпатии Шефтсбери, о которой мы скажем несколько слов, а одобрял их последовательно психологический подход к проблеме ценностей. Он одобрял их отказ считать рационализм и Библию наилучшими средствами раскрытия природы морали. В Опыте о добродетели или достоинстве (1699) Шефтсбери поместил нравственность полностью в область преднамеренных действий и утверждал, что такие действия со стороны мыслящего животного вроде человека следует понимать как продукты естественной способности, предрасположения или чувства любви. В дарвиновском духе (но не опираясь на его данные), он описывал всех живых существ в рамках большой системы, общим мотивом для которой было выживание. Человек для того, чтобы выжить и познать счастье, уравновешивает свою склонность к самосохранению и склонности, направленные на общественное благо:
Цель состоит в таком само-удовлетворении — в поисках счастья, как это потом станут называть, — и мы регулируем нравственные измерения своего поведения так, чтобы его обеспечить. Верный учению церкви, Шефтсбери, тем не менее, заключает, что “религиозное Сознание предполагает нравственное или естественное Сознание53”, последнее же базируется на чувстве или симпатии, согласно которой “ни одно создание не может предумышленно или намеренно сделать зло, не сознавая, в то же время, что оно заслуживает наказания54”. Батлер развил дальше натуралистическую школу добродетели, ещё более углубил её расхождение с теориями необходимости:
Сентименталистским теориям Шефтсбери и Батлера суждено было вскоре претерпеть революционные изменения, произведенные Адамом Смитом и Иеремией Бентамом, каждый из которых сомневался в том, что мы наделены постоянным стремлением к summum bonum i. Теория нравственных чувств Смита появилась примерно через двадцать лет после Трактата Юма и примерно за двадцать лет до Введения в основания нравственности и законодательства Бентама. Неуклонное продвижение от обсуждения врожденных нравственных чувств, о которых говорили Шафтсбери и Батлер, к смелому бентамистскому утверждению (с которым совпадало и мнение Юма) нравственности как полезности образует одну из наиболее систематических глав в истории политической теории. Теперь — к Трактату Юма.
В самом начале, во введении к своей работе, состоящей из шестисот страниц, Юм не оставляет никакого сомнения относительно своей цели, своих базовых допущений и своего мнения о более ранних противоположных взглядах. Его задача — основать такую науку о человеке, которая, в конечном итоге, должна включать или ограничивать все прочие науки. Человеческие существа — это не просто те, кто рассуждает, они сами тоже являются достойными объектами рассмотрения и должны изучаться посредством инструментов, вырабатываемых той самой “экспериментальной философией”, которую совсем недавно изобрели Бэкон, Ньютон, Локк и другие. Все подлинно важные вопросы ожидают понимания устройства человеческого разума, способности которого можно раскрыть только посредством тщательных и точных экспериментов и наблюдений.
“Hypothesis non fingo”, сказал Ньютон! Основная цель Юма — установить пределы человеческого познания; эта цель, увы, не претендует на доказательство “наших наиболее общих и утонченных принципов, кроме нашего опыта, свидетельствующего об их реальности57”. Другими словами, — это обращение ко всем тем, кто возлагает надежды на внечувственные истины или неопровержимые нравственные максимы. Весь Трактат состоит из обсуждения трех основных тем: разумение (understandig) (Книга I), страсти (passions) (Книга II), нравственность (morals) (Книга III). Способ организации материала Юмом не требует усовершенствования, и мы будем обсуждать его психологическую философию в том порядке, в каком он ее представляет сам.. Поскольку содержания ума могут возникнуть только благодаря опыту, то человеческое разумение, в наиболее общем смысле, должно основываться на восприятиях. Согласно Юму, они бывают двух видов: впечатления и идеи. Впечатления включают ощущения, страсти и эмоции, являющиеся всего лишь сообщениями о тех или иных стимулах. Идеи — это лишь сохранение в более слабой форме прежних восприятий. Выражаясь словами Юма, “каждой простой идее отвечает сходное с ней простое впечатление, а каждому простому впечатлению — соответствующая идея58”. Более того, поскольку простое впечатление всегда в опыте предшествует соответствующей идее, мы можем быть уверены, что последняя является результатом первой, а не наоборот. Другими словами, обычный опыт опровергает утверждение о том, что разум (идея) создает ощущение. Что же касается понятия врожденных идей, то Юм попросту отклоняет его как неподтвержденное в опыте59. Наши впечатления бывают двух разновидностей: ощущение и рефлексия. Происхождение ощущений как психологических сущностей относится к числу тех вещей, которые Юм не может объяснить. Он отмечает, что ощущение — яркое осознанное знание вещи — имеет неизвестную причину, и, отмечая это, он присоединяется к большой армии философов, неспособных четко разобраться в том, каким образом так много атомов, ангелов или граммов могут стать ощущаемыми как qualia i именно в таком, ментальном, смысле этого термина. После того, как у нас возникли впечатление и соответствующая ему идея, ум обозревает и соединяет разные впечатления посредством процесса рефлексии. Рефлексии — это тоже впечатления, но они в большей степени отстоят от первоначальных впечатлений, вызвавших ощущение. Благодаря процессам памяти, мы способны повторять или оживлять впечатления, а благодаря воображению мы способны преобразовывать впечатления в форму чистых идей60. Мы можем прояснить различие между памятью и воображением с помощью одной иллюстрации. Рисуя лицо родственника, мы используем память; то есть мы попросту оживляем некоторое реальное ощущение. Рассматривая же правление, необходимое для социального блага, мы уже более не “рисуем”. Вместо этого мы переходим путем абстрагирования от набора определенных впечатлений и идей к общему принципу, способность же, позволяющая нам это делать, и есть воображение61.
Простые идеи ассоциируются друг с другом, образуя сложные идеи, и основой образования таких ассоциаций являются “СХОДСТВО, СМЕЖНОСТЬ, ПРИЧИНА и СЛЕДСТВИЕ”62. Опыт учит тому, что мы склонны ассоциировать те события, которые напоминают друг друга, те, которые происходят в одно и то же время и в одном и том же месте, и те, которые являются примерами неизменного следования друг за другом. Различия в прочности ассоциаций, образованных по сходству, смежности и причинной обусловленности объясняются физиологией мозга63. (Стоит отметить, что физиологическое объяснение Юма снимает все покровы с учения Декарта и изобилует ссылками на “следы” и прочее.) Что же касается реального материального существования, то здесь Юм не может опровергнуть Беркли на основе логики, поэтому он с удовольствием отмечает, что “спрашивать, существуют ли тело или нет, бесполезно. Этот пункт должен фигурировать во всех наших рассуждениях как неоспоримый64.” Не разум устанавливает особую реальность вещей и проводит различие между ними и восприятием. Скорее, за это ответственны наши образы воображения (imaginations) (как они до сих пор определялись) и только на основании этой способности к воображению нам дана и нами руководит вера в то, что наши восприятия являются восприятиями чего-то. Таким образом, Юм не пытается доказать существование отдельного материального мира и такого же отдельного умственного мира. Вместо этого он интересуется установлением принципов, навязывающих нам это мнение. Сами эти принципы он сводит к “постоянству” и “связности”. Горы, на которые мы смотрели вчера, оказываются на том же месте, когда мы сегодня возвращаемся и смотрим на них снова. Этот опыт убеждает нас в том, что данные объекты обладают постоянным существованием, отделенным от нашего непосредственного их сознавания. Он не останавливается на том, чтобы заметить, что мы можем найти эти объекты “на том же месте” только в случае наличия постоянства и связности самого, так сказать, места, и именно в такого рода вещах Кант найдет плодородную почву для скептицизма. В любом случае, объекты, даже несмотря на то, что они претерпевают со временем какие-то изменения, продолжают отражать определенную связанность в своих отношениях с другими объектами. То есть, лишь допустив непрерывность существования объектов (даже тогда, когда нас там нет и мы не можем засвидетельствовать их наличие), мы можем устанавливать отношения между ними вместо отношений между одними только восприятиями. Итак, мы верим в то, что существуют объекты, отличающиеся от нашего восприятия этих объектов, поскольку мы допускаем, что данные объекты продолжают существовать в наше отсутствие, а допускаем мы это потому, что эти объекты воспринимаются нами примерно в том же виде при нашем возвращении туда, где мы их воспринимали раньше. Новые впечатления сравниваются с более ранними, теперь хранимыми в нашей памяти, и когда сходство близко, мы предполагаем, что имеющийся налицо объект присутствует непрерывно65. Это приводит нас к вопросу о том, как индивидуальные впечатления и соответствующие им идеи могут привести к образованию тех богатых понятий, которыми оперируют умы всех людей? Каким образом, спрашиваем мы, достаточно тривиальные последствия восприятия порождают сложные идеи? Как мы уже кпоминали, Юм отвечает, что сложные идеи являются результатами ассоциации простых идей и что все наши идеи, если они представляют собой нечто большее, чем абсолютные фантазии, могут возникнуть только путем усложнения более элементарных. Последние неискоренимо связаны с ощущениями и впечатлениями. Наше “разумение”, при правильном использовании данного слова, не может обозначать ничего иного. Исходя из этого, мы можем предсказать, каков будет подход Юма к остальным проблемам, рассматривающимся в Книгах I и III, — к страстям и нравственности. Как выдающийся психологический философ Юм отводит страстям центральное место в эпистемологии. Такие страсти, как гордость, любовь, смирение и ненависть связаны с идеями и ощущениями, вызванными теми объектами, по отношению к которым эти страсти испытываются66. То есть, “соответствующие” образы дают начало соответствующим страстям. Юм составляет великолепный список страстей, включающий щедрость, гнев, злобу, зависть, презрение, влюбленность и уважение. Он представляет свои страсти в виде оппонентных пар и объясняет их появление как проистекающее из опыта, получаемого в течение всей жизни, и из внутреннего чувства, называемого симпатией:
Мы видим, следовательно, что Юм во многом примыкает к сентименталистской (опирающейся на теорию эмпатии) традиции Шефтсбери и Батлера. Наши эмоции естественны, они вызываются ощущениями и впечатлениями, а управляются внутренним чувством симпатии. Поэтому наши самые возвышенные чувства и самые облагораживающие качества (такие, как любовь, уважение и альтруизм) в своей основе не зависят от рациональных соображений. Мы любим не в силу логического принуждения; мы щедры не потому, что у нас есть интеллектуальные основания отказываться от собственных интересов; не разум вынуждает нас испытывать злобу. Эти чувства или страсти возникают в нас как результат истории ассоциаций, получениянаград и наказаний за наше поведение, как результат действия законов мышления, которым можно дать названия сходства, смежности, причины и следствия. Страсти используются в эпистемологии Юма как средство объяснения центрального для неё понятия — веры. Спокойно принимая предложенное Беркли “решение” парадокса материи — то есть полагая, что то, что мы знаем, мы знаем через наши впечатления и рефлексию, — Юм приходит к заключению о том, что наше знание представляет собой верование (conviction) . Задача философа — объяснить это верование. Сам по себе опыт не достаточен для объяснения уверенности, которая присутствует в нашем знании. Эмпиризм может объяснить знание, то есть он может объяснить, что мы знаем о дожде, собаках и Луне, — но в опыте per se нет ничего такого, что могло бы вселить в знание свойственную ему веру. Поэтому веру следует понимать иначе, чем ощущения и впечатления. Увы, это есть чувство о нашем знании:
Он развивает эту аргументацию до тех пор, пока не приходит к заключению, что разум всегда находится на службе у страстей. То, что считается рационально выводимой системой морали, при более близком рассмотрении, есть не более чем приверженность к тому, что приятно. Мы нравственны в той степени, в какой определенные переживания и действия приводят к удовлетворяющему нас состоянию дел. Нравственное поведение возникает из “естественных человеческих чувств69”, которые воздействуют на наш разум, но существование которых от разума не зависит. Так называемые нравственные добродетели не более произвольны, чем другие “естественные” способности. То есть наша добродетельность не более произвольна, чем наша красота или уродство. Поэтому награждать или наказывать человека за его добродетели не более осмысленно, чем награждать или наказывать его за его вес70. Все мы хвалим или порицаем людей, в конечном счете, за то, что они делают нечто нравящееся или не нравящееся нам, а это, хотя оно и понятно, нельзя назвать рациональным или защищаемым канонами логики. Одним словом,
Если что-то существует, то это воспринимаемое существование. То, что существующий предмет или событие имеет причину, есть предположение — изобретение ума, — как и те признаки, на основании которых мы полагаем, что будущее будет согласовываться с прошлым. То, что мы расцениваем как нравственное, есть воспринимаемые действия, создающие в нас приятные или неприятные переживания. “Правильность” и “ошибочность” некоторой ситуации нерасторжимо связаны с верованиями, переживаниями, предрасположениями и естественными склонностями ума. “Правильность” и “ошибочность” находятся не в событиях или в действующих лицах, разве что в том смысле, что чувство находится в воспринимающем человеке. Мы вернемся к позиции Юма по вопросу о причинности в следующей главе и обсудим влияние его позиции на философию науки вообще и на психологию в частности. Психологическая философия Юма своеобразно сочетает ряд концепций, которые в современной психологии обычно находятся в антагонистических отношениях. С точки зрения эпистемологии, он был безоговорочным эмпириком. Существуют только две сферы знания: демонстративное, являющееся логическим и чисто вербальным, и фактическое, являющееся чисто опытным. Поскольку идеи могут быть только идеями о вещах, они не могут быть врожденными. Однако, несмотря на то, что идеи не врождены, чувства таковыми являются. Мы, согласно Юму, устроены так, чтобы отвечать страстью на определенные виды действий. Наши влечения, а также связанные с ними удовольствия и страдания придают живость нашим идеям и впечатлениям, уверенность нашему знанию. Как в точности это осуществляется нашей конституцией, — на это Юм лишь намекает. Само ощущение трактуется как “естественное” качество ума, постигать которое надлежит “анатомистам”, точно так же и нравственные чувства являются некоей частью нашей организации и, повидимому, поддаются (конечному) биологическому объяснению. Мы видим, следовательно, что материализм — это подразумеваемое будущее психологии Юма. Его теория знания — эмпирическая и ассоцианистская; теория эмоций — нативистская; конечная и неявно выраженная психологическая теория — материалистическая. Юм не был исключением из общего правила, согласно которому эмпирическая философия, рано или поздно, превращается либо в солипсизм, либо в психологический материализм. Томас Рид (1770–1796) и движение “здравого смысла”. Томас Рид — во многом недооцененная фигура в истории психологии и философии, несмотря на то, что в обеих дисциплинах его идеи неоднократно переоткрывались. В частности, философская школа двадцатого столетия, берущая начало от Дж.Э.Мура и названная школой “здравого смысла”, совпадает, в общих чертах, с системой Рида в современном одеянии. Даже знаменитый, хотя и не прямой “ответ” Канта Юму, который мы рассмотрим в следующей главе, был предвосхищен Ридом, так же как он предвосхитил теоретический нейтралитет современной науки о поведении и её тяготение к практике. То, что современные историки столь прененебрежительны к Риду, особенно удивительно, поскольку он был широко читаем своими современниками, вызывая их восхищение в Англии, Шотландии и на континенте. Возможно, он был слишком ясен. Мы идентифицируем Рида с движением “здравого смысла”, поэтому нам будет полезно уделить место выяснению того, насколько его время было по своему духу близко движению такого рода. Влияние всех значительных фигур в ряду британских эмпириков от Бэкона до Юма выходило за пределы Англии. Идеи Локка были усвоены основными реформаторами Франции, дважды на длительное время посещавшейся Локком. Его Трактат о гражданском правлении, акцентирующий потребность человека в свободе и равенстве, настаивающий на обязательствах правительства по отношению к своим гражданам, прекрасно дополнял дух французского Просвещения, апогей которого приходился на революцию 1789 г. Можно сказать, что французские философы произошли от Монтеня (1533–1592), британские же эмпирики — от Бэкона, и следует считать более чем просто совпадением то, что французский издатель, представивший миру Просвещения работу Локка, был также и инициатором издания собрания трудов Монтеня72. Далеко от совпадения также и то, что напишет Д'Аламбер в своем введении к Энциклопедии Дидро (1751):
Философы Англии и Франции воевали против рационализма не только в эпистемологической, но также в политической и социальной областях. В руках Мальбранша философия Декарта служила средством, защищающим религию и доходы клерикального ведомства. Левиафан Гоббса был полезен другим как та форма гоббизма, в рамках которой дедуктивная логика придает божественным правам королей, страданиям бедных и злоупотреблениям властью законность теорем Евклида. Поэтому не случайно эмпирические эпистемологи были эмпириками также в области нравственности и теоретиками в области политики — не случайно в силу того, что их эпистемологии, во всех значимых отношениях, предваряли собой обсуждение этической тематики. Эта этическая тематика принимала разнобразные формы в ряде языков и наций: Билль о правах, права человека, здравый смысл. Центром этого движения был Томас Рид. Он противостоял скептицизму Юма не просто ради спасения Бога, а, скорее, ради сохранения философских оснований для движения, еще более широкого, чем вопросы веры. Вспоминая, что Локк был готов признать несомненность высказываний о нравственности с такой же уверенностью, какая проявляется по отношению к утверждениям математики, мы более охотно включаем Рида в ряд эмпириков, даже несмотря на его утверждение о том, что принципы здравого смысла являются врожденными. Локк и Рид — всего лишь двое из многих философов, к которым можно применять ясные категории лишь в том случае, если мы хотим рассмотреть альтернативное направление. Кроме того, в обоих случаях готовность обратиться за помощью к тем или иным рационалистическим или нативистским принципам была вызвана стремлением избежать скептицизма. Для Рида философия Юма ведет не только к атеизму, но и к абсурдности. Именно Юм утверждал, что “ошибки религии опасны; ошибки философии только смешны74”, и именно Рид намеревался обеспечить предотвращение первых путем недопущения разрастания последних. Называя Рида основателем философии “здравого смысла”, мы имеем в виду не то, что его доводы основывались на предрассудках или переменчивых мнениях обывателя, а то, что он требовал от философии соответствия с тем, что всякое человеческое существо считает истинным, с тем, что сами философы считают истинным, будучи освобождены от претензий своей профессии. Среди же многочисленных претензий, свойственных философскому стилю мышления, нет ничего абсурднее мнения о том, что наши идеи обусловлены свойствами вещей. “Философы часто говорят нам” — пишет Рид, “что мы получаем идею протяженности через ощущения конечностей нашего тела, так, как будто в этом вопросе нет ничего сложного. Сознаюсь, что я приложил огромные усилия для того, чтобы найти, как эта идея может быть получена посредством чувств, но мои поиски были тщетными75.” Отвечая на идеализм берклиевского толка, Рид соглашается принять эту точку зрения и посмотреть, что из этого выйдет:
В адрес картезианца, предпочитающего разум чувствам, Рид может лишь заметить, что, поскольку “и тот, и другой вышли из одного и того же магазина”, у него есть столь же твердые основания полагаться на чувства, как у того — на разум77. По мнению Рида, Локк, Беркли и Юм не смогли провести различие между ощущением и восприятием, в результате чего использование ими понятия “идея” было безнадежно запутано. Ощущение — это непосредственное переживание того, что находится в уме, тогда как восприятие есть восприятие того, что находится за пределами ума. Обратите внимание на следующие два предложения: (а) Я чувствую боль в моей ноге. (б) Я вижу розу в саду. В (а), несмотря на то, что здесь употреблены глагол (чувствовать) и грамматическое подлежащее (боль), слова “чувствовать” и “боль” означают одно и то же, различие между ними чисто грамматическое. В (б) же различие между глаголом (видеть) и объектом (роза) не только грамматическое, но и реальное78. Наши восприятия, идущие от "природного источника", запускаются реальными объектами природы. Именно эти объекты представляют собой язык, используемый природой для того, чтобы говорить с нами. Мы не думаем о том, что должен существовать объект, если мы его воспринимаем. Мы знаем непосредственно и инстинктивно, что так оно и есть. Твердость, холод, цвет мы не в меньшей степени воспринимаем благодаря особенности нашей конституции, чем движение, число и форму. Ощущение — это естественный знак твердости, не более доказуемый, чем утверждение о том, что некоторая вещь может одновременно и существовать, и не существовать:
Рид был в своем роде ошеломлен готовностью Юма подвергать сомнению обоснованность всего, кроме тех ощущений и впечатлений, из которых, как он полагал, возникали его идеи. Почему, спрашивает Рид, Юм находит необходимым останавливаться на ощущениях? Если причинность содержится только в уме, если добродетель есть не более, чем определенная “живость”, получаемая нашими идеями, то зачем же допускать существование ощущений, впечатлений, идей, верований, или чего-либо еще? Ответ, безусловно, состоит в том, что ощущения, включая ощущения Юма, просто нельзя отрицать, не приходя в результате к внутреннему противоречию. Наши ощущения — не химеры: мы действительно избегаем боль; мы верим определенным впечатлениям и не верим другим, несмотря на тот факт, что в объекте нет ничего, что может заставить уверовать в нечто другое, кроме как в его реальность. Согласно рассуждению Рида, для того, чтобы понять наши ощущения, восприятия и происхождение наших верований, нужно обратиться к понятию “естественных способностей”, присущих нашей организации. Это не значит утверждать, что разум имеет врожденные идеи; скорее, он естественным образом снаряжен средствами распознавания тех естественных знаков, которые совпадают с “первичными” и “вторичными” качествами Локка, впечатлениями и размышлениями Юма и “идеями” Беркли. В вопросе о рациональном обосновании признания естественных способностей не больше смысла, чем в вопросе о логическом доказательстве того, что желудок переваривает пищу, или, еще лучше, — в вопросе о том, почему желудок переваривает пищу. Предвосхищая Дарвина, Рид отмечает, что для выживания в реальном мире мы должны быть психологически знакомы с объектами природы. В соответствии с этим, мы наделены конституцией, позволяющей нам реконструировать мир психологически значимыми и полезными способами. У простого обывателя нет ни времени, ни намерения избежать своей идеи дождя, думая о том, как бы войти в свою идею о доме. Он не поддерживает свою жизнь — то есть не сохраняет идею о поддержании своей жизни — посредством идеи поглощения своей же идеи пищи. Так же в этом отношении поступает и философ, в том числе, философ-скептик. Сказать, что никакие доводы логики не могут установить различие между дождем, жизнью, пищей, домами, с одной стороны, и нашими идеями об этих вещах, с другой стороны, — это означает всего лишь сказать, что мы и наш мир сконструированы не из логики; что логика не создала мир; что если логика сталкивается с теми фактами, которые являются всеобщими для человеческого ума, то именно логика должна покориться. Нет человека, чей титул агностика был бы выше, чем у Дэвида Юма. И все же, в некотором отношении его скептическая философия была возвратом к неспособности Возрождения разграничить природу и дух. Будучи влиятельнее Беркли, Юм, по видимому, в большей степени, чем Беркли, “психологизировал” мир, одновременно восхваляя Ньютона и даже стараясь ньютонизировать ум. Юм, конечно, не преследовал цель поощрить ту или иную разновидность дуализма, но впечатление от его работы должно было внушить многим то, что мы живем в двух радикально различающихся мирах: один — действительный мир причин, следствий, нравственных трюизмов и так далее; другой — мир только познаваемый, являющийся, в конечном счете, субъективным и даже гипотетическим. Если говорить о том, какое влияние Юм оказал или мог оказать на психологию, то можно отметить, что он психологизировал философию настолько, что превратил науку в предмет убеждения, тогда как Рид, поставив психологию на твердое основание естественных причин, превратил само убеждение в возможный предмет исследования науки. К числу современников Рида относился Дэвид Гартли, чьи труды будут рассмотрены в Главе 9. Он был одним из ранних теоретиков "условно-рефлекторной" традиции, и его Размышления о человеке (1749) были первым значительным и развитым выражением психологического материализма, возникшего в школе британского эмпиризма. Основанием для нападок Рида на эту работу послужила ее чрезмерная насыщенность гипотезами — ее отход от ньютоновских принципов относительно правил построения науки. Рид возражал не против материализма, а против теоретизирования. Красноречиво осуждая теории Гартли, Рид проявляет свою увлеченность методологией Бэкона и Ньютона:
Здесь также ощущается влияние Рида на современную психологию (прежде всего, через его непосредственное влияние на Дугальда Стюарта, а косвенное — на Джеймса Милля и даже на Джона Стюарта Милля). Он требует, чтобы философские объяснения соответствовали тем фактам и истинам, которыми обладает любое человеческое существо. Он требует избегать гипотетических высказываний, за которыми не стоит непреодолимая сила косвенных свидетельств. Он настаивает на том, что мир реален, что чувства подвергаются воздействию со стороны этого мира, что восприятие есть сообщение об этом мире. Он обосновывает свою позицию, — являющуюся формой непосредственного реализма, — тем, что узнает из жизни в этом мире каждый, в том числе и скептик. Он продолжает защищать свою разновидность реализма критериями выживаемости, хотя явно это не выражено; путь скептика заставляет нас вступить в грязную канаву! Распространившись по Европе, влияние Рида достигло также и Америки, где движение “здравого смысла” кульминировало в американском прагматизме и функционализме Дьюи, Джемса и Пирса. Это направление влияния Рида составляет предмет одной из следующих глав. Помимо создания базы для прагматизма и функцонализма, Рид является также отцом так называемой “психологии способностей” — разновидности психологического исследования, посвященного раскрытию тех естественных способностей человека (и других животных), которые считаются существенными для знания их поведения. Полагая, что эти способности коренятся в инстинктах или естественных задатках, Рид кладет начало той ветви британского эмпиризма, которая, в конечном итоге, породила теории наследственной гениальности Гальтона и инстинктивную теорию эмоций Мак-Дугалла. В ходе этого психология способностей будет ассимилирована Галлем и Шпурцгеймом и появится в ультраматериалистическом одеянии как френология. Все эти вопросы также следует пока отложить. Мы отмечаем их здесь только для того, чтобы подтвердить, насколько обширным было влияние Рида на психологию. Даже современный бихевиорист, защищаясь от тех, кто требует теорий; пытаясь описать смысл, в котором “закон эффекта” является законом; объясняя свое безразличие к исследованиям и механизмам в области неврологии; отчетливо формулируя свою программу, кончает тем, что заимствует доводы здравого смысла у Томаса Рида. Философ, преуспевший в формировании мысли и деятельности сторонника теории наследуемости и ситуациониста (environmentalist), гуманиста и механициста, достоин гораздо большего внимания, чем то, которое было оказано Риду. Поскольку в области эпистемологии Рид придерживался позиции здравого смысла, такова же была его позиция по вопросу о страстях, эмоциях, свободной воле и нравственному поведению вообще. Проще говоря, эти характеристики, большинство которых встречаются в животном царстве повсюду, столь существенны для сообщества и мирной жизни творений природы, что их источник не может находиться ни в чем ином, кроме самой природы. Естественные влечения, проявляемые, например, даже скромной гусеницей, которая отказывается от сотен разных листьев до тех пор, пока она не найдет тот, который “естественен” для ее диеты, Рид поясняет так:
Та самая природа (Бог), которая ответственна за эти естественные способности, снабдила нас способностью размышления для того, чтобы мы могли держать наши влечения под контролем и чтобы мы могли понять, в чем состоит наш долг по отношению к другим и Богу. Эта способность размышления столь же самоочевидна, как и теоремы Евклида, и даже скептик, подвергая ее сомнению, вынужден для этого ее же и использовать. Именно эта самая способность позволяет нашим действиям быть произвольными. Те же, кто ссылается на исключения, вроде случаев безумия, состояния бреда или опьянения, больше осведомлены об исключениях, а не о том факте, что это есть исключения82. Принципы, направляющие тех, кто обладает способностями, не могут быть низвергнуты отдельными случаями болезни, уродства или органического (естественного) недостатка83. Мы завершим наше сжатое изложение взглядов Рида обзором его подхода к проблеме универсалий, так как именно рассмотрение этой проблемы и в особенности “решения” Юма позволяет отнести его к представителям ранней формы когнитивной психологии, которая противостоит перцептивной и сенсуалистской психологии. Беркли объяснял общие идеи — например, идею “кота” — через принцип ассоциаций. Согласно теории Беркли, которую разделяли Локк и Юм, все общие идеи — это всего лишь конкретные идеи, соединенные вместе посредством слов. Следовательно, после того, как нам неоднократно предъявили разных конкретных котов и мы узнали слово “кот”, мы используем это слово для репрезентации любого индивидуального кота; то есть всех котов, предъявляемых произвольным образом по одному. Юм не только соглашался с таким объяснением, он видел в нем одно из значительных продвижений вперед в современной истории философии. Юм излагал это так:
Рид, будучи реалистом здравого смысла, предлагает следующие замечания в адрес этой теории, являющейся, как отмечает Рид, краеугольным камнем теории идей Юма. Во-первых, утверждая, что каждая идея должна сводиться к впечатлению о количестве или качестве, Юм делает для нас невозможным подразумевать разные вещи под выражениями “Это есть линия” и “Это есть линия длиной в три дюйма”. Это не тот случай, когда некто, имеющий идею линии, имеет её, только рисуя конкретную линию. Он не рисует ничего подобного. Во-вторых, Рид согласен с Юмом (и номиналистами) в том, что в реальном мире не может быть никакого “абстрактного” треугольника. Многие отдельные предметы, однако, могут обладать общими свойствами, и познание этих свойств не требует построения умственного образа каждого предмета для того, чтобы оценить сходство. В-третьих, если мы обладаем идеей “льва”, она возникает у нас не из-за того, что имеется некоторый конкретный лев, поедающий некоторую конкретную овцу; и еще менее — из-за того, что идея льва поедает идею овцы:
В-четвертых, то, что набору частностей мы приписываем некоторое словесное выражение, Юм объясняет наличием между ними сходства, тем самым Юм либо приписывает нам способность иметь общие идеи, либо, что хуже, он поддерживает некую гипотезу, обращаясь за помощью к тому самому принципу, который он намеревается отвергнуть. В-пятых, предполагая, что, когда мы используем общее слово, оно создает в наших умах идею отдельного, Юм бросает вызов обычному опыту человечества:
Наконец, Юм, в качестве иллюстрации к своей теории, предположил, что, например, в сфере из белого мрамора форма и цвет не различимы. Юм имеет в виду, что под формой мы понимаем не более, чем определенное распределение света конкретного воспринимаемого оттенка. На это Рид отвечает:
Этими доводами Рид не защищал то понимание реальности универсалий, которое имелось у средневековых реалистов. Он лишь указывал на логические и практические границы ассоцианистского взгляда, одобрявшегося Беркли, Локком и Юмом. Он настаивал на том, что уже само “сходство”, которым оперировал Юм, требовало существования априорной способности, иначе общий термин никак нельзя было бы применить к частностям. Далее, он напоминал сенсуалистам о том, что реальные люди, думая о словах общего характера, не изображают индивидуальные вещи. Наоборот, в уме содержится общее понятие, которое теперь мыслится независимо от представляющих его предметов. Так же как мир объектов — это язык, которым обладает природа для взаимодействия с нами, наш человеческий язык — это средство, благодаря которому ум может освободить себя от частностей и от материи вообще. Мы ощущаем, мы воспринимаем, мы понимаем. Ничто из этого не является более “естественным”, чем два оставшихся; ничто не нуждается в логике для доказательства. Отцом современного утилитаризма является Иеремия Бентам, однако основные идеи, скрывающиеся за этим направлением, развили древние эпикурейцы, а после них эти идеи принимали многие значительные мыслители. Основу утилитаризма составляют утверждение о том, что правильность и ошибочность действий определяется исключительно их последствиями (отсюда близкий синоним консеквенциализмi), и связанное с этим утверждением требование рассматривать только такие последствия, как человеческое счастье и страдание. Утилитаризм определенно отвергает тезис о том, что некоторые действия ошибочны по самой своей природе — вне зависимости от последствий.
Чаще всего встречаются две версии утилитаризма, это — утилитаризм действия и утилитаризм правила. Первый — версия, выдвинутая Бентамом и его непосредственными последователями, — применяет стандарт консеквенциализма к любому конкретному действию. Утилитаризм правила предлагает вместо этого оценивать в целом все последствия, вытекающие из действий данного рода. Приверженец утилитаризма правила мог, например, утверждать, что, хотя определенное мошенническое действие и может принести дополнительный чистый доход счастью, однако отстоящие по времени последствия этого мошенничества, если оно становится основой взаимодействия людей друг с другом, принесут чистый дополнительный доход несчастливости. На этом основании он будет отстаивать правило “Не совершай обмана”. По мнению Бентама утилитаризм — это нормативная система этики, поскольку он объясняет то, что должно управлять поведением каждого. Фактически же бентамовская защита утилитаризма строится, прежде всего, в терминах реальных человеческих действий. Однако то, чему надлежит быть, невозможно вывести из простого описания человеческого поведения. Поэтому давайте скажем, что Бентам, в лучшем случае, предложил дескриптивную этику, основанную на определенных психологических предположениях о человеческой мотивации. Прежде чем обратиться к этим предположениям, нам следует отметить их гипотетическую природу и не приходить в смущение от поверхностной согласованности их с повседневным опытом. Конечно, цель большинства наших действий — способствовать нашему собственному счастью. Поэтому временами наши решения и действия можно было бы лучше объяснить, пользуясь принципами утилитаризма. Так бывает, в частности, в тех случаях, когда мы подвергаем себя краткосрочному страданию, рассчитывая получить в обмен более длительное удовольствие или избавление от боли; например, идем на хирургическую операцию для того, чтобы воспаленный аппендикс более не приводил к ухудшению здоровья и не очень нас беспокоил. Но управляют ли такие соображения всеми нашими действиями и решениями, и должны ли они управлять? Например, можно ли показать, что общая несчастливость в мире возрастает, и из принятия нами определенной научной теории, в сущности, не будет следовать никакое удовольствие? Вопрос состоит не в том, примем ли мы или нет при таких обстоятельствах данную теорию. Вопрос, скорее, состоит в том, должно ли “счастье” служить критерием, согласно которому мы отвергаем или принимаем теории. Заметим также, что “удовольствия” и “страдания” не являются полностью и всегда неизменными для человеческого общества. Некоторые из них — следствия многолетнего воспитания семьей, школой и культурой в целом. В каком же тогда возрасте утилитаристские соображения должны становиться исключительными (или допустимыми) для жизни личности? Нужно ли разрешать детям отказываться от всякого обучения, поскольку для них большее счастье не ходить в школу? На этот вопрос, способный привести в замешательство приверженца утилитаризма действия, приверженец утилитаризма правила может ответить таким образом: “нет, дети должны ходить в школу, поскольку, за счет такого длительного натаскивания, образование увеличивает количество и качество удовольствий, позволяет образованному человеку предотвращать страдания от бедности, безработицы и так далее”. Но действительно ли образование имеет такие следствия? Разве официальное школьное обучение не ведет зачастую к потере уверенности, к длительным периодам сомнения и замешательства, к разочарованию, обусловленному конкуренцией и провалом возвышенных, но не встретивших отклика ожиданий? С той поры как мир, благодаря образованию, достиг точки, в которой может быть разрушено все человечество, — а это, можно полагать, самое лишенное утилитарности из всех вообразимых следствий, — может ли какое-либо возможное “удовольствие” уравновесить более, чем вероятное страдание? Эти примеры иллюстрируют трудности, связанные с утилитаризмом и одним из его знаменитых потомков, бихевиоризмом. Мы рассмотрим данные вопросы снова в последней главе, а данную главу закончим обзором некоторых из более значительных психологических аспектов этой теории. При попытке объяснить рост утилитаризма возникает почти непреодолимое побуждение указать на то, что лучшим учеником Томаса Рида был Дугальд Стюарт (1753–1828), что жаждущим учеником Стюарта был Джеймс Милль, и что Джеймс Милль был основным последователем и основным толкователем политической философии Иеремии Бентама. Такая интеллектуальная родословная создает впечатление, что великое политическое реформистское движение Англии 1830–х зародилось в спокойных исследованиях Эдинбурга, Глазго и Абердина и его характер был, по существу, философским. Действительно, Рид произвел на Дугальда Стюарта сильное впечатление, настолько сильное, что тот посвятил свои Основы философии человеческого разума (Elements of the Philosophy of the Human Mind), в основном, определению и исправлению тех положений системы Рида, которые Стюарт считал ошибочными88. Используя все это, он поддерживал упорную пропаганду Ридом науки Бэкона, веру Рида в конституциональные детерминанты восприятия и мышления, и психологию “способностей” Рида как подходящую стартовую площадку для науки о нравственности. Он, однако, не слишком уверенно призывал к здравому смыслу и не разделял также пренебрежение Рида, зачастую высокомерное, по отношению к роли разума в решении спорных вопросов. Вообще говоря, Стюарт интересовался различиями между естественными науками, наукой о морали и математикой. (Его отец был в Эдинбурге профессором по последнему из этих предметов.) Его влияние на Джеймса Милля, как мы можем предположить, более всего было обусловлено силой его личности, свободой его политических убеждений, его огромным личным обаянием89. Что касается его конкретных интеллектуальных вкладов в развитие Милля, то мы можем упомянуть два из них: он разрушал уверенность в том особом виде ментализма, которым столь изобиловала психология Милля, и в процессе этого спасал механистический ассоцианизм Юма. Природа ридовских “врожденных предрасположений ума” была достаточно загадочна для того, чтобы удержать теологию среди наук об уме, а физику — вне них. Стюарт, как и Юм, сводил многие из этих естественных качеств к языку и конвенциональным фигурам речи. Другой из его учеников, Томас Браун (1778–1820), возможно, наиболее удачно подытожил критику Стюартом психологии Рида, написав:
Браун разделял взгляды Стюарта относительно восстановления более строгого ассоцианизма в психологии, Милль же был преемником их обоих. Тем не менее, как бы снова ни крепло впечатление интеллектуальной целостности, мы должны заметить, что Милль начал свои университетские занятия лишь после того, как минул год со времени публикации Принципов морали и законодательства (Principles of Morals and Legislation) Бентама (1789), Бентам же не увлекался мелочным философским педантизмом, так занимавшим учеников Томаса Рида. Следовательно, чтобы обнаружить связь — а она внутренняя — между утилитаризмом и эмпиризмом, мы должны смотреть сквозь ту поверхностную и почти случайную хронологию, которая связывает Рида, Стюарта, Брауна, Милля и Бентама. Различие между политикой и политическим движением состоит в том, что последнее ищет своей защиты в философии. Когда надо поощрять людей к отказу от определенных традиций, вовлекать в новые политические сферы, побуждать к бунту или восстанию, их одновременно следует убеждать либо в том, что были нарушены принятые ими принципы, либо в том, что эти принципы не обоснованы. Жизнь в правовом обществе, неважно, насколько невзрачная и ограниченная, обычно воспринимается как лучшая, чем жизнь среди анархии. По крайней мере, в принципе, улучшить условия жизни можно всегда, пока человек жив и не заключен в тюрьму, а этого факта обычно достаточно для того, чтобы отбить охоту у масс поднимать оружие против своих вождей. Ни эмпиризм, ни рационализм, как чисто философские доктрины, не влекут никакой заданной формы правления. Аристотель мог выступать против тирании с позиции рационалиста, а Гоббс, с этой же позиции, мог ратовать за тиранию. В той степени, в какой правовое общество не может ни экспериментально, ни даже эмпирически доказать обоснованность первых принципов, на которых должна базироваться любая правовая система, — в этой степени законодательный и этический тон общества необходимым образом будет устанавливать та форма рассуждения и творчества, которую обычно связывают с философским рационализмом. Соответственно, когда правительство рушится и в воздухе носятся реформы, философский рационализм становится безвинной жертвой войны против закона. Простая случайность не может быть ответственна за то, что периоды социального беспорядка и политических реформ по своему философскому складу часто бывают эмпирическими, а периоды национального возрождения и перегруппировки по своему философскому складу часто — рационалистические. Вспомните ультра-рационалистские философии, последовавшие за поражением Афин от Спарты, за приходом Рима к власти, за созданием Европейского сообщества и за пост-реформистским периодом во Франции и Германии. Противопоставьте это эмпирическому стоицизму и материализму позднего Рима, эмпирическому прагматизму Европы в эпоху Реформации и политическому эмпиризму Англии, начиная с восемнадцатого столетия. В этих крупных культурных и политических движениях эмпирически настроенные светила не столько отрицали наличие первых принципов или “самоочевидных” истин, сколько утверждали другие первые принципы и “самоочевидные” истины. То, что все люди созданы равными, является не более “самоочевидным”, чем то, что короли обладают “данными Богом правами”. Джон Локк, чей статус эмпирика не нуждается в какой-либо защите, начинает свой знаменитый Опыт о гражданском правлении с очень большого количества утверждений, вовсе не базирующихся на свидетельстве чувств, и лишь с небольшого числа тех, которые допускают наблюдение. Он пытается вообразить человека в его подлинном “природном состоянии” и заключает, что в таком состоянии ничто не является более очевидным,
Но каково, с эмпирической точки зрения, это природное состояние? И какие наблюдения или данные наблюдений ведут к тому заключению, очевиднее которого быть не может, что все индивидуумы одинаково наделены при рождении одними и теми же способностями и обладают этими способностями в одинаковой степени? И как насчет замечательного исключения: если только их общий владыка и хозяин (Бог) не ставит одного над другим? Не то ли это самое исключение, на котором со времен первого фараона базировались все монархии, все религиозные авторитеты, все контролирующие институты? И когда Локк продолжает, говоря, что для заданного состояния природы “имеется определяющий его закон природы”, не есть ли это тот предполагаемый “закон природы”, который предписывает Цезарю править, а не подчиняться? Давайте, таким образом, не преминем заметить, что связь между эмпиризмом и утилитаризмом — историческая, а не логическая. Локк, Беркли, Юм в Англии и философы французского Просвещения утвердили авторитет опыта в делах государства. На самом высоком уровне — единственном уровне, из которого политические движения могут черпать философское вдохновение, — эмпирики отождествляли истину с чувством, обоснованность — с ощущением, нравственность — с настроением. Влияние Томаса Рида, опять же на самом высоком уровне, создавало впечатление, что эти эмпирические требования базируются на естественном устройстве человека. Принципы Иеремии Бентама были соединением эмпиризма, сентиментализма и философии здравого смысла, несмотря на его неприятие школ “здравого смысла”, которые он описывал как “ипседиксицизм”i. Упрекая интуиционистов (например, Рида), он мог, тем не менее, прятаться за афоризмами типа:
Эту форму ипседиксицизма нельзя, конечно, вывести ни из чего иного, кроме как из интуиции, в том значении этого термина, которое использовали те, кого Бентам отвергал как интуиционистов. Голос рационализма прорывается даже сквозь внешне эмпирический язык следующего отрывка:
Высказыванию Руссо “Человек рожден свободным и всегда находится в цепях” соответствовала английская версия — распространение в конце восемнадцатого столетия теории социального контракта Локка. Историческая встреча Бентама и Джеймса Милля состоялась в 1808 и таким образом было положено начало “бентамистам”. Вскоре, в 1832, английский утилитаризм произвел реформу избирательной системы. Во Франции континентальную версию этого уже проделал Наполеон. Вклад Бентама в психологию вряд ли можно проигнорировать. Если утилитаристский упор на удовольствие и страдание был, философски выражаясь, далеко не оригинален — возник, так сказать, из более, чем векового сентименталистского мышления, — то попытка Бентама выразить это учение количественно перебросила мост к науке. Его “принцип удовольствия” найдет новое выражение в психоаналитических теориях Фрейда, в исследовании и теории Торндайка. Усложненный бихевиористской наукой “закон эффекта”, безусловно, является всего лишь новым провозглашением “двух господ” Бентама. Менее очевидно то, что правовые предписания Бентама создавали потребность в психологическом исследовании. В Главе XVI своих Принципов он затрачивает некоторые усилия для того, чтобы установить правовую ответственность граждан и те условия, которые могли бы ограничить либо их претензии на счастье, либо их способность предъявлять такие претензии. Именно здесь он обращается к проблемам, связанными с умопомешательством и умственной неполноценностью, и почти умоляет Альфреда Бине:
В дополнение к этим косвенным воздействиям на психологию — воздействиям, очень малым, по сравнению с вкладами Фрейда, Торндайка и Бине, — Бентам, благодаря своим работам и благодаря своему основному глашатаю Джеймсу Миллю, непосредственно определил специфический тон американской психологии, в особенности психологии обучения. Мост от утилитаризма к прагматизму короток. Расстояние от прагматизма до бихевиоризма еще короче. Как мы увидим в последующих главах, одним из строителей этих мостов был Чарльз Дарвин. Много, даже большинство, идей, обсуждавшихся в этой главе, написаны в качестве ответа на альтернативную перспективу — рационализм. Большая часть Опыта Локка была посвящена дискуссионным вопросам, поставленным Декартом, в точности так же, как Трактат Юма был ответом тем, кто бросал вызов эмпиризму Локка. Трактат, однако, шел гораздо дальше простой защиты, и внес рационалистическую жилку в среду британских и шотландских философов, являвшихся, во всех прочих отношениях, эмпириками. Мы обратимся теперь к тому самому рационализму, который столь дерзко предпочитает ум чувству, логику — эксперименту, надежную истину — неизбежным вероятностям восприятия. 1 Francis Bacon. Novum Organum. LXIV, in The Works of Francis Bacon, Vol.I, Hurd and Houghton, Cambridge, 1878. Цит. по: Фрэнсис Бэкон. Новый Органон. — Соч. в 2 т. М.: Мысль. Т.2, 1972. С.30. 2 Francis Bacon. Of the Proficience and Advancement of Learning Divine and Human Works, Vol.I, pp.134–135. 3 Там же, стр.128. 4 Там же, стр.120. 5 Там же, стр.127. 6 Там же, стр.224. 7 Там же, стр.225–226. 8 Там же, стр.236–237. 9 Там же, стр.254. 10 Там же, стр.332. 11 Там же, стр.334. 12 Там же, стр.338. 13 Francis Bacon. Novum Organum, XCVIII, Works, Vol.I. Цит. по: Фр.Бэкон. Новый Органон. — Соч. в 2 т. М.: Мысль. Т.2, 1972. С.60–61. 14 Там же, XCIX. Русский перевод: с.61. 15 Там же, CXXVII. Русский перевод: с.78–79. 16 Там же, XCII. Русский перевод: с.56. 17 John Donne, Complete Poetry and Selected Prose, edited by John Hayward, Random House, New York, 1936, p.237. Блестящий анализ этого аспекта zeitgeist (“духа времени”) см. в All Coherence Gone, by Victor Harris, University of Chicago Press, 1949. 18 John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, Henri Regnery Co., Chicago, 156. Цит. по: Джон Локк. Опыт о человеческом разумении. — Соч. в 3 т. М.: Мысль. Т.1, 1985. С.94. С особенной проницательностью скептические силы этого периода исследуются в работе: Margaret Wiley. The Subtle Knot: Creative Scepticism in Seventeenth-Century England, Allen and Unwin, London. 19 Locke, Essay, Introduction. Русский перевод: с.91. 20 Там же. 21 Там же, Book II, Chap.IX, Sec.4. 22 Там же, Sec.7. 23 Там же, II, IX, 8. Русский перевод: с.195. 24 Там же, IV, I, 2. Русский перевод: с.3. 25 Там же, IV, II, 1. Русский перевод: с.9. 26 Там же, II, XXIII, разд. 9. Русский перевод: с.351. 27 Там же, II, XXIII, разд. 9 и 11. Русский перевод: с.351–352. 28 Там же, IV, III, 12. Русский перевод: с.22. 29 Там же, IV, II, 14 и IV, IX, 3. 30 Там же, IV, IX, 1. 31 Там же. IV, XI, 13. 32 Там же, IV, XI, 8. 33 Там же, II, X, 8. 34 Там же, IV, IV, 4–5. Русский перевод: с.41–42. 35 Там же, IV, IV, 6. 36 Там же, IV, IV, 7. 37 Там же, IV, IV, 8–9. Русский перевод: с. 43–44. 38 George Berkeley, An Essay Towards a New Theory of Vision (1709), in Berkeley's Works on Vision, edited by Colin M.Turbayne, Library of Arts, Bobbs-Merill, Indianopolis, 1963. Цит. по: Опыт новой теории зрения. — Дж.Беркли. Сочинения. М.: Мысль, 1978. 39 Там же, Sec.75. 40 Там же, Sec.65. 41 George Berkeley, A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge (1710), Open Court Edition, La Salle, Ill., 1963. Цит. по: Трактат о принципах человеческого знания. — Дж.Беркли. Сочинения. М.: Мысль, 1978. 42 A.A.Luce, Berkeley's Immaterialism, Russel and Russel, New York, 1968. 43 Berkeley, Essay, Sec.17. 44 Berkeley, Treatise, #4. 45 Там же, #86. 46 Там же, #89. 47 Там же, #90. 48 Там же, #103. 49 Там же, #112. 50 David Hume, A Treatise of Human Nature, Introduction, edited by L.A.Selby-Bigge, Clarendon Press, Oxford,1972. Цит. по: Трактат о человеческой природе. Д.Юм. Соч. в 2 т. М.: Мысль.Т.1.,1965. С.82. 51 Наиболее полезное собрание работ Шефтсбери, Батлера и других сентименталистов: Dover edition of British Maralists, 2 vols, edited by L.A.Selby-Bigge, Dover Books, New York, 1965. 53 Там же, p.56. 54 Там же. 55 Joseph Butler, Of the Nature of Virtue, Selby-Bigge, British Moralists, p.245. 56 Hume, Treatise, p.XVII. Русский перевод: Введение, с.83. 57 Там же, p.XVIII. Русский перевод: Введение, с.84. 58 Там же, Book I, Pt.I, Sec.I. Русский перевод: с.91. 59 Там же, I, I, II. 60 Там же, I, I, III. 61 Там же, I, I, III. 62 Там же, I, I, IV. Русский перевод: с.99. 63 Там же, I, IV, V; I, IV, I. 64 Там же, I, IV,II, и также I, IV, IV (quotation from p.228). Русский перевод: с.297. 65 Там же, I, IV, II. 66 Там же, II, II, IV, и II, II, V. 67 Там же, II, II, IX. Русский перевод: с. 523. 68 Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding, Sec.V, Pt.II, in Essential Works of David Hume, edited by Ralph Cohen, Bentam Books, New York, 1965. Цит. по: Д.Юм. Исследование о человеческом разумении. М.: Прогресс, 1965. С.52. 69 Hume, Treatise, III, II, V. 70 Там же, III, III, IV. 71 Hume, Enquiry, Sec.IV, Pt.II. Русский перевод: с.38. 72 Ira Wade, The Intellectual Origins of the French Enlightment, Princeton University Press, Princeton, 1971 (p.89). 73 Jean Le Rond D'Alembert, Preliminary Discourse to the Encyclopedia of Diderot, translated by Richard N. Schwa, (quotation from p.7 of the Introduction), Bobbs-Merill, Indianopolis, 1963. 74 Hume, Treatise, I, IV, VII. Юм, Трактат, I, IV, VII. 75 Thomas Reid, An Inquiry into the Human Mind on the Princoples of Common Sense, in Between Hume and Mill: An Antology of British Philosophy — 1749–1843, edited by Robert Brown, Random House, Modern Library, New York, 1970, p.161. 76 Reid, Inquiry, p.175. 77 Там же, p.174. 78 Там же, p.173. 79 Там же, p.157. 80 Там же,p.187. 81 Thomas Reid, Essays on the Active Powers of the Human Mind, Essay III, Pt.II, Ch.I, MIT Press, Cambridge, 1969 82 Там же, Essay II, Ch.III. 83 Thomas Reid. Essay on the Intellectual Powers of Man, Essay II, Ch.5 (“Of Perception”), reprinted by MIT Press, Cambridge, Mass., 1969. 84 Hume, Treatise, I, I, VIII. Юм. Трактат. Русский перевод: с.109–112. 85 Reid, Essays on the Intellectual Powers of Man, Essay V. 86 Там же. 87 Там же. 88 Dugald Stewart, Elements of the Philosophy of the Human Mind, in Brown, Between Hume and Mill. 89 Однако, основным источником постоянного интереса старшего Милля к философии морали служили, по-видимому, лекции Стюарта. См. в этой связи Alexander Bein, James Mill: A Biography, London, Green, 1882. 90 Thomas Brown, Lecrures on the Philosophy of the Human Mind, in Robert Brown, Between Hume and Mill, p.336. Заметьте сходство между возраженем Томаса Милля и тем, что профессор Райл (Ryle) в The Concept of Mind (1949, Hutchinson and Co., London) называл “категориальной ошибкой”. Райл описывает иностранного посетителя Оксфорда или Кембриджа, спрашивающего, после осмотра классов, игровых площадок, офисов и прочего “А где же университет?” Оксфордский университет не возникает как результат того, что ученики и учителя просто оказываются вместе там, где однажды был большой и пустой участок земли. Сначала была идея университета, затем был выбор его местоположения, строительство зданий, зачисление подходящих студентов т.д. Таким образом, “категориальная ошибка” иностранца может вовсе и не являться ошибкой. Вполне понятно, что исследовав все здания и побеседовав со всеми постоянными жителями Оксфорда кто-то, вероятно, все еще может спросить “А где же университет?” Иначе говоря, этот человек может быть знаком с первоначальным уставом, может помнить первоначальные намерения и обязательства университета и может решить, что то, что имеется налицо сейчас, не есть Оксфордский университет. В терминах той версии “категориальной ошибки”, которую дает Браун, будет казаться, что мало разницы между употреблением слова “сознавать” и слова “чувствовать”. Даже если и согласиться с тем, что выражение “я сознаю, что у меня болит зуб” означает не более, чем “у меня болит зуб”, все равно надо будет объяснить это чувствование. 91 John Locke: An Essay Concerning the True Original, Extent and End of Civil Government: II: The State of Nature, in Social Contract, edited by Sir Ernest Barker, Oxford University Press, New York, 1947 92 Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Ch.X, Sec.XI, in The Utilitarians, New York, 1961. 93 Там же, Ch.I, Sec.I. 94 Там же,Ch.XV, Sec.XLIV. Глава 8. Рационализм: геометрия ума В Главе 1 давалось обоснование строгой классификации, и затем оно несколько раз повторялось. Здесь это уместно сделать снова, поскольку термин “рационализм” стал настолько многозначным, что почти всякое возражение против его применения будет иметь свои основания. Например, привычно говорить о “Просвещении” восемнадцатого столетия как об “эпохе разума”, и нет необходимости сообщать, что все его главные архитекторы посвятили себя разуму. Тем не менее, большинство из них — Вольтер, Юм, Дидро, Д'Аламбер, Кондорсе — были эмпириками, по крайней мере, согласно тому широкому определению эмпиризма, которое дано в предыдущей главе. Даже Руссо, столь страстный романтик и идеалист в общепринятом смысле этого термина, долго оставался эмпириком в отношении основных политических вопросов своего времени. Мы уже отмечали также, что эмпиризм Локка охватывал интуицию и возможность нравственных аксиом, причём, доказательность его концепции была сопоставима со строгостью математика. Тем не менее, имеются фундаментальные различия между Локком, Беркли, Юмом, Джеймсом Миллем и Джоном Стюартом Миллем, с одной стороны, и Декартом, Спинозой, Лейбницем и Кантом, с другой стороны; более того, эти различия вызвали появление множества различных “психологий”. В данной главе мы сосредоточимся на двух наиболее значительных различиях, которые вызывают больше всего споров и которые долгое время играли наибольшую роль в образовании двух отдельных путей развития нарождающейся науки психологии. Первое — эпистемологическое и относится к вопросу о врожденных идеях. Второе — методологическое и затрагивает соотношение рационального и эмпирического способов исследования и объяснения. Естественно, что эпистемологический аспект фактически определяет выбор метода. Поскольку эти две темы — центральные, лучше всего начать с их обсуждения. Вспомним, что теория познания Платона была в корне нативистична. В нескольких диалогах он утверждает, что вечные истины заключены внутри наших душ еще до рождения и что научение, правильным образом понимаемое, есть разновидность воспоминания. В Тэетете Сократ быстро расправляется с сентенцией, которая удивительно напоминает Юма: “Человек есть мера всех вещей”, отмечая при этом, что, если бы достаточно было одних чувств, то бабуинов с собачьими мордами можно было бы считать философами. Главная часть платоновского наследия, доставшегося Аристотелю, который, впрочем, находился в стороне от теории идей, содержала этот этот скептицизм по поводу чувственных данных. Признавая, что чувства реагируют на изменения в материальном мире, Аристотель сделал также вывод о том, что они сыграли небольшую роль в деле поиска неизменных и всеобщих законов. Соответственно, именно метафизика должна была стать “первой философией”, и именно такой иерархии бросил свой вызов Фрэнсис Бэкон. Но давайте выясним, что стоит за этой иерархией. Аристотель в своих психологических трудах похож на “здравомыслящего реалиста”, который не отличается от Томаса Рида. Он допускал принципиальную адекватность и полезность чувств во всем животном царстве, так как иначе выживание было бы невозможно. Природа, как не единожды говаривал Аристотель, ничего не делает, не преследуя некоторой цели. Чувства, перцептивные и моторные системы, процессы памяти и обучения — все это составляет то, что служит как временным, так и постоянным интересам индивидуального организма и вида в целом. Следовательно, чувства существенны как инструмент для собирания фактов, и при особых условиях они заслуживают доверия и предоставляют точные данные. Однако тот материал, который может дать опыт, как раз и есть то, что надо объяснить, это не есть само объяснение. Мы можем наблюдать, например, что животные, имеющие сердца, обладают также и почками, но ничто в наблюдении не объяснит, почему это так. Соответственно, научное знание, включающее как факты, так и объяснения этих фактов, должно основываться не на эмпирических, а на принципиально рациональных соображениях. В конечном итоге, нечто нам понятно только тогда, когда мы можем привести основания, объясняющие, почему оно таково, каково оно есть. Именно здесь выступают на сцену “конечные причины”, и более эмпирически настроенные теоретики вежливо (или не столь вежливо) удаляются! В средневековый период, как мы отмечали, между наследниками каждой из этих точек зрения вновь возник спор, на этот раз в форме проблемы универсалий. Глаз может видеть некоторого единичного кота в одно время, однако, разум “знает” об “универсальном коте”. Такое знание предполагает наличие познавательной способности, не являющейся сенсорной и, следовательно, представляющей собой такую форму знания, которая не может быть дана в опыте. Этим знанием ум должен обладать до опыта для того, чтобы опыт чему-либо нас научил. Слова дана и до — центральные для проблемы врожденных идей. В Главе 2 мы еще раз рассматривали возражения Аристотеля против строгого (платоновского) нативистического мнения, вроде бы требующего, чтобы дети вступали в мир, обладая знанием ряда вещей, которым позже в течение жизни они будут с таким трудом обучаться. Насмешка Аристотеля по этому поводу послужила прототипом и в последующем воспроизведилась каждым, кто стремился разоружить нативистов. Шаблонный ответ, безусловно, таков: у детей вызывает трудности не истина, а язык, который они должны учить для того, чтобы выразить эту истину в форме, дозволяемой культурой. Опровержением такого ответа служит утверждение о том, что тогда так называемое “знание” является, прежде всего, лишь лингвистическим. Это опровержение, в свою очередь, вызывает в ответ заявление о том, что, будь подобные истины просто вербальными, каждому образованному сообществу в истории человечества не надо было бы изобретать свои термины для их выражения. Похоже, что этот спор не относится к числу тех, которые могут завершиться победой. Всякий, обучавшийся арифметике, знает, что нет числа, столь большого, что к нему нельзя добавить единицу. Никто не узнает это посредством опыта, никто реально не проводил такого эксперимента и не установил, что данное предсказание оправдалось. Сказать, что мы знаем это посредством заключения или обобщения, означает наделить этот факт менее чем определенным статусом, приписываемым всем другим заключениям. (Это однажды вызвало колкое замечание Жана Пиаже о том, что, если верить радикальным эмпирикам, то числа из положительного целочисленного ряда обнаруживались по одному!) То, что нет числа, столь большого, что к нему нельзя добавить единицу, не просто вероятно. Это абсолютно и неопровержимо верно. Если это есть заключение, то оно относится не к тому типу заключений, которые порождаются чувственным знанием или опытом. Поскольку этот факт впервые устанавливается не посредством опыта, поскольку опыт не может служить его подтверждением и, наконец, поскольку это есть некоторый факт, — это должен быть факт, не данный в опыте. Следовательно, он известен априорно. То, что не может быть дано в опыте, — в этом суть утверждаемых “врожденных идей”. При таком использовании термина “врожденная идея” не требуется, чтобы дети сознавали этот факт или факты; здесь требуется только, чтобы при достижении ими достаточной степени зрелости они наверняка узнали бы определенные вещи. Такое знание возникнет в результате одного лишь взросления, а не в результате обучения или опыта. Защитники данного тезиса претендуют лишь на то, что существуют определенные внутренние принципы или архетипы мысли, которые ассимилируют опыт и определяют его психологический характер. Это — именно то значение априорности, которое продолжает оживлять психологические исследования и теорию. Это — представление о врожденности, не связываемое с каким-то определенным периодом взросления и тем более — с детством. Нам не нужно допускать наличие у ребёнка способности к сложению, чтобы узнать о том, что ни одно число не может быть столь большим, чтобы не могло существовать еще большего. Все рационалисты, о которых речь пойдёт в этой главе, подписались бы под теорией врожденных идей с таким определением. Рационалисты отличаются от эмпириков ещё и по рекомендуемому ими методу раскрытия законов природы. Как подразумевается в этом термине, рационализм — это приверженность мышлению, рефлексии, дедуктивной строгости, цепочке доводов, звенья которой последовательно соединяются под диктовку разума. Его цель — рациональное и понятное объяснение того, почему вещи являются такими, какие они есть, а не какими-либо иными. Эмпирик традиционно довольствовался раскрытием того, что есть; рационалист же рассматривает то, что должно быть. Доводами эмпирика всегда являются данные опыта; доводы рационалиста — доказательства, необходимо следующие из аксиом и утверждений. Для рационалистической традиции была существенна математика, особенно, геометрия. Не одному ведущему рационалисту теоремы Евклида служили моделью для эпистемологии и даже для реальности. Вспомним пифагорову теорию, согласно которой tetrakys (1,2,3,4) порождает, соответственно, точку, линию, плоскость и тело, так что посредством числа множится сама реальность. Логика — некая разновидность вербальной геометрии — представляла собой рационалистический метод, защищающий сам себя. Если бы к этому добавилась скептическая установка по отношению к чувствам, то она базировалась бы на убежденности в существовании вечных истин: они непреложны и выводятся посредством доказательства, а их свойства или сущности находятся вне пределов досягаемости чувств. Истина, которую невозможно увидеть, должна присутствовать в уме, независимо от опыта. Таким образом, рационалист не отвергает чисто локальные и мимолётные факты восприятия, но требует, чтобы они были включены в рамки логической системы, истинность которой не досягаема для чувств, но доступна для разума. Психология в ее донаучный период в большой степени представляла собой дебаты между рационалистами и эмпириками. Значительный интеллектуальный прогресс в период от Коперника до Ньютона произошел в результате союза этих двух точек зрения. Наука не могла развиваться по пути радикального эмпиризма; не могла она расцвести также и в том случае, если бы ценой отказа от систематического наблюдения и классификации были приняты экстремальные формы рационализма. Аристотель блестяще соединил самые лучшие черты эмпиризма и рационализма, но отнес и то, и другое к более широкой метафизической системе, в которой безраздельно властвовали “конечные причины”. Законы науки описывают природу такой, какой она дана в опыте, а не такой, какой она “должна” быть. Следовательно, в той степени, в которой Аристотель предвосхитил представления о том, какой природа “должна” быть, и в той степени, в которой последующие поколения рационалистов руководствовались этим его предвосхищением, современная эра начинается с отвержения авторитета Аристотеля. Бэкон, будучи эмпириком, уводил развитие британской мысли прочь от Аристотеля и его схоластических последователей. На континенте ведущим представителем новой эры был Рене Декарт. Декарт так же соотносится с континентальной традицией рационализма, как Бэкон — с британским эмпиризмом. Подобно Бэкону, — которого Декарт лишь изредка упоминает в своих работах и чей Новый Органон ему был, вероятно, неизвестен, когда он начинал писать свое собственное Рассуждение, — французский философ видел в необузданном скептицизме своего наиболее сильного противника. В этом смысле, несмотря на существенные различия между картезианским и у бэконовским подходами к науке, оба философа бросили один и тот же интеллектуальный вызов — вызов скептицизму Возрождения и его тенденции порождать суеверные альтернативы. Мы уже упоминали о скептических голосах в английской науке времен Бэкона, и нам не надо много добавлять к предыдущей главе для того, чтобы описать климат Франции начала семнадцатого столетия. Коперник в работе Обращение небесных сфер (De Revolutionibus Orbium) (1543) выдвинул доказательства в пользу движения Земли в противовес схоластическим аргументам, направленных на отрицание этого. Вспомним, что Аристотель был вполне готов признать такую возможность, но в конечном итоге он выступил против неё и принял, хотя и с оговорками, геоцентрическую альтернативу. Однако, в политически напряжённом климате позднего Возрождения различия между Аристотелем и его учениками-схоластами были очень размытыми, так что всякая успешная атака на последних считалась заодно и серьезным опровержением философа. В 1609 г. Иоганн Кеплер опубликовал свои первые два закона о движении планет, в соответствии с которыми орбиты планет следовало рассматривать как эллиптические, а Солнце — как неподвижный центр этого кругового вращения. В тот же год Галилей с помощью телескопа, сделанного его собственными руками, наблюдал луны Юпитера. Астрологии, теологии и большей части герметического корпуса была присуща постоянная приверженность к “сакральной нумерологии”, согласно которой цифра “7” занимала привилегированную позицию; например, семь дней творения, семь дней недели, семь сестер Плеяд и семь небесных светил. Наблюдения Галилея требовали подробного изложения. Обстоятельства того времени, сопровождавшие Реформацию и следовавшие за ней, ожесточили церковь в ее противостоянии против ереси. В Европе последствия были сильнее и кровавее, чем в Англии. Бруно был сожжен как еретик при жизни Декарта (1600), Галилей же был призван инквизицией в 1633 — в год написания Декартом О мире (De Mundo) (где была выражена приверженность теории Коперника), — работы, которая могла бы быть напечатана, если бы автор не забрал ее обратно. Незадолго до рождения Декарта страну опустошили войны между протестантскими гугенотами и французскими католиками. По своей жестокости резня во время Варфоломеевской ночи (1572) превзошла даже мрачные стандарты религиозных преследований. Рамо, прилежный анти-аристотелианец из Парижского университета, был одной из первых жертв Варфоломеевской ночи, и это говорит нам о том, что, по крайней мере, во Франции, линия, разделяющая философскую и римскую католическую ортодоксии, была очень тонка. Вот в такой атмосфере начинался жизненный путь Декарта: рост достижений науки, наследие герметического мистицизма, угрюмый скептицизм и жизнерадостный материализм последователей Монтеня, жесткие карательные меры традиционной власти, поразительный конформизм тупых “аристотелианцев”, которых презирал бы сам Аристотель. Воспитание, полученное в этой атмосфере Декартом, было традиционным и аристократическим. Сначала он обучался у иезуитов и уделял особое внимание математике. От иезуитов он научился уважать учение само по себе, посвящать себя предельным целям христианства и видеть в науке, такой, какой она была известна в его время, лишь иную версию вечной мудрости и могущества Бога. Однако его собственный природный гений привел его также и к сомнению. Великие философские достижения его жизни следует рассматривать как победоносный ответ на его же собственные сомнения. Даже его весомые вклады в науку и математику, его изыскания в области оптики и особенно оптической рефракции, применение им алгебры к геометрии и последующее основание аналитической геометрии, — все это носило характер дополнения и предназначалось для доказательства его более обширной философской системы, его рационализма. Психологические тезисы Декарта следует искать в Рассуждении о методе1, второй и шестой части его Размышлений2 и в Страстях души3. Подведенный им самим итог его всеобъемлющей и сложной системы был опубликован в 1644 под названием Начала философии4. Его дискуссионная и наиболее влиятельная психобиологическая работа Трактат о человеке i была опубликована посмертно в 16645.
“Метод” Декарта, кратко описываемый в Части II его Рассуждения6, реально представляет собой лишь четырех-частный принцип, говорящий о том, как беспристрастный ум должен выполнять свое дело: во-первых, считать истинным только то, истинность чего представляется уму с такой ясностью и живостью, что отводит малейшие элементы сомнения; во-вторых, делить проблему на как можно большее количество различаемых элементов; в-третьих, постепенно восходить от решения самых мельчайших проблем к решению самых больших; наконец, иметь гарантию, что полученное таким образом решение обладает достаточной общностью и не допускает никаких исключений. Успешно объединив посредством своего метода геометрию и алгебру, Декарт убедился в возможности полезного расширения этого метода на все науки. Для поддержки этого более крупного предприятия он принимает несколько “моральных” максим: он будет повиноваться законам своей страны и твердо оставаться преданным вере; он будет относится к принятым им сомнительным мнениям так, как если бы они представляли собой доказанные истины, до тех пор, пока сила разума не потребует их отвергнуть; он примет некоего рода стоическую покорность по отношению к тому, что неподвластно контролю какого бы то ни было индивида, сознавая в то же время, что, по крайней мере, его мышление находится в пределах его власти7. Применяя этот метод эпистемологии, Декарт обнаруживает ограниченность чувств и принимает скептическую позицию, согласно которой все есть иллюзия и самообман. Существует ли тогда хоть что-либо, во что наша вера была бы оправдана? Разве не столь же правдоподобно предположить, что все сооружение видимой жизни это — фикция, измышление, по сути держащее нас в вечном неведении?
Скептик, чьи сомнения заходят так далеко, что он сомневается в собственном существовании, в конечном итоге, попадает в ловушку противоречия: то, что сомневается, должно существовать; тот, кто думает, также должен существовать. Даже если тело есть иллюзия, даже если все наши действия и опыт не реальны, идеи ума должны существовать, иначе само сомнение невозможно. Следовательно, именно разум, а не материя, придает существованию несомненность. Идеальное существование треугольника дано рационально даже в том случае, если нельзя найти ни одного треугольника, и даже в том случае, если идеальный треугольник никогда нельзя будет построить материально. То, что человеческий ум может обладать столь совершенными понятиями в несовершенном материальном мире, логически влечет за собой наличие нематериального автора совершенства и это, конечно, есть Бог. Именно в двух заключительных частях (V и VI) Рассуждения Декарт описывает те многочисленные открытия в биологии и физических науках, которые он произвел посредством своего метода. Он обсуждает циркуляцию крови, ссылаясь — для тех, кому требуется экспериментальное подтверждение того, что может продемонстрировать разум, — на блестящее исследование, проведенное одним из английских врачей (Уильямом Гарвеем)9. Он ссылается также на свои собственные неопубликованные трактаты, которые он решил не печатать в течение жизни из-за содержащихся в них дискуссионных моментов. Сюда входят его работы в поддержку системы Коперника и, возможно, его Трактат о человеке. Кроме этого, он советует будущим исследователям исходить из разума и непосредственно находящихся под рукой фактов, а затем уже погружаться в более тщательные эксперименты, так как последние становятся необходимыми только после того, как знание уже достаточно оформилось. В этой рекомендации Декарта отражена существенная особенность гипотетико-дедуктивного метода10. Диспуты между греческими атомистами и идеалистами отражали их явное несогласие по вопросу о статусе реалий ума, которые противопоставлялись реалиям чисто материальным. Но Декарт первый придал психофизической проблеме форму, которая привлекла к ней внимание как ученых, так и философов. Возможно, правильнее будет даже сказать, что различия между современным материализмом и античным атомизмом — а эти различия очень велики — возникли в результате декартовского анализа психофизической проблемы и того решения, которое он для нее предложил. Психологический материализм, превратившийся в девятнадцатом столетии в физиологическую психологию, основан на явном отрицании как метода анализа Декарта, так и его решения. Но и то, и другое, как оказалось, обладают большим запасом прочности. Полезно начать с решения, предложенного Декартом: разум и материя качественно различны, не зависят друг от друга, и разум ни в каком отношении не может быть понятным образом сведен к материи. Декарт, следовательно, является дуалистом. Однако он приходит к дуализму через тот самый скептицизм, к которому обязывает его собственный метод. Во втором Размышлении он повторяет свое cogito ergo sum и рассуждает далее, задаваясь вопросом о том, какого вида предметом он является. Он быстро отклоняет данное Аристотелем определение человека как рационального животного, поскольку это определение не сообщает нам, что такое “рациональное” и что такое “животное”. Затем он описывает разные свойства, которыми, как он верит, он обладает: тело, руки, ноги, голод, жажда и так далее, а также ряд действий, которые он совершает, например, ходит, слушает, спит. Все это, однако, может быть иллюзорным. То есть единственное необходимое свойство, становящееся необходимым благодаря cogito, — это мышление. Поэтому он должен быть думающим предметом:
Материя протяженна и, следовательно, располагается в некотором месте. Разум не обладает протяженностью. То, что интеллект души воздействует на тело, показывает, что он находится в некотором тесном контакте с телом. Это заключение, сделанное в шестом Размышлении, составляет полностью предмет обсуждения Страстей души. Прежде чем обратиться к этой работе, надо отметить особо тонкий момент, затронутый в шестом Размышлении; он имеет отношение к той части картезианской философии, в которой декларируется существование врожденных идей. Декарт принимает эмпирическое (аристотелево) утверждение о том, что мы обладаем пассивной способностью восприятия, через которое внешний мир воздействует на чувства. Он сомневается лишь в том, что наше знание о чувственных предметах создается таким образом.
Истины теоретической геометрии, как мы можем предположить, являются истинными высказываниями о реальных фигурах, но эти истины не могут запечатлеваться посредством пассивной способности восприятия. Лишь разум может анализировать геометрические фигуры таким образом, чтобы распознать общие истины. В Началах философии Декарт уподобляется Платону еще более явным образом, анализируя, почему некоторые терпят неудачу в познании таких общих истин, и объясняя это тем, что эти истины принимаются через посредство телесных ощущений13. Основная психологическая проблема для Декарта — она с той поры досаждала дуалистам — это проблема объяснения того, как нематериальный непротяженный фактор (душа) может воздействовать на протяженную материальную субстанцию (тело). Как может идея двигать мышцы, если идея не имеет никакой массы? Кажущаяся невозможность этого привела некоторых к принятию либо материалистического монизма, настаивающего на том, что все, в конечном итоге, сводится к материи; либо менталистического монизма, настаивающего на том, что, в конечном итоге, все сводится к душе; либо нейтрального монизма, не принимающего в данном вопросе никакую сторону и лишь настаивающего на том, что, в конечном счете, все сводится или к одному, или другому, или к третьей, в настоящее время неизвестной альтернативе. Декарт не разрешает эту дилемму в Страстях души, но занимает позицию, которая по истине легла в основу дуалистической традиции. Он рассуждал так. Для тела он зарезервировал все то, что можно представить себе как принадлежащее телу: чувствительность, движение, протяженность, рост, старение. Разуму же он приписывает то, что непостижимо в телах: мысль. Он разделяет мысли на те, которые побуждают к волевым действиям, и те, которые ответственны за чувства14. Большая часть наших восприятий — это результаты воздействия внешних объектов на чувствующие нервы, и многие наши чувства, такие, как тепло, холод, боль и голод можно также соотнести с похожими нервными механизмами15. Однако наши эмоциональные переживания, которые могут возникать без какого-либо внешнего стимула, и наши размышления об этих чувствованиях не могут существовать единственно в телах и поэтому не могут быть отнесены просто к нашим собственным телам. Они находятся в области души, которая, хотя сама и не является телом, соединена как некоторая первопричина с каждой частью тела16. Когда тело умирает, душа удаляется. Но пока тело живёт, воля души воздействует на тело своей способностью управлять потоком животных духов, движущихся от мозга ко всем нервам, ассоциированным с переживаниями, действиями и ощущениями. Наилучшее из предположений Декарта — о том, что местоположением этого контроля является шишковидная железа, которая, в отличие от других структур мозга, не дублируется на каждой стороне и удобно размещена в центре мозга17. Индивидуумы различаются отчасти из-за того, что различается их мозг18, но во всех случаях страсти обусловлены потоком животных духов, содержащихся в желудочках мозга19. Способность души направлять эти духи становится возможной единственно в силу ее желания так поступать. Благодаря Богу ее воля свободна20. Декарт приводит показательный пример:
В этом отрывке Декарт вводит понятие рефлекса, которое овладеет учёными умами восемнадцатого столетия во всей Европе. Его собственное нежелание включить душу в это чисто материалистическое объяснение ощущения и поведения не сохранится у многих из его выдающихся последователей в более либеральный период. Тем не менее, именно Декарт впервые попытался возвести биологию на том же математическом основании, которое Кеплер построил для астрономии. Именно Декарт настаивал на включении поведения всех животных и большей части человеческого поведения в контекст естественной науки. Более того, именно Декарт советовал нам отказаться от поиска конечных причин Аристотеля22, развивать разум вместо слепой веры, веровать в то, что для нас несомненно: в наши собственные мысли. Его прямой вклад в психологию был впечатляющим. Материалистическая сторона его дуализма является краеугольным камнем современной нейропсихологии. Его влиятельные работы относительно рефлекторных связей между ощущением и действием положили начало тому направлению работ, которое кульминировало в исследованиях и теории Ивана Павлова. Его Метод, вариант которого разделялся Галилеем, спас науку от тщетного ритуала собирания фактов, которого требовал Новый Органон Бэкона. Представляя мысли и определенные виды чувств как отличительные свойства человеческих существ, он подготовил путь для развития экспериментальной психологии сознания, официально учрежденной Вундтом в девятнадцатом столетии. Косвенное влияние Декарта на психологию чувствуется по тому воздействию, которое его работы оказали на более поздних критиков эмпирической традиции. Именно позиция Декарта по вопросу о врожденных идеях отмечает точку расхождения между (британской) эмпирической и (континентальной) рационалистической школами. Но даже Локк при обсуждении интуиции, воображения, аксиоматической природы нравственных предписаний и реальности идей, даже Локк — эмпирик в своей борьбе со скептиками — заимствует из рационализма больше, чем отвергает. В области спекулятивной науки и психологии Декарт находится, причем уже долго, на переднем фронте. Он не был анти-эмпириком; он был всего лишь не только эмпириком. Он не был материалистом; он был просто не только материалистом. Поэтому намного проще подвергнуть сомнению то или иное из его утверждений, чем избежать его присутствия даже сейчас, через три столетия после его смерти. Как мы увидим в следующей главе, воздействие на мышление, которое оказало учение Декарта в целом, приняло форму тщательно проработанного “картезианства”, против которого столь неустанно боролись философы восемнадцатого столетия. Внешне война против картезианства обычно сосредоточивалась на его физике, которая после осознания достижений Ньютона была оценена как ошибочная, если не нелепая. Сравнивая Ньютона и Декарта, философы утверждали, что основное различие состояло в методе. Они полагали, что Ньютон преуспел, поскольку он опирался на свидетельство непосредственного опыта. Декарт потерпел неудачу, так как он доверительно отнесся к утончённому рационализму “схоластов”. Более того, высказывание Ньютона “Hypotheses no fingo” (“Я не строю никаких гипотез”) затруднило обнаружение комментаторами восемнадцатого столетия фундаментального расхождения Ньютона и Бэкона по вопросу философии науки. Локк, Рид, Юм и большая часть французских эмпириков, обсуждая подлинный метод философствования, явным образом соединяли Ньютона и Бэкона. С этой позиции наука и философия одинаковы: они ищут истину, ограничивая себя наблюдением и экспериментом и противостоя соблазну рационализировать природу. Однако, как мы знаем, Ньютон построил большое число гипотез, а Декарт произвел большое число наблюдений, включая экспериментальные наблюдения. Ядро анти-картезианства восемнадцатого столетия составляло не столько отрицание методов Декарта, сколько возражение против ряда его выводов. Что, в конечном счете, вытекает из заявлений типа “устройство мозга у людей неодинаково”, если не прямой вызов в адрес заявления типа “все люди созданы равными”? Разве не то же самое рассуждение ведет к представлению о “божественных правах” королей и оправданию классов и каст? Если, как полагает психология Декарта, человеческая душа неразрушима и нематериальна и если отличительное свойство человеческого ума базируется на чем-то трансцендентном опыту, то на каком основании можно подвергнуть сомнению историческую власть Церкви и Короны? Заметим, что “картезианство” казалось реформаторам восемнадцатого столетия чем-то гораздо более непреодолимым, чем какие-либо теории физики, методы рассуждения или системы метафизики. Это определенно была теория человеческой психологии и, в качестве таковой, — теория управления обществом. Интеллектуальные столкновения восемнадцатого столетия, хотя они и разыгрывались как схватка между “последователями Ньютона” и “картезианцами”, происходили между вигами и тори. Декарт и животные Люди, выражавшие принципиальную озабоченность по поводу того, как ученые обращались — а обращались плохо — с животными, склонны возлагать большую часть ответственности за это на психологические работы Декарта, в которых человекоподобные животные описаны как “автоматы” или как некоторого рода машины. Такую позицию действительно можно найти в работах Декарта, хотя ясно также и то, что он наделял нечеловекоподобных животных полным набором перцептивных и (даже) мотивационных и эмоциональных процессов. Допустив, что они лишены какой бы то ни было рациональности, он был вынужден заключить, что они не способны рациональным образом интерпретировать стимул и поэтому в значимых аспектах не являются сознательными. Само собой разумеется, что здесь также авторитет мышления — когда он бьёт козырем непосредственные свидетельства повседневной жизни — встречает постоянное противодействие. Войны Испании с Англией и поражение Испанской Армады в 1588 году не только ослабили влияние Римской церкви на территории Европы, но также сделали трудным для Испании по-прежнему навязывать ортодоксию внутри своей страны. Многие евреи, которых испанская инквизиция вынудила принять католицизм, теперь начали либо открыто протестовать, либо стремиться прочь из Испании в государства, готовые принять граждан, не являющихся католиками. Особенно терпимой была Голландия, и именно туда переехала семья Спинозы к концу шестнадцатого столетия. Спиноза, таким образом, был воспитан как еврей в христианском городе Амстердам в то время, когда в интеллектуальных кругах последним криком моды была “новая философия” (то есть Декарт). То, что Спиноза заимствовал из этой новой философии, было достаточно неортодоксальным, чтобы обусловить его отлучение от еврейского сообщества. Во время своего обучения дома и в синагоге он усвоил достаточно для того, чтобы его исключили из круга важных христиан. Придав же интуиции конечный статус, еще более высокий, чем статус, предоставляемый разуму, Спиноза не смог удержать место среди интеллектуалов Просвещения. Он был чем-то вроде Maймонида среди ученых, “естествоиспытателем” — среди мистиков, ситуационистом — среди абсолютистов, абсолютистом — среди скептиков. Спиноза прожил очень трудную жизнь. Пожалуй, лучше всего подойти к психологическим взглядам Спинозы, начав с одной из Мыслей Блеза Паскаля:
В системе философии Декарта отдельные и независимые категории Бога, материи и разума рассматривались как само собой разумеющиеся. Хотя в рационалистической психологии Декарта возможность существования двух последних без первой и не предполагалась, было очевидно, что сразу после Божественного щелчка пальцем стало возможным изучать природное равновесие и события природы рациональным образом. Мы уже говорили о нетерпимости Декарта по отношению к поиску конечных причин и проистекающем из этого его интересе к действующим и материальным причинам. Эти установки трансформируются в одну из разновидностей картезианства — ту разновидность, которая позволяет объяснить мир наличием небесного автора, но ограничивает научное и философское исследования методами и событиями, так сказать, с учётом теологической постоянной. Космология, в данном случае, предполагает, что Бог совершил созидательный акт, дарующий всему существование, после чего предоставил всему идти своим путем, согласно неизменным законам науки. Если божественное вмешательство когда-либо снова случиться, то его результатом должна явиться приостановка действия этих самых законов, а это — результат ничем не меньший, чем чудо. Деисты восемнадцатого столетия примут такую точку зрения более откровенно, в семнадцатом же столетии так поступать было в высшей степени рисковано. В отличие от Паскаля, Спиноза не пользовался влиянием во время своей жизни, хотя Лейбниц, вопреки его политически мотивированным заверениям в обратном, назодился под впечатлением от ряда аргументов, содержащихся в Этике Спинозы. В девятнадцатом столетии интерес к Спинозе обострился, главным образом среди романтиков, часто обнаруживавших в детерминистской философии Спинозы многое такое, что признавалось ими негодным. Лессинг, Шеллинг и Фихте — все они находили удобный случай для обсуждения Спинозы. Здесь мы, однако, остановимся на кратком обзоре психологической концепции Спинозы, потому что в ней явно представлено то ощутимое противостояние разума и страсти, свободы воли и детерминизма, которое является весомой составляющей в современной психологической мысли. В ней отражено также понимание того, что наука должна либо полностью включить Бога в свои обсуждения, либо так же полностью исключить его. Спиноза, таким образом, значителен тем, что он ясно увидел, насколько новой была новая философия. Подобно Декарту, Лейбницу и Паскалю, Спиноза был сведущ и активен в науке. Он занимался изготовлением линз и превосходно разбирался в тех принципах оптики, которые являлись определенно геометрическими. Как Декарт и Лейбниц, он был убежден в том, что в мире видимых изменений есть некая истина. В отличие от Декарта, он не мог найти в логике или опыте никакого основания для допущения того, что душу, материю и Бога следует отнести к отдельным категориям. Из того, что Бог есть творец всего, следовало, что Его присутствие должно быть во всем, так как “вещи, не имеющие между собой ничего общего, не могут быть причиной одна другой”24. Следовательно, если Бог есть причина всех вещей, то нет вообще никакого смысла говорить о человеческой свободе. Уже самого нашего знания о добре и зле достаточно для того, чтобы доказать, что мы не были рождены свободными, поскольку, будь это так, такого ограничивающего знания не существовало бы25. Следовательно, наша “свобода” — другого вида. Поскольку Бог есть “мыслящая сущность”, то либо мы будем разделять его мысли, либо наши мысли будут несовершенными. Если они несовершенны, то наши действия будут скорее подчинены страсти (passion), чем эмоции (emotion). Разница между этими двумя понятиями существенна. Для Спинозы страсть — это чувство по отношению к тому, о чем мы не имеем никакой ясной идеи, тогда как эмоция — это чувство, оформленное (shaped) отчетливой идеей. Так называемый “слепой гнев” является проявлением страсти, тогда как любовь к нашим собратьям есть эмоция. Это — довольно интересное различие, ядро которого можно найти в отрывках работ Аристотеля по этике и более полно — в эллинистическом стоицизме. Реагировать со страстью означает реагировать несдержанно, то есть не будучи скованным знанием и принципами, вносящими пропорцию и равновесие в наше поведение. Одним из оснований, помешавших Аристотелю приписать добродетельность животным, отличным от человека, послужило предположение, что они лишены способности к размышлению. Предполагалось, что выбор, совершаемый таким животным, базируется не на размышлении, а на своего рода страсти, поэтому это действие не включало никакого контролирующего принципа и, следовательно, в нем не было и ничего от добродетели. Таким образом, для того, чтобы действовать добродетельным образом, требуется размышление; здесь необходимо также обязательство и решимость. Таким образом, у Аристотеля тоже допускается аффективная составляющая, к которой мы должны быть подходящим образом предрасположены. Например, мы должны быть предрасположены к тому, чтобы испытывать гнев из-за несправедливости, а не из-за справедливости. Философы-стоики, особенно в ранний христианский период, были более радикальны в своих теориях эмоций. Они рассматривали их как нечто вроде болезни или недомогания. Тот, кто действует, побуждаемый не разумом, а страстью, явно страдает беспорядочностью ума; беспорядочностью в буквальном смысле, состоящей в том, что правильный порядок вещей — правила разума — нарушен. Этим тезисом Спиноза обязан более старым традициям в философии. Если у нас есть ясная идея о чем бы то ни было, находящемся перед нами, то наши действия по отношению к этому или в ответ на это будут результатами не принуждения, а обязательства. Наши действия будут приведены в движение не страстью, а решение будет произведено эмоциями, находящимися под контролем души. Но что значит иметь ясную идею? Ясная идея есть ни что иное, как рациональное осознавание того, что определенный факт является тем, что он есть, согласно необходимости. “Чем больше душа”, — говорит Спиноза, — “познает вещи как необходимые, тем большую она обретает власть над эмоциями и тем менее она подвержена им”26. Следовательно, если декартова концепция тела и души (mind) требовала, чтобы каждое из них некоторым неопределенным образом было связано с другим, то Спиноза решительно разделяет психологическое и душевное: обучение, восприятие, память и эмоции требуют тела и кончаются вместе со смертью тела27. Последующая жизнь имеется только в том смысле, что Бог, как думающее До этого момента тезис Спинозы похож на тезис св. Августина и даже обладает свойствами, общими с концепцией Беркли. Но когда Спиноза обращается к вопросам, которые имеют непосредственно психологические следствия, его философия становится радикальной. Рационализм превращается в своего рода эмоционализм. То, что мы называем “добром” и “злом”, говорит он, суть “не что иное, как эмоция удовольствия или неудовольствия”30. Но удовольствие и страдание суть, соответственно, сознавание душой своих сил и слабостей31. Душа стремится длиться вечно, и душа знает, что это возможно только посредством ясных идей. Страсть, как пассивное состояние, восприятие как быстротечное событие и простое воображение как хранилище чисто случайных событий не позволят душе длиться. Душа, обладая всем этим, сознает свою слабость, боится своей мимолетности и поэтому мучается. Разум, однако, и, что более важно, интуиция дают душе ясную идею необходимости, обладание которой есть удовольствие. Возникающая таким образом эмоция наиболее интенсивна, так как “эмоция к вещи, которую мы воображаем необходимой, при прочих равных условиях, сильнее, чем к вещи возможной или случайной, другими словами, — к вещи не необходимой32.” Поскольку на эмоцию может повлиять только другая эмоция (Часть IV, Теорема 7), мы начинаем верить в то, что адекватная идея, к которой мы пришли рациональным путем, составляет ту единственную основу, на которой эмоции могли бы соединяться с правильными объектами мысли. Психология Спинозы откровенно детерминистская :
Конечной или первой причиной является Бог. Душа активна, в той степени, в какой она сосредоточена на “адекватных идеях”, являющихся идеями о необходимости; в противном случае она пассивна. Когда душа активна, она упорно старается продлить свое существование, иначе говоря, стремится к удовольствию. Поскольку это удовольствие есть обладание адекватными идеями и поскольку тело не является такой необходимой сущностью и, наконец, поскольку вещи, не имеющие между собой ничего общего, не могут быть причиной друг друга, “тело не может определять душу к мышлению”34. Однако, природе человека свойственно включать идею нашего телесного существования во все наши идеи и, следовательно, душе угрожает то же, что угрожает выживанию тела. Мы интуитивно стараемся сохранить свою телесную активность из-за этой ощущаемой связи между выживанием тела и выживанием души. Поскольку мы верим, что угроза для тела влечет за собой угрозу для активности души, мы боремся за подавление идей повреждения и кончины тела35. Психологические категории Спинозы — страсть, эмоция, разум и интуиция. Все они являются детерминированными, и в этом отношении волю не следует представлять как свободную. То, что делает нас уникальными — когда мы таковыми являемся, — это присутствие ясных и адекватных идей о необходимых причинах вещей, а эти идеи неизбежно и неуклонно ведут обратно к Богу. Все остальное состоит из пассивных состояний души, которые, в предельном случае, были бы вечной смертью. Мы устроены так, что посвящаем свои жизни вечному сохранению активности души. Этот мотив проявляется на поверхностном уровне в форме эгоистического поиска удовольствия и отвращения к страданию. Непросвещенных в этих отношениях побуждает скорее мнение, чем размышление; исходя из мнения и законов ассоциации они приходят к отождествлению смерти с предельным страданием. Бог милостиво наделил нас высшим чувством, интуитивным сознанием, представляющим собой деятельную и бесстрастную душу. Но даже тогда, когда эта душа постигает неотъемлемую сущность добра, истина этого знания не может обуздать эмоции, это может сделать только другая, противоположная эмоция, произведенная таким знанием36. В этом аспекте своей теории Спиноза пребывает в согласии с британскими сентименталистами, с Юмом и Кантом: само по себе мышление (reason) не порождает моральное поведение, за исключением тех случаев, когда тренировка ума приводит к соответствующему чувству или коррелирует с ним. Наша воля — не свободная, а необходимая причина наших действий37. Действие следует за определенным требованием воли согласно необходимости. Беря начало от Бога, адекватная идея, являющаяся идеей, относящейся к Нему, возникает согласно необходимости. Об этом следует сказать еще. Спинозе нужно было найти средства, инициирующие деятельность. Мысленные основания для действия не служат его непосредственной причиной, так как можно иметь основания что-то сделать и все-таки этого не сделать. Но основание к действию может вызвать определенное желание воли, и именно это желание побуждает к действию. Таким образом, если есть воля, то будет и действие. Однако воля не свободна, поскольку она необходимо связана с предыдущими событиями. Не свободно и результирующее действие, поскольку оно побуждаемо волей. Если действие нравственно, то оно должно прослеживаться до адекватной идеи, которая есть необходимое следствие Бога. В неоконченном Трактате об усовершенствовании разума Спиноза приукрасил свою теорию и сформулировал несколько необыкновенно современных представлений об обучении и памяти; например, что память улучшается или ухудшается в зависимости от контекстных свойств запоминаемого материала; что память ухудшается, если нужно запоминать материал, сходный с предыдущим; что память представляет собой мозговой процесс; что для всякой идеи обязательно существует ее коррелят в реальном мире38. Здесь же он проводит традиционную для рационалистов границу между простыми ощущениями или восприятиями и активной ассимиляцией опыта посредством интеллекта. Среди разных форм знания лишь мнение подчинено простому опыту. Самая высшая форма — это та, посредством которой узнается сущность вещи. Например, нам известна сущность окружности, если мы знаем, что это есть линия, получающаяся тогда, когда один конец стержня фиксирован. Знать сущность вещи означает знать, что должно следовать из факта ее существования. Знать вечную истину означает знать, что, если она действительно истинна, то ее отрицание не может быть истинным. Следовательно, теорема Пифагора — вечная истина, потому что не может существовать прямоугольного треугольника, в котором квадрат гипотенузы не равен сумме квадратов катетов. Знание таких истин и, конечно, знание даже простейших фактов есть одновременно и утверждение, и отрицание. Иначе говоря, каждое определение влечет отрицание. Если мы определили Смита как старого человека, мы тем самым отрицаем, что он молод, что он — женщина, что он — алюминий. Утверждать — значит устанавливать предел. Определять — значит ограничивать. Следовательно, бесконечное — это либо неопределенное (что Спиноза отрицает), либо само-определенное. Знать вечную истину, следовательно, означает знать смысл, в котором она является само-определенной и само-обусловливающей. Это означает знать Бога. “Бог” Спинозы, однако, — это не Яхве из Старого Завета, и не очеловеченная конечная причина христианских последователей Аристотеля. Скорее, — это бог логиков, нечто вроде дедукции, извлеченной из теологии. Предположение об атеистической позиции Спинозы все еще привлекает внимание ученых, хотя едва ли можно усомниться в том, что для него необходимость космических перепетий — это нечто большее, чем необходимость формальной аргументации. Спиноза говорил не со своим веком, даже если он, пусть своеобразно, говорил для него. То, что он прибег к помощи ассоцианистских принципов обучения и запоминания, едва ли было оригинальным, а его эгоистическая теория мотивации, хотя она и вызывала у иных ярость, носилась в воздухе и до него — со времен Гоббса и Монтеня. Борясь за единственную в своем роде форму монизма, он предложил некую разновидность пантеизма. Бог, будучи мыслящим существом, таким образом воодушевляет определенные субстанции, что они также становятся мыслящими. Такой пантеизм следовало оценить либо как ересь, либо как помешательство, и современники Спинозы были готовы предложить оба мнения. Ведущие философы станут всерьез рассматривать его философию лишь в девятнадцатом столетии, и Гегель, относясь к ней всерьез, будет отрицать значительную ее часть, остальное же заставит соответствовать своей собственной системе. Спинозе же мы обязаны тем, что он отстаивал различие между философией и теологией: первой следует интересоваться истиной, куда бы та ни вела, вторая же должна требовать почтения и некоторой степени учтивости. Далее, философия — это поиск истин, имеющих отношение к природе, Бог же проявляется в природе через законы, которые являются (вследствие этого) необходимыми. Мы, как мыслящие существа, побуждаемые к тому, чтобы доставлять удовольствие своей душе, ограничены природой, которая вынуждает нас стремиться к нашей сущности и страдать в результате ее отрицания. Цель человеческой психологии, следовательно, — самореализация. В этом Спиноза служит моделью для ряда гуманистических психологий двадцатого столетия. Спиноза не был учеником Декарта (открыто расходился с ним, например, по вопросам о свободе воли, о дуализме и о составных частях природы), но он так же, как и Декарт, осознавал, что греческая мудрость недостаточна, что христианство должно быть более, чем аристотелианизмом, что рациональное создание, освобожденное от всяческих суеверий и беспристрастное по отношению к природе, сможет узнать истину. Его рационализм — это натурализм, не превращенный в материализм. Спиноза не подвергал сомнению материю, как делал Беркли, не подвергал он сомнению и душу, как делали радикальные материалисты. Он начал с Бога и с этой отправной точки начал изучение мыслящей материи. Неявным образом он защищал материализм как занимающийся материей, ибо лишь материализм занимается тем, что представляет собой только материю; точно так же, как лишь идеализм обращается к мыслящему предмету, когда мы хотим разобраться в мышлении. Используя такую сложную метафизику, Спиноза смог избежать затруднений, подстерегающих обычные разновидности дуализма и материализма. До Спинозы философы, вообще говоря, ратовали в пользу одного из двух — души или материи, либо души материи. Спиноза, однако, сумел вывести из своих основных аксиом заключение о том, что душа и материя — одна и та же субстанция, видимая с разных точек зрения, тем самым он ввел достаточно тонкую разновидность “двух-аспектной” или даже “много-аспектной” теории в качестве решения психофизической проблемы. Принимая наиболее обычную точку зрения — скажем, реализм, — мы готовы утверждать, что каждая существующая вещь вызывает в нас свою идею посредством ощущений, образов, воспоминаний и тому подобного. С другой точки зрения — назовем ее идеализмом, так как нами сознаются только ощущения и идеи, — мы должны считать эти ощущения и тому подобное единственными составляющими реальности. С еще одной точки зрения — назовем ее материализмом, так как допускается только знание о вещах и так как эти вещи могут войти в реальность мысли только путем своего материального воздействия на материальные органы, — реальность состоит только из материи. Спиноза считает эти утверждения продуктами привычных способов обсуждения истин, а не самими истинами. Вместо них он предлагает монистическую теорию, согласно которой идеи и объекты — это субстанции одного и того же вида. Для каждого объекта имеется соответствующая идея; для каждой идеи имеется соответствующий объект. Обладать идеей означает, по существу, обладать идеей о чем-то. Но обладать идеей о том, что представляет собой, в конечном итоге, атрибуты вещи (то есть идеей, не поднимающаяся выше уровня простого восприятия), означает обладать лишь неполной или неясной идеей. Для того, чтобы знать объект, нам необходимо знание его сущности. А это есть то, что остается от вещи после отбрасывания ее атрибутов, — то, что позволяет ей быть тем, что она есть, вечно и неизменно. Заметим, что такая идея необходимо является непреходящей идеей, поскольку для каждого объекта имеется соответствующая ему идея. Именно в таком смысле душа, стремящаяся длиться, должна стремится к адекватной и ясной идее. Вечные субстанции Спинозы относятся к одному типу, хотя они и проявляют как ментальный, так и физический “аспекты”. Они — таковы не из-за какой-либо фундаментальной дуалистичности Вселенной, а из-за того, что мы не мыслим о них ясно. По той же причине мы говорим о Боге и о природе так, как будто бы имеются две отдельные сущности, не замечая явного противоречия. Приписывать Богу свойства совершенства, всемогущества и всеведения, а затем утверждать, что такое существо в определенное время сотворило мир, — бессмыслица. Так как для того, чтобы Бог создал Вселенную, было бы необходимо, чтобы у Бога чего-то недоставало и он попытался бы исправить это посредством акта творения. Но если бы это было правдой, то Бог не был бы совершенным и всеобъемлющим существом евреев или христиан. Поэтому для того, чтобы сделать теологию последовательной, Спиноза счел логически необходимым признать всю субстанцию — все субстанциональные элементы вещей/мыслей — вечно пребывающими в субстанциональном единстве. Если рассуждать так, то можно не видеть никакой существенной разницы между Богом и природой, душой и материей, наукой и философией. Гете и Кольридж, как лидеры движения романтизма девятнадцатого столетия, оба осознавали себя должниками Спинозы и оба дали импульс развитию той “религии природы”, которая составляет сущность романтизма. Иные обнаружат в работах Спинозы новое оправдание для религии старых времен; иные — для новомодного агностицизма. Подобно Платону и Аристотелю, у Спинозы есть какие-то слова для каждого, но не всегда в этих словах содержится то, что полагает получатель! Готфрид Вильгельм фон Лейбниц (1646–1716) Лейбницу было всего четыре года, когда умер Декарт. В окружавшем его интеллектуальном климате доминировали Декарт и “картезианцы”, и климат этот быстро становился однородным в своем почтении к Декарту, так же, как некогда уже случилось с образованным миром — тогда в отношении к Аристотелю. Отец Лейбница был лейпцигским профессором, а поскольку и отец, и мать умерли до того как он закончил свое обучение в университете, можно сказать, что Лейбница благословила ранняя стимулирующая обстановка. Он находился под воздействием не только греческой и латинской классики, но и современных работ Бэкона, Декарта и Галилея. Приезды в Лондон (краткие) и в Париж (на четыре года) еще более предрасположили его к восприятию наиболее значительных идей того времени. Он встретился с Мальбраншем, великим картезианцем; он изучал трактаты Паскаля по математике и изобрел вычислительную машину, даже лучшую, чем Паскаль; благодаря Гюйгенсу пробудился его интерес к оптике; работы Гоббса усилили его постоянный интерес к праву, а недавнее завершение тридцатилетней войны вызвало страстное стремление к миру и терпимости. Продолжая наше введение, мы должны также отметить открытие им дифференциального исчисления независимо от Ньютона и его резкие претензии на приоритет, доносившиеся через Ла Манш в течение доброй половины десятилетия. Людовик XIV, Король-Солнце, стал королем Франции за три года до рождения Лейбница, и умер на год раньше, чем Лейбниц. Следовательно, в дополнение к своему собственному гению, удачному начальному старту и стимулирующим интеллектуальным талантам того времени, Лейбниц прожил свою жизнь в десятилетия современной истории, для которых были характерны развитое самосознание и максимальная ориентация на достижения. Мы могли бы подчеркнуть это, перечислив некоторых авторов, работы которых были опубликованы в течение правления Людовика XIV, а также тех, кто был жив в это время: Гоббс, Декарт, Ньютон, Паскаль, Спиноза, Гассенди, Лейбниц, Мальбранш, Гюйгенс и Мольер. Галилей умер всего лишь за один год до того, как Людовик XIV овладел троном. Когда этот король умер, Вольтеру было уже девятнадцать, со времени же Трактата Юма прошло всего лишь двадцать лет. Лейбниц не был в согласии ни с кем из своих современников или непосредственных предшественников, перечисленных в этом списке. Роль его в истории идей несомненна, его влияние — обширное и периодически возобновляющееся. Его конкретный вклад в психологию, хотя и не столь уж большой, был заметен и яснее всего представлен в его расхождениях с Локком и Декартом. Отвергая эмпирическую психологию Локка, он вновь утверждал когнитивный, в высшей степени ментальный и генетический характер человеческого познания и чувствования. Кроме того, в противовес дуализму Декарта, он переформулировал психофизическую проблему так, что сделал ее более интересной для современной эпохи. Мы начнем с его анти-эмпирических доводов. Работа Локка Опыт о человеческом разумении, опубликованная в 1760, привлекла к себе внимание Лейбница в 1688. Он сразу же начал набрасывать опровержение, однако, это опровержение — Новые опыты о человеческом разуме39 — появилось только в 1765. Это объяснялось тем, что Локк умер в год завершения Лейбницем этой работы (1704), и Лейбниц не хотел дискутировать с его призраком. Соответственно, одним из многих вкладов Лейбница, ставших общедоступными только после смерти автора, оказались именно Новые опыты. Как и остальные его работы, Новое опыты продолжают влиять на мыслящий умы. Локк начал Книгу II своего Опыта с основной декларации всех эмпириков до и после него.
Ответ Лейбница — ответ, предлагаемый всеми рационалистами до и после него, — таков: только о некоторой вещи можно сказать, что у нее имеется опыт, и такой вещью должен быть разум, каким-то образом подготовленный к тому, чтобы иметь опыт такого рода. Он отождествляет (ошибочно) позицию Локка с позицией Аристотеля и, подобно Дунсу Скоту, приписывает Аристотелю утверждение, которое мы тщетно искали в какой-либо из работ Аристотеля: “нет ничего в душе, чего не было бы раньше в чувствах”. На это Лейбниц отвечает “...за исключением самого интеллекта”41. Он продолжает введение к своим Новым опытам диалогом между Филалетом (“друг сна”) и Теофилом (“друг Бога”)42, которые являются, соответственно, эмпириком и рационалистом. Вложив в уста Филалета строки из Опыта Локка (процитированные выше), он заставляет Теофила изложить лейбницевскую позицию по проблеме познания и решение им этой проблемы:
Опыт, по мнению Лейбница, необходим для того, чтобы наша душа заметила идеи, находящиеся внутри нас. Опыт предоставляет контекст для наших мыслей, направление для наших идей, средства для ориентации нашего внимания, предрасполагая нас вести себя определенным образом. Опыт не может произвести идею по той простой причине, что опыт предполагает физическое взаимодействие материи и органов чувств, идея же не имеет ничего общего с такими механическими взаимодействиями. Однако, восприятие, не являющееся всего лишь опытом и предполагающее рациональный внимательный ум, может привести к идеям, но восприятие не является механическим и не может быть сведено к механическому44. На том же основании следует отклонить дуализм Декарта. Яснее всего Лейбниц выразил это в своей Монадологии, написанной им за два года до смерти и сосредоточившей в себе всю его метафизику:
Восприятие — это исключительно психологическое событие. Это — то, что мы осознаем. Его качество таково, что его нельзя имитировать посредством никакого чисто количественного (то есть материального) явления. Когда мы идем через большую мельницу ума, наблюдая крутящиеся колеса, с грохотом ударяющиеся молотки, мы не находим ничего такого, посредством чего мельница могла бы иметь восприятие; дело не в том, что мельница не обладает таким восприятием или не осознает себя, а в том, что ничто в ее движущихся частях не может содержать столь многого. Мы вернемся к мельнице Лейбница в последней главе. Таким образом, проблема взаимодействия души и тела, выдвинутая Декартом, кажется Лейбницу одновременно и запутанной, и бессмысленной. Разум, по мнению Лейбница, есть простая субстанция, монада, не сводимая ни к чему, свойства которой не являются производными от чего-либо, находящегося вне нее, и которая не обладает протяженностью. Подобно всякой простой субстанции, ее следует понимать как качество, а не количество. В терминах Лейбница она по сути, скорее, интенсивна, чем экстенсивна. Иллюстрацией может служить пример точки в математике. Точка не есть очень маленькая линия или очень малая часть линии. Это — идеализированный предел для протяженности, стремящейся к нулю. Если таким же образом лишить количество его пространственных признаков, то обнаруживается предел, за границами которого дальнейшая редукция невозможна. Этот предел составляет качество бытия, а не величину или протяженность. Предел тела — также простая субстанция; то есть монада. Тело, каким оно воспринимается, является составным, его протяженность возникает из набора простых субстанций. Никакие две простые субстанции не подобны. Каждая монада не просто обладает отличительным качеством, а является самой “единицей” качества. Поскольку она лишена размерности, ее нельзя модифицировать извне. У нее нет никакого окна, через которое внешний фактор мог бы проникнуть в нее и изменить ее. Принимая это во внимание, бессмысленно размышлять о типе взаимодействия, происходящего между “душой” и “телом”, поскольку и то, и другое при правильном понимании уникально, независимо и, наконец, не протяженно. Тело и душа сосуществуют, и отношение между ними является не причинным, а гармоническим. Если нота громко звучит в присутствии двух резонаторов, мы не спрашиваем, который из резонаторов вызвал в другом ответную вибрацию. Они резонируют параллельно, поскольку они устроены так, что при наличии подходящего стимула каждый ведет себя соответственно своей природе. Так же происходит с душой и телом. Оба они в силу предустановленной гармонии существует согласно друг с другом. Деятельность одного не вызывается другим, как того требует механистическое понимание; деятельность одного также не согласовывается с деятельностью другого посредством некоего внешнего “хранителя времени”, иногда появляющегося для того, чтобы убедиться в правильности хода всех часов, — такой взгляд был выдвинут представителями философского окказионализма. Вселенная — это набор простых субстанций, гармонические связи между которыми установлены до их возникновения. Гармония есть модальность Бога. Монада может измениться лишь посредством внутреннего принципа46. Именно этот внутренний принцип, определяющий на самом деле систему отношений внутри монады, составляет перцепцию. Он, однако, отличается от той апперцепции или осознания, посредством которых мы не только воспринимаем, но и сознаем свое восприятие. Всякая монада в такой степени способна к восприятию, в какой она обладает внутренней организацией. Монаду, внутренний принцип которой делает возможной и память, и восприятие, можно назвать душой47. Из этого ясно, что животные имеют душу. Однако, они не имеют рациональных душ (то есть разума), так как, хотя они и способны воспринимать и даже сохранять следы прежних последовательных воспоминаний, они не сознают необходимых истин. Человеческие существа также, до тех пор, пока их восприятия просто объединены памятью, “действуют как неразумные животные, уподобляясь врачам-эмпирикам, обладающим только практическими сведениями, без теоретических; и в трех четвертях наших поступков мы бываем только эмпириками”48. Именно в нашем знании правила, необходимого отношения, и только в этом, мы проявляем уникальное, свойственное человеку качество нашей жизни. Лейбниц более, чем кто-либо из философов, интересовался и посвящал свои труды тому вопросу, который окажется в центре современных психологических проблем, то есть бессознательному. Это не значит, что он в каком-либо смысле предвосхитил Фрейда. Употребление этого понятия Лейбницем имело мало отношения к причинной мотивации и никакого отношения к психопатологии. Вместо этого, он обращался к понятию бессознательного для поддержки своих взглядов о неразрушимости монад, о разграничении восприятия и сознания, о различии между простой монадой и рациональным разумом. Он полагал, что монада не исчезает даже во сне без сновидений (поскольку она не может этого сделать), а поскольку она не может также существовать, не подвергаясь каким-либо образом воздействию, восприятие, следовательно, существует по определению. Мы, однако, не осознаем этого восприятия, поскольку оно не сопровождается памятью49. Ряд бессознательных (неощутимых) восприятий, накапливающихся в душе, может суммироваться таким образом, чтобы проникнуть в сознание. В действительности имеется непрерывная шкала, отделяющая сон смерти от высшего сознания. Мы переходим от одного к другому маленькими шагами, один из которых представляет собой некий порог. Более того, мы помним все, что случилось с нами, даже несмотря на то, что большую часть этого мы могли активно не осознавать. Изображения прошлого остаются в душе, оказывая “влияние ... гораздо более значительное, чем это думают... Настоящее чревато будущим и обременено прошедшим.” 50. Построить нишу в истории психологии, подходящую для Лейбница, так же непросто, как это было в случае со Спинозой. Поскольку он был врагом и эмпиризма, и материализма, его нельзя разместить в рамках философской традиции, ведущей к установлению психологии как экспериментальной науки. Как с очевидностью следует из его работ, он верил в то, что большую часть результатов, поиском которых заняты современные экспериментаторы, можно было бы получить посредством дедукции, а то , что без труда не получается путем дедукции, либо тривиально, либо легко достижимо средствами общедоступного опыта. Мы уже отмечали внимание Лейбница к бессознательному и формальное введение им понятия подсознательного восприятия. Раздел экспериментальной психологии, посвященный сенсорным порогам, обязан в этом отношении Лейбницу, но этот его вклад неоднократно игнорировался. Даже вызовы, которые Лейбниц бросал Локку, едва ли намного превзошли то, что можно найти в Протагоре или Меноне, и Лейбниц первым заметил, что в этом диспуте он занял платоновскую позицию51. Его рассуждения по поводу единства сознания, роли памяти в сознании и различиях между сознанием, с одной стороны, и восприятием и памятью, вместе взятыми, — с другой, будут снова и снова всплывать на поверхность как в теоретической, так и в экспериментальной психологии конца девятнадцатого столетия. Возможно, наиболее существенное прямое влияние Лейбница на психологию — и, как мы можем заподозрить, влияние непредвиденное — является результатом произведенной им основательной критики картезианского дуализма. Иллюстрируя его недостатки и противоречия, Лейбниц много сделал для ниспровержения авторитета Декарта и освобождения мышления до такой степени, чтобы оно могло породить безыскусную физиологическую теорию. Лейбниц не одобрял сведение ментализма к материализму — он специально противостоял этому; другие, однако, отбросят его предостережения, фокусируясь, вместо этого, на его успешных опровержениях картезианства. В отличие от Спинозы, Лейбниц немногое сделал для того, чтобы поднять идеализм до философски значимого положения, поэтому мы даже не имеем возможности отнести его к традиции, ведущей к гегельянству. Однако, упор на деятельность и единство, два постоянных свойства всей и всякой простой субстанции (включая сознание), будет появляться снова и снова в психологиях Брентано, Джемса, в школе гештальт-психологии, и даже в раннем бихевиоризме. Его монизм, как мы отмечали, станет вселять уверенность в тех, кто будет исследовать мозг для того, чтобы раскрыть секреты разума. То, что он наделял душами животных и настаивал на длительной эволюции различных уровней организации и отношений, не будет, безусловно, тормозить развитие экспериментальной психологии интеллекта животных. Его неуклонное обращение к врожденным свойствам и его логические доводы в пользу необходимости априорных предрасположений ума станут стартовым пунктом для одного из влиятельнейших философов всех времен — Иммануила Канта. Положение, в котором Трактат Юма оставил философию, метафизику и науку, можно назвать каким угодно, но только не успокаивающим. Рационализм оказался обманутым в своей единственной цели — поиске вечных истин. Эпистемология была сведена к психологии, к тому же — к ассоцианистской психологии. Трактат отрицал саму возможность доказательства существования необходимости в природе. Он отрицал, что логика подтверждает такую необходимость и что чувства когда-либо воспринимают ее. Он утверждал, что субъективная необходимость существует как некоторая привычка ума. Мы полагаем, что В есть следствие А, если эти два события происходят подряд в одном и том же месте и в одно и то же время, при этом А всегда предшествует В, и они всегда воспринимаются в таком сочетании. Нас вынуждают признать, что поскольку опыт сам по себе ответственен за нашу веру в причинность и поскольку, в принципе, “все объекты могут стать причинами или следствиями друг друга”, то “что угодно может произвести что угодно”52. Юм не отрицал, что события имеют причины. Скорее, он настаивал на том, что принятие нами такого положения может основываться только на опыте, а раз это так, то обоснованность данного взгляда никогда не сможет возрасти за счет приобретения дополнительного багажа необходимости. Может случиться, что за А всегда следует В, что никто никогда не отмечал исключения, что интервал между этими двумя событиями совершенно постоянен. Все же, единственное, что мы знаем, это А и В. “Мы никогда не воспринимаем никакой связи между причинами и следствиями.”53 Мы знаем о событиях и знаем о временной связи между ними. Мы ничего не знаем о необходимости. Это означает, что опыт будет подтверждать только А...В; а не А...необходимо...В. На том же основании нравственные различия выводятся не из разума, а из опыта (и порождаемых им чувств)54. И снова, на том же основании, нельзя привести никакого логически неопровержимого довода против тех, кто утверждает, что сами рациональные способности являются лишь следствиями естественных материальных сил. Поскольку, даже несмотря на то, что мысль и материя кажутся различными, опыт подсказывает, что “они постоянно бывают связаны друг с другом; но так как этим исчерпываются все обстоятельства, которые входят в идею причины и следствия, когда ее применяют к операциям над материей, то мы, несомненно, можем заключить, что движение, может быть, действительно является причиной мышления и восприятия55”. Одним словом, Трактат вывел нравственные предписания из области рационально выводимого, необходимость — из области причины и следствия, а сам разум — из области, в которой мы размещаем детерминанты познания, чувствования и поведения. Рациональная философия, предназначенная для раскрытия необходимых нравственных предписаний, обречена на наудачу. Рациональная философия, стремящаяся постичь то, что должно происходить в природе, также обречена на неудачу. Трактат лишил естественную науку слова “должен”, а науку о морали — слова “обязан”. Единственное, что выжило, — это эмпирическая психология. Поскольку нам надо разобраться, в чем состоит весомый вклад Канта в психологию, мы начнем с исследования вопроса, досаждавшего философам в течение почти двух столетий: каков был ответ Канта Юму56? Этот ответ надо искать в наивысшем достижении Канта — Критике чистого разума57, в том подытоживании и прояснении этой работы, которое он дает в Пролегоменах ко всякой будущей метафизике58 и в Основах метафизики нравственности59. Неявно выраженная теория психологии содержится в каждой главе любой из этих работ, зачастую эта теория бывает выражена также и явным образом. Маловероятно, что нижеследующее обсуждение позволит постичь всю философию Канта, но психология, входящая в эту философию, станет понятна. Все основные философы восемнадцатого столетия спешили отметить различие — проводившееся Платоном и многими учеными, — разграничивающее суждения, стремящиеся добавить что-то к нашему знанию о некотором предмете, и суждениями, утверждающими лишь семантическую идентичность. Если мы говорим, например, что тело — это протяженная субстанция, то предикатный термин (“протяженная субстанция”), в действительности, содержится в нашем понятии о предмете (то есть о “теле”), поэтому данное утверждение ничего не добавляет к тому, что у этого предмета уже имеется. Локк, Беркли и Юм — все они посвящали разделы своих эпистемологических работ соотношению слов и предметов, а также тому факту, что очень часто единственными различиями между предметами оказываются различия между словами, использовавшимися при их описании. Согласно обычаю, сложившемуся в восемнадцатом столетии, все те суждения, предикат которых содержится в понятии о предмете, называли “аналитическими”. Кант сохранил этот термин и использовал другой термин для обозначения тех суждений, предикаты которых логически не следуют из их предметов, то есть тех суждений, которые расширяют наше фактическое знание. Такие суждения он назвал синтетическими60. Говоря, что все тела тяжелы, мы строим суждение о телах, отличающееся от содержания имеющегося у нас простого понятия тела. То же самое верно и для суждений типа “Французы — это люди среднего веса”, “Белок нужен для здоровья” и так далее. Свойство “быть французом” логически не влечет свойства “обладать средним весом”, свойство “быть белком” логически не влечет хорошего здоровья у того, кто потребляет этот белок. Обрисовав общую позицию философов относительно аналитических и синтетических суждений, Кант выразил различие между ними более формально, заметив, что принципом, общим для всех аналитических высказываний, является закон противоречия61. Мы не можем сказать: “Человек за столом не есть человек за столом”. В утвердительном аналитическом суждении предикаты с противоположным значением дают противоречие. Такое не происходит в случае синтетических суждений, поскольку суждение “Французы это — люди более, чем среднего веса” не влечет никакого противоречия. Именно данное различие привело к тому, что все философы-эмпирики, в частности, Юм, приняли точку зрения, согласно которой аналитические суждения: (а) логически необходимы, то есть если они истинны, то они должны быть истинны, (в) несомненны, а не вероятны, (с) априорны, а не даны в опыте. Поскольку а=а необходимо истинно согласно закону противоречия и поскольку, с точки зрения эмпирика, ничто в опыте не является необходимо истинным, утверждается, что а=а известно априорно. Кроме того, те же философы настаивали, что (а) синтетические суждения могут быть только случайно и никогда не необходимо истинными, (в) синтетическим суждениям может быть приписана только некоторая вероятность, но никогда не несомненность истинности и (с) синтетическое суждение может быть выдвинуто или оценено только апостериорно. Никакая рациональная априорная дедукция не может с несомненностью установить, что “французы — люди среднего веса”. Если мы примем эти термины и разграничения, то сможем подытожить позицию Юма относительно морали, эпистемологии и этики, отметив, что он разместил все эти вопросы в области синтетических суждений. Что бы мы ни говорили, знание или ценности могут быть истинны только условно, только какую-то часть времени и только апостериорно. Задача Канта, следовательно, — доказать, что некоторые синтетические суждения истинны априорно, и ответ Канта Юму, по сути, утверждает, что существуют априорные синтетические истины. Иначе говоря, задача Канта — вернуть необходимость в область морали и эпистемологии и, таким образом, вывести метафизику из области простого мнения. Прежде чем обратиться к анализу, проводимому Кантом, нам следует заметить, что во многих отношениях он согласен с Юмом. Что касается одного из основных эмпирических положений, то он также настаивает на том, что все опытные суждения — синтетические62, что объекты становятся доступными для нас через посредство чувств, и что само мышление, в конечном итоге, непосредственно или опосредованно, в ретроспективе соотносимо с чувствованиями63. Поэтому взгляды Канта следует трактовать не как стремление ниспровергнуть эмпиризм, а как старание определить его пределы. Именно с такой точки зрения Критику чистого разума можно было бы рассматривать, скорее, как кульминацию эмпирического движения, чем как полное его отрицание. Критический анализ Кантом претензий Юма, как и следовало ожидать, фокусируется на юмовском рассмотрении понятия причинности. Это рассмотрение — эмпирическое, и Канту надлежит определить принципы, согласно которым опыт дает понятие истины. Увы, дать такое понятие опыт не может; опыт допускает это понятие. Доказательство этого содержится в известных аналогиях опыта: “Принцип аналогий таков: опыт возможен только посредством представления необходимой связи восприятий64”. Он вводит три такие аналогии. Первая адресована идее постоянства объекта. Для того, чтобы объект или событие обладали каким-либо реальным существованием, необходимо его существование во времени. Время, однако, не привносится в опыт этим объектом или событием. Только благодаря нашей “внутренней интуиции”, которой постоянство известно априорно, явления могут размещаться во времени65. Не может существовать никакого отношения во времени, не базирующегося на постоянстве. Мы, например, узнаем вес дыма, взвешивая дерево, сжигая дерево и взвешивая золу. Материя не сохраняется в чувствах; это означает, что дерево уже исчезло и никакого дыма более уже нельзя увидеть. Однако в силу априорной категории рассудка — той категории мышления, которую мы называем постоянством, — мы знаем, что вес дыма в точности равен именно этой разности между весом дерева и весом золы66. Мы можем назвать явление “субстанцией” лишь потому, что мы может предположить существование субстанции во времени. Это приводит Канта ко Второй Аналогии: “Все, что случается, то есть начинает существовать, предполагает нечто, за чем оно следует по правилу”67. Это — тот принцип Сократа, который составляет ядро ответа Канта Юму и который следует изучить тщательно. Юм утверждал, что наше понятие причины должно было бы быть объяснено в терминах смежности (пространственной), постоянной связанности и следования. Короче говоря, А и В встречаются в одном и том же месте, всегда подряд и в неизменном порядке, при котором А неизменно предшествует В. Когда эти условия выполняются, мы говорим, что “А есть причина В”. Именно во Второй Аналогии Кант поднимает вопрос об источнике самого следования. Мы не “видим” время. Мы не “ощущаем” интервалов. Мы могли бы вообразить, что лодка, плывущая вниз по течению, могла бы плыть против течения, но мы представляем себе это событие только в некоем фиксированном порядке: лодка сейчас здесь, потом — в другом месте, потом — в третьем и так далее. Однако, каково эмпирическое основание для “потом”? Очень просто: если разум изначально (априорно) не обладает такой категорией времени, то не может быть никакого следования или постоянного сочетания. Сочетание происходит во времени, но время не привносится посредством объекта. Для того, чтобы на нас воздействовало постоянное сочетание событий А и В, мы должны быть способны из опыта узнать А и В как события. Событиями же их делает именно то, что они выделяются на фоне продолжительных состояний дел. Например, на фоне продолжительной тишины слышен перезвон колоколов. Перезвоны колоколов могут быть событиями только, если они отделимы от определенного постоянного фона. А ударами молотка перезвоны колоколов могут быть вызваны лишь в том случае, если наши восприятия неизменно упорядочены во времени. Без априорной категории разума — противопоставляемой самому по себе ощущению — у нас было бы нисколько не больше оснований счесть причиной перезвона молоток, чем перезвон — причиной ударов молотка. Тем не менее, мы никогда не делаем последней ошибки. Упорядочение не случайно, оно не может быть апостериорным и едва ли является всего лишь возможным. Профессор Л.У.Бек кратко изложил довод Второй Аналогии с элегантностью и простотой, редко демонстрируемыми многочисленными интерпретациями “ответа Канта Юму”:
Бек показывает, что представление Юма о причинности требует, причем требует логически в смысле необходимого требования, Вторую Аналогию Канта. Таким образом, Юм не ошибается, но прав он может быть лишь в том случае, если допускается Вторая Аналогия, а Вторая Аналогия приписывает рассудку априорное синтетическое суждение. Довод, приведенный в Н (юмовские “последовательность” и “постоянное соединение”), может свести понятие причинности к заключению на основе опыта, только если наделить воспринимающего некоторой основой для различения “первого” и “следующего”, причем эта основа сама не базируется на опыте, ее наличие предполагается, прежде всего, для того, чтобы опыт произошел; тем самым выполняется Вторая Аналогия. Это — то, что Бек понимает под “Н влечет К”. Довод Юма влечет довод Канта. Анализ Канта идет гораздо дальше вопроса относительно оснований заключений о причинности. В Критике чистого разума содержится стремление раскрыть основания и принципы всего знания, допустив с самого начала, что одно основание, безусловно, — эмпирическое. Однако, поскольку рассуждения Юма недостаточны для объяснения причинности, Кант утверждает, что эмпирическое рассмотрение недостаточно для объяснения чего бы то ни было в человеческом рассудке, за исключением условий его предметного заполнения. Рассудок производит суждение. Суждение базируется на логических функциях. Последние применяются к чувственным данным и необходимо предшествуют опыту, если опыт вообще должен иметь какое-либо значение. Эти логические функции, которыми мы обладаем интуитивно, являются чистыми понятиями рассудка, которые исчерпываются следующей таблицей категорий69:
Это — чистые понятия синтеза70, которыми рассудок обладает априорно и без которых связный опыт был бы невозможен. В этих категориях заключена возможность всякого опыта вообще71. Мы соприкасаемся с миром чувств, уже обладая рассудком, владеющим такими простыми представлениями как: вещь либо существует, либо не существует, либо существует ограниченным образом; А либо возможно, либо невозможно; оно либо случайно следует за В, либо должно следовать. Мы можем составить общие высказывания ("Все люди смертны") только в том случае, если мы интуитивно обладаем категорией всеобщности, в опыте же нет ничего, что может ее дать. То, что мы получаем высказывания посредством индукции или обобщения на основе большого числа случаев, означает не отрицание категории, а всего лишь указание условий ее введения. Размышление обо “всех людях”, очевидно, требует, чтобы мы знали, что такое “люди”, а к знанию этого мы можем прийти только посредством опыта. Однако, мы никогда не можем ни из какого опыта узнать, что такое “все”. Сам процесс логического вывода предполагает понятие количества, а сам процесс обобщения — понятие отношения. До сих про здесь говорилось о кантовской эпистемологической аргументации, направленной против эмпиризма; она же, и это еще более значимо для Канта, является введением в аргументацию, относящуюся к области морали и направленную против эмпирического принципа удовольствия. Здесь сомнительно лишь одно: будет ли тот, кто связал себя эмпирической эпистемологией, не слишком терпимо относиться к науке о морали, базирующейся на “истинах” разума. Локк был готов допустить аксиоматический статус суждений о морали, уподобив их суждениям в области геометрии, однако, это перемирие с рационалистами не было ни убедительным, ни долговременным. Юм, который не мог обнаружить необходимость в последовательности естественных событий, едва ли собирался искать ее в той последовательности поведенческих событий, которое мы называем нравственным поведением. Кант соглашается с тем, что, будь эпистемология сводима к опыту, мораль тоже обладала бы подобным свойством. Но из того, что он доказал, к своему собственному удовлетворению, что эпистемологию нельзя свести к чувственной сфере, и установил, что этот самый мир чувств содержится в мире рассудка, должно следовать, что законы опыта производятся законами мышления72. Следовательно, метафизика нравов Канта — завершающее достижение той рационалистской морали, которой посвятили себя Декарт, Спиноза и Лейбниц. Моральные предписания пользуются авторитетом разума не потому, что они относятся к чему-то, не встречающемуся в реальном мире, а потому, что наше познание реального мира базируется на правиле, без которого познание было бы невозможно. Поскольку чистые понятия рассудка (то есть категории) формируют логические основания, на которых базируется всё наше знание естественного мира, имеется также и априорный рациональный принцип, делающий суждения о морали неизбежными, универсальными по форме и абсолютно необходимыми для всякого объяснения нравственных измерений жизни. Утверждать, что мы судим о “добре” и “зле” на основе чувствований, недостаточно, если мы не можем объяснить, почему и как данные чувствования присоединяются к данному действию. Само присоединение предполагает правило, и это правило — то, что Кант назвал “категорическим императивом”: поступай таким образом, чтобы максима твоего действия могла служить универсальным законом природы73. В своих различных формах категорический императив предусматривает почитание закона, настояние на том, что человек — это цель, но никогда — не средство достижения некоторой другой цели. Само понятие закона предполагает разумное животное, намеревающееся поступать хорошо74. Простое (эмпирическое) перечисление наблюдаемых последствий действий никогда не раскроет этих намерений, однако, само действие не могло бы произойти, если бы не было предшествующего ему намерения. Признать это намерение — то есть определенный факт намерения — означает одновременно признать свободу воли. Эта свобода ограничена в следующем смысле: сама свобода требует, чтобы воля производила закон75. Почитание закона не приобретается. Категорический императив не может быть приобретенным. Фактический мир событий нельзя было бы оценивать на основе морали, если бы рассудок не обладал — априорно — чистыми категориями морали. Мы являемся целями самих себя не “обычно” и не “случайно”, мы также не являемся и средствами достижения некоторых других ставящихся нами целей. Мы — необходимые цели самих себя. Мы не ждем результатов наших действий для того, чтобы определить, следует ли нам обращаться с другими так, как они обращались бы с нами. Мы понимаем, что это так, в противном случае, пока мы выходим невредимыми из тех положений, в которые попали, мы никогда не смогли бы узнать, что такое грех. Некоторые могут проповедовать ситуационистскую этику, но они все равно проводят линию к анархии. Даже те, кто мог бы ратовать в пользу анархии, если они вообще будут ратовать, начнут с некоторого принципа и, если этому принципу надлежит когда-либо обрести логическую силу, то он, в конечном итоге, сведется к категорическому императиву — и в этот момент, безусловно, будет противоречить претензиям анархиста. Влияние Канта на психологию было намного больше, чем обычно считается. В историческом резюме было бы банально признавать репутацию Канта как философа, указывать на нативистский акцент его философии и предполагать его влияние на более поздних психологов. Некоторые даже решили, что Кант и в самом деле был творцом своего рода антропологии и предвосхитил последующих приверженцев теории инстинктов. Он решительно не был таковым. На самом деле, и это делает ему честь, среди психологов, на которых он оказал влияние, было столь же много неправильно понимавших его, сколько тех, кто следовал его рассуждениям. В последующих главах у нас будет возможность обсудить теории когнитивного развития, гештальт-психологии, генетической психологии, развития морали. Мы рассмотрим идеи Вундта, Фрейда, Келера и их учеников. В этих последующих главах станет ясно, что, если исключить бихевиористскую и физиологическую психологии, то не найдется ни одной области интереса современных психологов, не опирающейся на базовые элементы философии Канта. Внутренняя логическая структура мышления и языка, априорные принципы перцептивной организации, стадии когнитивного и нравственного развития, нейтральные и не зависящие от культуры методы психологической оценки — эти, так же как и многие другие дискуссионные вопросы меньшей значимости, едва ли были бы вообразимы в том случае, если бы сенсуализм Юма стал настолько доминирующим, что рационализм был бы отвергнут вообще. Кант не намеревался спасать рационализм. Он, безусловно, больше восхищался Юмом, чем многие из его завистников. Он намеревался установить границы знания и условия, благодаря которым оно имеет место. Тем самым он спасал сознание. Во влиянии, оказанном философией Канта, было и несколько негативных сторон, по крайней мере в том, что касается возникновения экспериментальной психологии. А именно: суждение Канта о том, что bona fide i наука о разуме содержала в себе некое терминологическое противоречие. Разум, в отличие от внешней природы, не пребывает в покое в то время, когда мы пытаемся его наблюдать. Сама попытка наблюдать его содержание, безусловно, изменяет его. Более того, человеческий разум в наибольшей степени определяется априорными категориями чистого рассудка, а они, как мы видели, не “даны” в опыте и не имеют эмпирического содержания. Кроме того, они — необходимые (скорее, чем условные или случайные) свойства ума и, будучи таковыми, не сводятся к биологическим или механическим законам. В биологии или в механической организации ничто не может быть тем, что оно есть, в силу необходимости, тогда как априорные категории таковыми являются. Все же, в самом своем пессимизме, Кант косвенно дал импульс развитию психологии восприятия и изучению сознания:
В этом отрывке он выступал как раз против представления о том, что дедуктивная наука о человеческом разуме будет расширять наше знание о реальном мире, раскрывая рациональные принципы, упорядочивающие реальный мир. В понимании Канта этот взгляд подобен вере в то, что мы можем увеличить число людей в комнате, подвешивая зеркала на стену! Вместо этого он ратует за психологию, считающую содержания ума единственными явлениями, которые мы можем исследовать непосредственно. Ценность этой психологии — негативного качества: она позволяет нам критиковать те выводы рационализма, которые сталкиваются с фактами сознания. Таким образом, в целом, обширный анализ Канта придавал экспериментальной психологии консервативный тон. Сочиняя свои работы в широкой и просторной тени кантовской критической философии, Вундт неоднократно утверждал, что его психология — не метафизическая, не дедуктивная, она ориентирована только на факты и внутреннюю организацию сознания. Эту часть влияния Канта мы рассмотрим далее в последующих главах. Заслуги Декарта, Лейбница и Спинозы не уменьшатся от напоминания о том, в какой степени рационализм восемнадцатого и девятнадцатого столетий вторит многим из основных уроков Платона, св. Августина и св. Фомы. В Теэтете Протагор ответил на эмпирические заявления, и приведенный там аргумент не очень отличается от предложенного Лейбницем в Новых опытах. Согласие между Спинозой и св. Августином по существенным вопросам психологии слишком заметно, чтобы нуждаться в дополнительных комментариях. Кант был уникален, но в некоторых отношениях его уникальность должна прослеживаться на антирационалистическом пути интерпретации рассматриваемых проблем. Он, например, находился в бескомпромиссной оппозиции по отношению к тому идеализму, который построил Беркли, он утверждал, что математические суждения являются синтетическими, он отрицал существование врожденных идей, по крайней мере, тех, которые описываются в рационалистической традиции. Его “трансцендентальная эстетика” ставила психологические принципы выше уровня опыта. Новой экспериментальной психологии девятнадцатого столетия, следовательно, было трудно найти место для Канта, и она преуспела в этом, в конечном итоге, лишь проигнорировав остальную часть его философской системы. Главные создатели психологии как независимой дисциплины боролись за то, чтобы сообщить этому предприятию ту же строгость и объективность, которой обладали физика и математика. Если моделью служила физика, то рационалистическая традиция становилась обузой, если моделью служила математика, то данное предприятие терпело неудачу или казалось таковым. Даже те, кто принял кантовскую точку зрения относительно разума, все еще находили необходимым использовать эмпирические методы. Исключение, конечно, составил Вундт, чьи работы будут рассмотрены позже. Вундт стремился найти наилучшее в этих двух мирах, пытаясь построить эмпирическую науку на основе (рациональной) интроспекции. Мы можем оценить его успехи, указав на то, что сейчас вокруг имеется не слишком-то много последователей Вундта. Если бы в философии и в философской психологии не было никакого другого движения, то психолог двадцатого столетия все еще активно занимался бы оцениванием ответа Лейбница Локку и Канта — Юму. Аргументация и анализ все еще были бы методами выбора. Однако, уже во времена диспутов между философами семнадцатого и восемнадцатого столетий разворачивалось могущественное предприятие, причем такими темпами, которые поражали воображение и философа, и непрофессионала равным образом: то научное предприятие, которое Бэкон, а позже Ньютон, называли “экспериментальной психологией”. Упорно продвигаясь своим наивно прагматическим путем, оно находило поддержку и вдохновение как в эмпиризме, так и в рационализме, но не связывало себя ни с одним из них. Со временем на него будут претендовать эмпирики, хотя ни один значительный философ-эмпирик и не внес в него своего вклада. Его реальными двигателями были скептицизм и материализм: декартовский метод сомнения, стремящийся найти техническую поддержку. Его материалистические основания составляют предмет следующей главы, а о его скептической составляющей было достаточно сказано в этой и предыдущей главах. В чем состоит рационалистическое наследие? Рассмотрев проблемы и методы современной психологии, мы нашли мало прямых свидетельств в пользу сознательного принятия рационалистического взгляда. Исследовательский интерес обращается к технологии поведения, физиологии мозга, социальным установкам и воздействиям, человеческому обучению и памяти, индивидуальным различиям. Лишь легко читаемые материалы, адресованные популярной аудитории, по-прежнему посвящаются “разуму”, редко — душе и никогда — монадам. Но когда мы переходим от исследований к теории, эта картина меняется. Многие согласятся с тем, что к 1970 г. в число трех наиболее влиятельных теоретических направлений или, как лучше выразиться, трех предметов теоретических дискуссий, привлекавших самое большое внимание, вошли: (а) стадийное развитие когнитивных способностей человека в течение его жизни, начиная с детства; (б) априорные способности, которые следует признать, если мы хотим понять человеческий язык, и (в) специфически видовые процессы, которые следует допустить, если нам надлежит объяснить ряд эмоциональных, интуитивных и “нравственных” предрасположений, наблюдаемых во всем животном царстве. Если (в) получило прямой импульс от Дарвина, то (а) и (б) — это в неприкрашенном виде продукт рационалистической традиции. Лишь применяемые при исследовании перечисленных вопросов методы позволяют описать современные изыскания как “эмпирические”. По сути — это рационалистические вопросы и они являются видимыми следами рационалистического наследия. 1 Rene Descartes, Discourse on Method, in The Method, Meditations, and Philosophy of Descartes, translated by John Veitch, Tudor, New York, 1901. Цит. по: Р.Декарт. Соч. в 2 т. Т.1, 1989, т.2, 1994 2 Descartes, Meditations, Veitch, Descartes. Русский перевод: там же, т.2. 3 Descartes, Les Passions de l'Ame, translated as “The Passions of the Soul” by E.Haldane and G.К.T.Moss, in The Philosophical Works of Descartes, Dover Publications, New York, 1955. Русский перевод: там же, т.1. 4 Principles of Philosophy, Veitch, Descartes. Русский перевод: там же, т.1. 5 Descartes, Treatise on Man, in Descartes — Selections, edited by R.M.Eaton, Scribner, New York, 1927. 6 Descartes, Discourse on Method, Part II. 7 Там же. Часть III. 8 Там же. Part IV, p.171. Русский перевод: с.268–269. 9 Там же. Part V, p.184. Русский перевод: с.46. 10 Там же. Part VI, p.193. Русский перевод: с.55. 11 Descartes, Meditations, II. Цит. по: Р.Декарт. Размышления. — Там же, т.2, с. 23. 12 Там же, VI. Русский перевод: с.63. 13 Descartes, Principles of Philosophy, Part I, Secs.XII and XLVII. Цит. по: Р.Декарт. Первоначала философии. — Там же, т.1. 14 Descartes, Les Passions, Article 17. Цит. по: Р.Декарт. Страсти души. — Там же, т.I 15 Там же. Articles 23,24. 16 Там же, Article 30. 17 Там же. Article 31,32. 18 Там же. Article 39. 19 Там же. Article 37. 20 Там же, Article 41. 21 Там же. Article 35,39. 22 Descartes, Principles of Philisophy, Part I, Sec.XXVIII. Цит. по: Р.Декарт. Первоначала философии. Там же, т.I. 23 Blaise Pascal, Pensees: Thoughts and Religion and Other Subjects, translated by William Finlayson Trotter, Washington Square Press, New York, 1965 (Pensee #77). Цит. по: Блез Паскаль. Мысли. СПб: Северо-Запад, 1995. #194. С.87. 24 Benedict de Spinoza. Ethics, Pt.I, Prop.III, in The Chief Works of Benedict de Spinoza, translated by R.H.M.Elwes, Dover Publications, New York,1955.Цит. по: Б.Спиноза.Этика. Соч. в 2 т. Т.1,1957, Ч.1. 25 Spinoza, Ethics, Pt.IV, Prop.LXVIII. 26 Там же, Pt.V, Prop.VI. <В русском переводе этого сочинения Спинозы вместо слова “эмоции” используется слово “аффект”. — прим. перев.> 27 Там же, Prop.XXI. 28 Там же, Prop.XXII. 29 Там же, Prop.XL. 30 Там же, Pt.IV, Prop.VIII. 31 Там же, Pt.III, Props.LIII,LV. 32 Там же, Pt.IV., Prop.XI. 33 Там же, Pt.II, Prop.XLVIII. 34 Там же, Pt.III, Prop.II. 35 Там же, Prop.X. 36 Там же, Pt.IV, Prop.XIV. 37 Там же, Pt.I, Prop.XXXII. 38 Benedict de Spinoza, On the Improvement of the Understanding, in R.H.M.Elwes, Spinoza, especially pp.15–31. 39 Gottfried Wilhelm von Leibniz, New Essays — in Leibniz — The Monadology and Other Philosophical Writings, translated by Robert Latta, Oxford University Press, New York, 1898. Цит. по: Готфрид Вильгельм Лейбниц. Соч. в 4 т. М.: Мысль. Т.2, 1983. 40 John Lokk. Essay on the Human Understanding,II,1,2. Цит. по: Джон Локк. Соч. в 3 т. М.: Мысль. Т.1, 1985. С.154. 41 Leibniz. New Essays, Book II. Русский перевод: т.2, с.111. 42 Там же. 43 Там же. Русский перевод: т.2, с.110–111. <В русском переводе вместо выражения “вощеная дощечка для письма” использовано слово “доска” — прим. перев.> 44 Там же. 45 Leibniz. Monadology, Latta, Leibniz, #17. Русский перевод: т.1, с.415. 46 Там же, #11. 47 Там же, #19. 48 Там же, #28. 49 Там же, #20,21. 50 Leibniz. New Essays, Introduction, pp. 322–323. Русский перевод: с.54. 51 Там же, стр.358. Русский перевод: с.72. 52 David Hume, A Treatise of Human Nature,I,III,XV, edited by L.A.Selby-Bigge, Clarendon, Oxford, 1973. Русский перевод: Д.Юм, Соч. в 2 т. М.: Мысль. Т.1, 1965. С.181–182. 53 Там же, I,IV,V. Русский перевод: с.360. 54 Там же, III,II,I. 55 Там же, I,IV,V. Русский перевод: с.362. 56 Замечательно краткий и необыкновенно ясный итог диспута между Юмом и Кантом был дан профессором Л.У.Беком в его выдающемся Once More Unto Breach: Kant's answer to Hune, Again in Ratio, Vol.9,No.1, pp.33–37. 57 Immanuil Kant. Critique of Pure Reason. Цит. по: И.Кант. Критика чистого разума. СПб.: ТАЙМ-АУТ, 1993. 58 Kant. Prolegomena to Any Future Metaphysics, Indianopolis,Bobbs-Merwill edition Introduction by L.W.Beck, 1950. Цит. по: И.Кант: Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука. — Соч. в 6 т. М.: Мысль. Т.4, 1965, часть I. 59 Groundbook of the Metaphysics of Morals, translated by H.J.Paton, Harper and Row, Harper Torchbooks, New York,1964. Русский перевод: И.Кант. Основы метафизики нравственности. — Там же. 60 Kant. Critique of Pure Reason, Sec.4. Русский перевод: Введение, разд. IV. 61 Kant. Prolegomens, sec.2. Русский перевод: Кант. Пролегомены. §2. 62 Там же. 63 Kant. Critique of Pure Reason, A19. Русский перевод: Кант. Критика чистого разума. А19, с. 104. 64 Там же, А176, В218. Русский перевод: с. 146. 65 Там же, А182, В225. Русский перевод: с. 129. 66 Там же, А185. Русский перевод: В288, с. 150. 67 Там же, А189. Русский перевод: с. 152. 68 L.W.Beck. Once More Unto the Breach. 69 Кант, Критика чистого разума, В106. Русский перевод: с. 83. 70 Там же. 71 Там же, В167. 72 Kant. Fundamental Principles of the Metaphysics of Morals, translated by Thomas K.Abbott, Library of Liberal Arts Press, New York,1949, pp.70–71. 73 Там же, с. 19. 74 Kant, Groundwork of the Metaphysics of Morals, pp.68–69. Цит. по: Иммануил Кант. Основы метафизики нравственности. — Соч., М.: Мысль, 1965. Т.4, часть 1. С. 280–281. 75 Там же, с. 98. Русский перевод: с. 326. 76 Этот отрывок взят из А382 Критики чистого разума, которая имеет дело с “параллогизмами чистого разума” (Русский перевод: с. 248–249.). Далее (В421) Кант более высоко оценивает полезность рациональной психологии, если она развивается в большей степени как дисциплина, чем как доктрина: “... она возможна только как дисциплина, полагающая теоретическому разуму в этой области непреложные границы, с одной стороны, чтобы мы не бросились в объятия бездушного материализма, а с другой стороны, чтобы мы не потерялись в мечтах о спиритуализме, лишенном основания в нашей жизни” (Русский перевод: с. 253.). Глава 9. Материализм: просвещенная машина В двух предыдущих главах мы рассмотрели философские психологии английских и континентальных эмпириков и рационалистов, ограничившись семнадцатым и восемнадцатым столетиями, — периодом, в течение которого эти два направления достаточно определились для того, чтобы стать альтернативами. В Главе 3 были отмечены весьма значительные сходства между системами Платона и Аристотеля. В последующих главах подобные сходства были найдены между философами, идентифицируемыми с первой или второй школой. Действительно, лишь в эпоху Возрождения, а не раньше, мы обнаруживаем признаки явного раскола, раскола между спиритуализмом и натурализмом. Но даже в эпоху Возрождения были только признаки, а не драматический разрыв. Великое разделение возникло из неразрешимых конфликтов между Трактатом Юма и Критикой Канта. Впредь эмпиризм и рационализм будут ограничивать возможности радикальных отклонений и расхождений. В отличие от различий, разделявших греческих атомистов и платоников, современные антагонизмы будут всплывать на поверхность как завершенные системы мысли, богатые следствиями и рекомендациями для социальной организации, права, морали, экономики и религии. По сравнению с ними, диспуты между ортодоксальными христианами и последователями Оккама в тринадцатом столетии или флорентийскими аристотелианцами и платониками в пятнадцатом столетии будут малозначительными. Однако, как ни был велик разрыв между рационализмом и эмпиризмом, сохранялась основа, достаточно общая для того, чтобы Кант вообще мог пытаться ответить Юму. До тех пор, пока философские споры семнадцатого и восемнадцатого столетий происходили между рационалистами и эмпириками, это были споры об одних и тех же проблемах и зачастую отталкивались от одних и тех же исходных позиций. И Юм, и Кант стремились объяснить источник человеческого знания, природу морали и характер общества. Вообще говоря, оба они были заняты “наукой о жизни ума” (science of mental life) . Ни один из них не присоединился к досаждавшей бесконечными обсуждениями альтернативе: закон, мораль, мышление и чувства, в конечном счете, являются просто проявлениями материи в движении. В Главе 7 мы отметили, что Локк отказался обращаться к вопросу о материальной природе человека. Беркли открыто отвергал материализм и делал это вызывающим образом. Юм, склоняясь к такой возможности, в конечном итоге передал материю “анатомистам”1. Кант также отметил, что можно было бы построить биологическую интерпретацию его философии, что его категории можно было бы трактовать как обусловленные нервными процессами, но он с презрением отклонил это предположение, заметив, что такой скептический материализм лишил бы чистые категории рассудка элемента необходимости2. Короче говоря, ни Кант, ни Юм и никто из более ранних представителей этих двух философских движений не трактовал психологию как неотличимую от физики. Для всех них она была и должна была оставаться не просто наукой, а наукой о жизни ума. Однако, в те же самые два столетия родилось и расцвело третье движение: движение к физике прочь от логики, движение, ставшее отрицать саму терминологию рационалистско-эмпиристского противостояния, движение, в большей степени содействовавшее образованию психологии как научной дисциплины, чем все рационалисты и эмпирики вместе взятые. Это был материализм; характер, который приняло это движение в семнадцатом и восемнадцатом столетиях, составляет предмет данной главы. Всякий период философской активности оживляется понятиями и событиями нефилософской природы. Философы стремятся понять и объяснить встречающиеся в мире факты, и они должны брать эти факты такими, какими они их находят. Искать же их следует, конечно, вне философии: в космосе, в мире материи, в человеческом уме, в делах государства. Наука есть человеческое деяние, и независимо от того, насколько узкой или специальной она может стать, от того, насколько ее проблемы и методы могут быть скучными или культовыми, она редко избегает привычек человеческого ума. Одна из наиболее устойчивых привычек — та, которая навязывает метафоры и сравнения уму при его попытке понять какое-либо неуловимое явление. А среди многих неуловимых явлений ни одно не наделено большей искусностью и живостью, чем сам ум. Поэтому философия и позже психология в их неутомимой попытке постижения разума, стали прибегать к объяснениям типа “это похоже на...” или “это как будто ...”, или “это — не более, чем ...”. На протяжении столетий различные метафоры и сравнения завоевывали и теряли популярность. Досократики, с их особым интересом к гидравлике и гидростатике, с их упрощенной четырех-элементной физикой, были склонны верить в то, что психологические явления следует понимать в терминах уникального соединения земли, воздуха, огня и воды. Платонизм, никогда полностью не отрывавшийся от своих корней, уходивших в тайны религии пифагорейцев, пытался определить невыразимое качество психической жизни, фокусируясь на духовных метафорах. Аристотель, исследуя неоспоримые истины силлогизма и отмечая случайную природу всех нелогических реальностей, создал дуалистическую психологию, согласно которой некоторые функции ума считались “подобными” биологическим процессам, другие же — “подобными” вечным логическим истинам. Соответственно, если органические, чувствующие и двигательные функции, будучи производными от плоти, исчезают вместе с плотью, то интеллект сохраняется “подобно” истинам логики. От периода досократиков и вплоть до эпохи христианской веры метафорой была природа. Все разделы и антагонизмы соперничающих философий следовало понимать как разные взгляды на сущность природы и как разные мнения относительно конечной сущности природы. Является ли она только материальной или также и духовной? Вечна ли она или имела начало? Является ли она разобщенной и статистической или же ее форма целостна и неизменна? Такова ли она, какой ее рисует восприятие, или опыт — всего лишь иллюзия? То, что философии не удалось ответить на эти вопросы, и то, что не смогли выжить сами цивилизации, поставившие эти вопросы, — две из основных причин быстрого успеха христианской альтернативы. В Западном мире, начиная с патристического периода и вплоть до семнадцатого столетия, конечным авторитетом было Возрождение. Реальностью был Бог, природа же была метафорой. Это не означает, что такая точка зрения разделялась каждым. В самом деле, Главы 5 и 6 были посвящены в основном тем, кто чувствовал, что данный вопрос едва ли имеет определенное решение. Однако мир населен не только философами, и для всех, кроме горстки искателей истины, Истина раскрывалась в евангелиях и в жизни Христа. Те же, кто был готов понять и то, и другое на ином уровне, могли изучать великий томистский синтез — синтез Аристотеля и христианских убеждений, разума и веры. Мы указывали, быть может слишком часто, на то, что Возрождение не изменило суть характера Западного ума в его попытках разрешить вечные вопросы. С 1350 по 1600 основные дебаты велись между теми, кто находил Бога в “естественной магии”, и теми, кто находил Его в “духе”. Академия Фичино стремилась возвратить платонизм христианству, а не подвергнуть сомнению Священное Писание. Аристотелевская школа Помпонацци не играла словами Библии, так же как ересь Джанфранческо Пико была не религиозного характера. Но это касается лишь занятий членов академии. В целом же мир волновали более важные вопросы: война, чума, Реформация, голод. Природа как метафора и Бог как реальность оставались на своих исторических местах. Наиболее значительное научное событие Возрождения — теория вращения Земли Коперника — расценивалась ее автором как не более, чем примечание к великому замыслу Бога. То же самое можно сказать об оценке Кеплером своей теории и Ньютоном — своей. Это также верно относительно Галилея, Локка и Декарта, Лейбница и, возможно, даже Спинозы. Даже в течение большей части девятнадцатого столетия самые значительные ученые в области философии и науки трудились в свете христианской веры. Юм, безусловно, представляет собой дразнящее тщетными надеждами исключение, исключение даже среди многочисленных скептиков семнадцатого столетия. Скептики направляли свои сомнения на человека, а не на Бога; на Аристотеля, а не на назаретянина. Действительно, некоторые достойные упоминания скептики были священниками. В свете вышеупомянутого полезно исследовать важное свойство современной психологии: ни один из основных представителей этой дисциплины, ни один человек, считающийся ответственным за ее методы и интересы, ни один из тех, кто создал значимую для современных устремлений теорию, не утверждал, что религиозное измерение жизни необходимо для понимания человеческой психологии. Иначе говоря, мы обнаруживаем, что в течение пятнадцати столетий, начиная с 200 г. нашей эры, нет сведений о какой-либо серьезной психологической работе, лишенной обращений к религии, и что с 1930 г. среди основных психологических работ не было такой, которая, пытаясь разобраться с психологическими измерениями человека, выражала бы потребность в духовных терминах. Этот поразительный сдвиг воззрений нельзя объяснить как результат рационалистско-эмпиристского противостояния, свидетельство которому — Локк и Лейбниц. Не следует его связывать и с открытиями каких-либо новых фактов в естественных науках. Более того, его нельзя понимать даже как постепенный сдвиг перспективы, поскольку, по историческим временным меркам, он произошел неожиданно. Мы, конечно, не в состоянии выявить все его причины, но справедливости ради отметим, что раскрыть его происхождение мы можем. Источник такой драматической трансформации воззрений, такого исторически беспрецедентного отступления от более древнего и повсеместно распространенного взгляда — это соблазн перед другой метафорой: в данном случае перед метафорой машины. Осторожный читатель будет готов протестовать, утверждая, что физикалистская точка зрения едва ли является недавней; что ей были обязаны Зенон и Эпикур; что Птолемей представлял ее космической по своему охвату; что схоласты, как и досократики, также говорили о машиноподобной строгости небесного движения. Такое прочтение истории, хотя оно и правильно, оказывается неспособным различить простую метафору и метафору соблазняющую; метафору, поддерживающую чьи-то верования и подчиняющуюся их равновесию, и метафору, создающую новую веру; метафору, изобретенную для того, чтобы представлять реальность, и ту, которая столь непреодолима, что принимается за саму реальность. Нам следует поэтому спросить, что же такое было в механистической философской мысли семнадцатого и восемнадцатого столетий, что подготовило почву для того радикального расхождения, которое в настоящее время существует между психологией и ее интеллектуальными предшественниками?. Какое новое свойство было добавлено или обнаружено? Кто вбил этот клин? Мы можем лишь начать отвечать на эти вопросы, обсудив, совсем кратко, множество социополитических условий и созвучное с этими условиями исключительное влияние Галилея на его современников и непосредственных последователей. В предыдущих двух главах был обрисован политический климат Англии и Франции семнадцатого и восемнадцатого столетий. Дискуссии, поднятые Реформацией, и реакции на них в течение контр-Реформации оставались безнадежно и опасно неразрешенными. Религиозные преследования будут продолжаться в обеих странах до девятнадцатого столетия, религиозная же терпимость, которую всегда трудно оценить, станет политическим принципом только в конце того же столетия. Помимо смертельной борьбы протестантов с католиками, протестантов с протестантами, католиков с католиками, происходили бесконечные конфликты внутри братства европейских наций. Римская церковь, связавшая свою судьбу с аристотелизмом в его схоластическом понимании, сочла необходимым укрепить свою позицию по философским вопросам в тот период, когда интеллектуальная свобода достигла в Париже того же ранга, что и сама жизнь. Метод Декарта, базирующийся на сомнении и скептицизме как на составляющих исходной позиции, близко подошел к ереси. Сочинения Монтеня, насыщенные эразмовскими очарованием и дерзким умом, были осуждены и запрещены, что сделало их еще более популярными, чем они были бы при других обстоятельствах. Убийство Рамо, знаменитого анти-аристотелианца из парижского университета, давало либерально настроенным философам начала семнадцатого столетия еще одно основание для сопротивления авторитету аристотелизма. Однако, в отличие от всех своих предшественников, они располагали неопровержимым научным разъяснением провала Метафизики этого Философа: законами ускоряющегося движения Галилея и общими законами движения Ньютона. В томистских доказательствах существования Бога феномен движения играл центральную роль. Полагаясь на доводы Аристотеля в пользу первой причины, доказательство схоластов исходит из убеждения в том, что то, что находится в движении, будет стремиться к покою, если на него не воздействует внешняя по отношению к нему сила: это означает, что постоянное движение невозможно и, следовательно, небесную динамику можно трактовать только в терминах Перводвигателя, постоянно поставляющего необходимую силу. Планеты двигаются согласно воле Бога — отсюда готовая метафора для описания поведения человека как результата человеческой воли. Если бы движение планет не требовало никакого обращения к воле Бога, то этого не могли бы требовать также и действия людей. Более подробно об этом будет сказано дальше. Ньютон показал, что тела, приведенные в движение, будут продолжать двигаться линейно и постоянно, если на них не воздействует сила, противоположная их движению. Попросту говоря, после приведения тел в движение, воле Бога больше не нужно ничего делать для того, чтобы это движение продолжалось вечно. Оставим в стороне Бога — поскольку не Богу Ньютон адресовал свои заметки, — Аристотель был неправ. Он был неправ также, и Галилей доказал это, утверждая, что скорость, с которой предмет падает на землю, пропорциональна его массе (весу). Он ошибался также насчет неподвижности Земли и движения Солнца (вспомним, однако, что Аристотель в этом вопросе был далеко не догматичен). Если бы вклад Галилея ограничивался раскрытием простых фактологических ошибок в корпусе аристотелевой науки, его влияние на его собственный и на наш век было бы незначительным. Сила христианской веры никогда не зависела от представлений мудрецов; она покоилась на представлениях языческих греков о скорости, с которой камни и перья падают на землю. Еще менее она зависела от числа лун, вращающихся вокруг Сатурна, так как, сколько бы их ни было, все они куплены в одном и том же магазине. Но от того, каким образом мы блуждаем в своих поисках истины, ортодоксальная вера действительно зависела, и именно этому угрожал Галилей. В своих Беседах о двух новых науках3 Галилей в действительности изобрел науку механику, передал ее дальше в такой форме, которая почти не претерпела изменений, и связал каждую из ее теорем и утверждений с экспериментальным доказательством. Во всей этой работе Аристотелю приходится тяжко, даже тогда, когда ему приписывается истина. Например, у Аристотеля были некоторые мысли о принципе устройства рычага: отношение силы к сопротивлению определяется величиной, обратно пропорциональной отношению между расстояниями, отделяющими точку опоры от точек приложения силы и сопротивления; этот закон был сформулирован и доказан Архимедом. Галилей признал наблюдения Аристотеля относительно закона рычага, но, как обычно, с оговоркой:
Наиболее открытая атака на аристотелизм появилась в Диалоге о двух главнейших системах мира Галилея (1632)5. В год, следующий за появлением этой работы, ее автор предстал перед инквизиторами, которые вынуждали его отречься от еретического учения Коперника. Коперник умер уже девять лет назад, и Галилей не был единственным ученым-философом, проявившим приверженность его теории. Поэтому мы можем полагать, что инквизиторов беспокоило не просто учение Коперника, изложенное в Диалоге о двух главнейших системах мира, а насмешки, которыми осыпалась в этом диалоге позиция Аристотеля. Кеплер (1571–1630) выдвинул три закона планетарного движения, замечательных по своей простоте и предсказательной силе, и эти законы утверждали, что Земля движется вокруг Солнца по эллипсу. Галилей (1564–1642) принял копернико-кеплеровскую теорию и добавил к ней полный корпус земной механики. Уильям Гарвей (1578–1657), учившийся с 1598 по 1602 вместе с Галилеем и другими великими падуанцами, в 1628 г. опубликовал свою знаменитую работу о кровообращении. Надо отметить — как курьез истории, — что Гарвей был врачом Фрэнсиса Бэкона, однако Гарвея следует считать последователем научного метода Галилея: этот метод начинается с тщательного измерения природы — такой, какой мы ее находим; затем выдвигается простейшая из возможных гипотез, достаточная для объяснения полученных измерений; из утверждаемой гипотезы извлекаются логически выводимые из нее следствия; производится экспериментальная проверка следствий. Мнения других, какими бы они ни были гениальными, не играют никакой роли. К заключению об истине следует приходить после проверки, а не в результате диспута. Письменное свидетельство влияния Галилея — краткое посвящение, принятое образованным в 1662 году Королевским Обществом: Nullius in verba (“Ничего на слово”). До сих пор самым большим вкладом в науку семнадцатого, если не всех остальных столетий были (Principia) Исаака Ньютона. Для британских интеллектуалов семнадцатого столетия Ньютон (1642–1727) был святым — человеком, чье влияние распространялось далеко за пределы границ науки. Он был автором триумфального синтеза, соединившего теории Кеплера и Галилея в законе всемирного тяготения. Уже не было более необходимости требовать, как это делали аристотелианцы, чтобы к небесам и земле применялась разная физика. В диалоге День второй Галилей делает важное заключение:
Ньютон, не формулирующий никаких гипотез, кроме тех, которые требуют прямого наблюдения, расположил этот маленький шар внутри реальности, включающей в себя много других шаров, и полагал, что все они подвешены в соответствии с законом, безразличным к человеческой суете, вере или надежде. В Книге III своих Principia он предлагает “правила рассуждения” для философии:
Между 1609 и 1686, то есть за период человеческой жизни, Кеплер опубликовал свои законы движения планет (1609), Галилей описал солнечные пятна, неровную поверхность луны, “звезды” Юпитера (1609) и сочинил Механику (1632), Гарвей опубликовал свое Exertatio (1628), Декарт — свое Рассуждение о методе (1637), а Роберт Гук — Микрографию (1665), заложившую основу для микроанатомии. Если мы поинтересуемся, какими казались просвещенному зрителю следствия этого творческого штурма, то нам надо лишь вспомнить замечание Вольтера в Несведущем философе (The Ignorant Philosopher):
Метафора становилась реальностью. Вклад Декарта в современную ему науку произвел результаты, которые он не мог предвидеть. За три года до своей смерти он получил памфлет, опубликованный анонимно в Бельгии бывшим учеником Декарта Региусом. По своей форме этот памфлет годился для вывешивания на дверях церкви, по стилю это было подражание Декарту. Он полемизировал по вопросу о природе ума и рекомендовал потенциальным исследователям этого вопроса радикальный материализм. Он предложил двадцать одно утверждение и завершил одним из афоризмов самого Декарта: “Никто из людей не приобретает прекрасную репутацию за благочестие проще суеверных и лицемеров”9. Сами эти утверждения были бескомпромиссны. Разум — всего лишь то, что позволяет человеческим существам мыслить; логика не требует никакого различения разума и материи; все понятия образуются в уме благодаря наблюдению и традиции; ни одну идею нельзя назвать врожденной; восприятие есть мозговой процесс10. Региус пришел к такому взгляду в силу своих собственных склонностей и, возможно, из-за поспешности при чтении работы Страсти души, законченной в 1646 г. Эта работа не была опубликована вплоть до 1649 и Декарт сожалел о ее публикации. Региус либо читал эту работу в более раннем наброске, либо заключил, исходя из обсуждений этой работы с Декартом, что в ней поддерживается радикальная материалистическая позиция. Несколько разделов этой книги можно истолковать таким образом. Истоки животных духов располагаются в мозгу, так что раздражение, производимое стимуляцией чувствующего органа, находит отражение в действиях мускулов. В §16 Декарт особо отмечает, что стимуляция может произвести правильное действие без вмешательства души также и у животных, не имеющих душ11. Только мышление и страсти нуждаются в душе, чтобы они могли существовать. Восприятия, инстинкты, даже сновидения и фантазии вполне могут быть результатами телесной деятельности. Декарт быстро выразил свое несогласие с манифестом Региуса, отвергая его утверждения пункт за пунктом. В §20 Региус подвергает сомнению декартовские врожденные идеи, ответ Декарта поучителен:
Декарт продолжает свое опровержение, замечая еще в одном месте, что в объекте нет ничего такого, что можно было бы назвать содержащим имеющуюся у нас идею об этом объекте. Следовательно, все идеи врождены, хотя бы только в том смысле, что они обладают качеством, не выводимым из простой протяженности, составляющей, в конечном итоге, саму сущность объекта:
В отличие от аргументации из Страстей души, зачастую теологической по форме, в своем возражении Региусу Декарт обращается к доводу философского дуалиста: в физическом стимуле нет ничего, напоминающего умственный образ; мы не можем дать такое описание этого стимула, которое позволило бы нам вывести его психологические следствия. Этот довод, как мы увидим в последующих главах, нисколько не утратил своей убедительности в современном философском обсуждении психофизической проблемы. Памфлет, напечатанный в Утрехте, был еще не таким уж и раздраженным. Для сравнения скажем, что те вызовы картезианству, которые бросал Пьер Гассенди (1592–1655), были невероятно резкими и составили само основание анти-картезианства, расцветшего в восемнадцатом столетии. Во время своей жизни Гассенди относился к числу самых великих философов века. Его последователи были многочисленны и полны энтузиазма, его работы — влиятельны; его знание науки и математики — компетентно, или так, по крайней мере, казалось. Он рано прослыл вольнодумцем, написав в 1624 году работу Paradoxes against the Aristotelians (Парадоксальные упражнения против аристотеликов). Более значительно то, что он стал центром возрождения интереса к Эпикуру и поздним римским эпикурейцам. Опора на этот возрожденный эпикуреизм должна была заменить (картезианскую) дедуктивную “аксиоматическую” науку наукой наблюдательной; признать природу (в том числе и природу человека) материей; постоянно противостоять авторитету Аристотеля. Гассенди, не будучи скептиком, счел более простым занять скептическую позицию в тех условиях, когда единственной альтернативой была догма. Он принял такую ориентацию для критической атаки на картезианство, длившейся шесть лет и имевшей форму публикаций-опровержений, на которые, в виде публикаций же, отвечал Декарт. Мы рассмотрим лишь одну составляющую этого диспута — ту, которая была адресована дуализму Декарта. Стоит заметить, однако, что критические замечания Гассенди были всеобъемлющи и что профессор Крейг Браш (Creig Brush) написал: “К возражениям, сделанным Гассенди, современная философия может добавить немного или вообще ничего существенного14.” Во Втором и Шестом Размышлениях Декарт представляет свой психофизический дуализм, и именно опровергая эти Размышления, Гассенди предлагает монистическую альтернативу. Основным аргументам в пользу дуализма Гассенди противопоставляет протесты в духе Эпикура: (1) Зачем отрицать за телами возможность перемещаться без помощи души? Разве вода не течет и животные (которые, как считается, не обладают душами) не ходят15? (2) Поскольку существование всего того, что действует, каким бы оно ни было, очевидно, зачем “ходить вокруг да около” для того, чтобы установить, что вы (Декарт) существуете16? (3) Что означает считать Вас “только думающим ”? Зачем исключать другие возможности, например, что Вы есть поток воздуха, газ или тело? Даже если допустить, что Вы знаете себя только как думающего, из этого не будет необходимым образом следовать, что Вы, в то же время, не являетесь чем-то другим 17. (4) Как может разум рассуждать без мозга, если даже Вы (Декарт) нуждаетесь в том, чтобы мозг организовал и соединил восприятия и действия18? (5) Даже несмотря на то, что чувства иногда обманывают, часто они этого не делают, и обычно у нас есть средства определить, обоснованно ли данное восприятие, или же его обоснованность сомнительна19. (6) Если разум не обладает протяженностью, то в нем не может содержаться идея о протяженных вещах. Разум может заполняться посредством опыта лишь в том случае, если он, согласно своей материальной природе, снаряжен средствами реагировать на то, что является физическим. Можно сказать, что Вы составлены из двух тел, грубого и тонкого, и что непосредственно очевидно только первое из них. Говорить же, что Вы или Ваш ум не имеет протяженнности, бессмысленно20. Еще в большей степени, чем скептические возражения против дуализма Декарта, работы Гассенди отражают тот нетерпеливый тон, который испытывает любой модернист по отношению к уходящему веку. Гассенди был самым известным представителем круга провидцев, собранных и объединенных отцом Мерсенном в Париже. Все они находились под влиянием духа Галилея, их падуанского святого, чья экспериментальная и теоретическая наука являла собой последний и непобедимый вызов власти. Работы Гассенди были известны, они приводили в восторг Локка, чья эмпирическая философия заимствовала дух, если не букву, учения Гассенди. Ньютон тоже признавал приоритет Гассенди в выдвижении закона инерции. Хотя современная мысль непосредственно и не оказывается под влиянием какой-либо работы или открытия Гассенди, его позиция среди его собственных современников была очень влиятельна. Претензия Декарта построить биологию на кеплеровском основании, учредить математику наук о жизни, оберегая при этом душу от материализма, совпадала с претензией гассендистов, но уже без спиритуалистических ограничений. Стремление Декарта соединить физику и математику в неопровержимый корпус знаний, было неотъемлемым свойством также и гассендистской программы, но уже с заменой рационалистского элемента экспериментализмом Галилея. Гассендисты были первыми естественными монистами современной эры. Когда мы ссылаемся на истоки этой точки зрения, находя их во “французском материализме”, мы одновременно признаем роль Пьера Гассенди в истории научной психологии. Он произвел меньше исследований, чем вдохновил, но эта последняя сторона его влияния почти не имела параллелей. Томас Гоббс (1588–1679) и социальная машина Обсуждение Гоббса так же просто было бы разместить в любой из предыдущих двух глав, как и в настоящей. В текстах, посвященных истории философии, его обычно включают в число ранних эмпириков, основываясь на положениях, подобных приводящемуся в Части I Левиафана:
Но двумя главами позже Гоббс продолжает проводить различие между ощущением и рассуждением, отмечая, что последнее — “не нечто приобретенное одним лишь опытом” и что наука, которая есть знание следствий, — это нечто большее, чем простые данные чувств и памяти22. Поэтому, хотя Гоббс и эпистемологический эмпирик, ему удобен и методологический рационализм. На самом деле одним из важных источников его научного мышления был Галилей, гипотетико-дедуктивный метод которого предоставлял возможности, совершенно отсутствующие в методологическом эмпиризме Фрэнсиса Бэкона. Левиафан появился в 1651 году, когда его автору было уже за шестьдесят. Гоббс был воспитан на классике, к этой же области относились и его самые ранние работы. Его переводы Фукидида пользовались авторитетом. Он в течение пяти лет (1621–1626) был учеником и секретарем Фрэнсиса Бэкона, а позже, некоторое время, — наставником Карла II. Иногда его вовлекали в интеллектуальные дела “вольнодумцев” отца Мерсенна и именно благодаря им был подготовлен его визит во Флоренцию к Галилею. Влияние Гоббса на его современников, хотя оно проявилось поздно, было далеко не малозначительным, несмотря на тот факт, что список светил, активных в течение его долгой жизни, включал Декарта, Локка, Ньютона, Гассенди, Мильтона и Галилея. Левиафан это — длинная и неоднородная работа, занимающая семь сотен страниц современной печати, тематика которой простирается от питания до демонологии. С учётом наших современных интересов, оправдано внимание только к тем ее частям, которые выдвигают и защищают материалистический взгляд на человека и общество. Эта точка зрения покрывает всю работу в целом, но Часть I (О человеке) более всего вознаграждает наши теперешние интересы. Однако, прежде чем обратиться к ней, мы могли бы отметить основную цель Левиафана. Эта работа появилась через два года после окончания гражданской войны, но до того, как Кромвель стал именоваться Протектором (1653), и в то время, когда английские интеллектуалы всерьез взвешивали альтернативные возможности правления. Гоббс бежал во Францию, где в течение некоторого времени (1646–1647) он обучал другого изгнанника, будущего Карла II. Казнь Карла I (1646) вызвала смесь антироялизма и греха цареубийства. Мы могли бы, следовательно, сказать, что появление Левиафана было встречено неоднозначно. Он защищал абсолютную монархию, но основывал доводы не на королевских “божественных правах”. Реставрация монархии поместила Карла II на трон, и таким образом судьба Гоббса была, наконец, обеспечена. Однако реставрированная монархия все еще находилась перед лицом раздробленной страны, с истощенной материальной и нравственной силой, именно эти условия породили долгий период безнадежности в Англии и вдохновили Гоббса написать Левиафан. Поэтому Гоббса, как ранее Фрэнсиса Бэкона и позже Джона Локка, считают человеком, пытающимся противостоять голосам рока, пророкам апокалипсиса.
Одним словом, его целью было установление принципов, посредством которых можно предотвратить гражданский раздор. Его метод требует определения тех аспектов человеческой природы, которые ведут к войне и миру, и инструментов правления, которые будут далее работать с этой самой природой так, чтобы обеспечить национальное спокойствие. Метафора машины принята (хотя следует усомниться в том, что Гоббс считал это метафорой) и законы общества следует постигать таким же образом, как Кеплер и Галилей раскрывали законы физики. Именно Гоббс верил в то, что науку об обществе можно построить с такой же строгостью и надежностью, какими обладает наука механика. Наличие у людей разума позволяет им узнавать причинно-следственные отношения, поэтому, то, что они все еще терпят столь же рискованную и ненадежную жизнь, как и их предки, непростительно. Ведя себя таким образом, они всего лишь демонстрируют, что даже разумное создание подвержено абсурду. Гоббс полагал, что к числу основных абсурдов относятся: (1) отсутствие метода, которым мы могли бы пытаться пользоваться в своих рассуждениях до того, как договоримся о значениях обсуждаемых терминов; (2) такое смешение нематериального с материальным, при котором мы говорим, “вера вселилась”, не замечая, что “ничто кроме тела не может быть вселено или вдуто во что-нибудь, кроме тела,... и что протяженность есть тело24”; (3) продолжающаяся вера в реальность универсалий; (4) обращение к метафоре вместо реальности; и (5) увлечение схоластическими терминами вроде гипостатический, вечное теперь и т.п., не имеющими вообще никакой основы в опыте. Он не допустит ни одной из этих нелепостей. “Слова можно назвать метафорическими; тела и движения — нет25”. Гоббс будет говорить только о телах и движениях. Иначе говоря, при научном взгляде на человека его следует понимать как материю в движении; общество, при научном взгляде на него, следует понимать как людей в движении. План Гоббса — сначала основать своего рода биопсихический бихевиоризм, а из него вывести социологию. Научный анализ человека — то есть биопсихический бихевиоризм — начинается в Главе VI Левиафана. Главная переменная — ее вполне можно назвать переменной семнадцатого столетия — это движение. Гоббс исследует движение живых существ и отмечает, что оно бывает двух видов: непроизвольное (“органическое”) и произвольное (“анимальное”). Последнее, являющееся причиной всех наших печалей и радостей или чего-то похожего на них, есть движение, которое “предварительно представляется в нашем уме”, прежде чем его выполнят части нашего тела. Хотя мы и не наблюдаем источник этого движения непосредственно, оно есть ни что иное, как движение внутренних частей тела, движение, стремящееся отвечать потребностям тела. Это движение, следовательно, обусловлено потребностями, которые можно отнести к определенной категории под названием желание. Некоторые потребности прирожденны — таковы те из них, которые относятся к еде, питью и избеганию боли. Но огромное большинство наших желаний “возникает из опыта26”. Самое основное желание, безусловно, — желание сохранить жизнь. Первичное добро и первичное зло мы оцениваем в терминах наших желаний, а поскольку основным из них является желание жить, то под добром и злом мы будем понимать то, что, соответственно, либо обещает сохранить наши жизни, либо им угрожает. Для того, чтобы жить, мы должны иметь доступ к вещам, необходимым для жизни: пищи и защиты. Ресурсы ограничены, поэтому при отсутствии государственного правления мы вступаем в войну с нашими соседями. Мы стремимся к могуществу для того, чтобы предотвратить наше собственное разрушение. Мы ценим то, что обладает могуществом и дарует нам могущество, и таким же образом мы определяем значение, приписываемое нашим собратьям людям. “Ценность или Стоимость человека, подобно всем другим предметам, есть его Цена, т.е. то, что дали бы за пользование его могуществом27”. Не более, чем это, мы называем Достоинством. Государство оценивает человека по тому, что он может для него сделать. Статус его, следовательно, не является ни абсолютным, ни постоянным. Он сохраняется до тех пор, пока сохраняется его могущество28. Победа почетна, поражение — нет. Стоимость есть пригодность29. Наше стремление к могуществу побуждает нас к поиску причин, то есть к овладению наукой. Если нам этого недостает, то следует довольствоваться советами других. Именно занимаясь поиском конечных причин, мы открываем Бога, и, хотя мы никогда не можем познать природу Бога, мы можем заключить, и действительно заключаем, что Он существует, так же, как слепой человек заключает о наличии огня, если он ощущает тепло после того, как ему сообщили, что огонь нас согревает30. В той мере, в какой религия наделяет властью, она расценивается как добро и является желанной. Она будет различаться у разных культур и на нее будут влиять конкретные обстоятельства, с которыми встречается данный человек 31. Современный Западный читатель, знающий о приверженности Гоббса монархии и абсолютной государственной власти, часто удивляется, обнаруживая, что Гоббс пришел к этой позиции, исходя из предположения о естественном равенстве всего человечества. Левиафан, в самом деле, — наглядный урок тем, кто предполагает, что определенный философский или этический уклон логически влечет за собой определенную политическую или социальную программу. Доводы в пользу естественного равенства приведены в начале Главы XIII и длинная цитата здесь оправданна:
Из-за такого неустранимого равенства людей между ними нет барьера, достаточно прочного для предотвращения взаимных нападок. Иначе говоря, если бы имелись явные неравенства в способностях, то более сильный действовал бы безнаказанно; более слабый подчинялся бы без сопротивления. У каждого шансы на успех примерно такие же, как и у и остальных: у каждого человека — в сравнении с любым другим человеком, и у каждой группы — в сравнении с другой группой; и лишь из-за этого везде и всегда насаждаются семена войны. Естественное равенство приводит к самоуверенности и враждебности. И именно это создает возможность насильственной смерти, которой боятся все. Поэтому стремление к безопасности вынуждает каждого гражданина передавать личные полномочия во власть монархии. Обязанности подданных по отношению к своему суверену сохраняются лишь в течение того времени, и не дольше, пока “суверен имеет силу защищать их33”. Левиафан поистине удивительным образом соединил основные достижения философии семнадцатого столетия в странах, расположенных по обоим берегам Ла Манша. Как и Декарт, Гоббс отождествил материю с протяженостью. Примыкая к гассендистам, он настаивал на том, что только тело может воздействовать на тело и что только движущаяся материя может служить предметом научного исследования. Аплодируя Новому Органону Бэкона, он видел в работах Галилея то, во что должна была превратиться истинная наука: рациональный подход к природе, в котором теория всегда является служанкой факта. Гоббса, по понятным причинам, очень уважали утилитаристы девятнадцатого столетия. Его программа была прагматической, механистической, объективной и искусно эгалитаристской. Он не сумел найти никакого другого источника человеческого поведения, кроме желания выжить и благоденствовать. Мы не можем быть уверены в том, что здесь сказалось плодотворное влияние возрождения эпикурианства, начатое Пьером Гассенди, но предположение о наличии такого основания существенно. Психология Гоббса была материалистической, гедонистской, бихевиористской. Ум, хотя в нем и не сомневаются, подчиняется законам физики в точности так же, как и остальное тело! Узнать причины действий какого-то человека означает узнать желания этого человека, узнать его нужды. Главные среди них — это базовые биологические потребности выживания. Все остальные потребности, приобретаемые посредством опыта и традиции, в конечном итоге, черпают свою силу из этих. Во введении к Левиафану он писал: “поощрение и наказание (при помощи которых каждый сустав и член прикрепляются к креслу верховной власти и побуждаются исполнять свои обязанности) представляют собой нервы, выполняющие такие же функции в естественном теле... гармония и здоровье; смута и болезнь; гражданская война и смерть. ”34. Платон исследовал государство для того, чтобы, в достаточной степени укрупнив картину, получить возможность раскрыть природу человека. Гоббс также видел в государстве всего лишь “искусственного человека”. Разница, безусловно, в том, что Платон оценивал цели государства в терминах добродетели, Гоббс — в терминах полезности. Метафорой Платона было духовное начало; метафорой Гоббса — машина. Гоббса можно назвать основоположником не только одной из первых и наиболее влиятельных систем материалистической философии современности, но также и одной из наименее компромиссных версий эгоистической этики. Его особое внимание к мотиву личного выживания проявляется постоянно, всякий раз, когда он обращается к вопросам нравственности. Гоббс убежден в том, что так называемые щедрость, альтруизм и прочие способы выражения возведенного в принцип уважения к другим, следует, в конечном итоге, анализировать в терминах личной выгоды и эгоизма. В Главе 2 мы останавливались на классической аргументации в пользу эгоизма — аргументации, которую Фрасимах предложил как альтернативу сократовской, крайне рационалистической теории щедрости. Фрасимах не мог найти никакого основания верить в то, что хранитель кольца Гига откажется воспользоваться тем, что дает состояние невидимости. Зачем бы кто-то стал медлить с удовлетворением каждого и всякого желания, если бы не страх наказания? Какая причина могла побудить Смита спасти Джона, кроме возможности получить награду или стремления заполучить основание для взаимности? Смягчение Сократом явного противостояния между эгоизмом и альтруизмом базируется на теории о том, что просвещенный индивидуум может найти счастье только в тех действиях, которые хороши сами по себе. Поэтому просвещенным не могут принести счастья действия, лишенные щедрости или безразличные к нуждам государства. Заметим, однако, что такое решение легко играет на руку учению Гоббса. Гоббс, даже если бы он принял теорию Сократа, все равно смог бы настаивать на том, что основным мотивом для человека служит счастье. Смит, конечно, может совершить поступок в интересах государства, но делает он так потому, что это доставляет ему удовольствие. Эгоистическая этика Гоббса, подобно его материалистической философии, также подвергалась ревизии. Ее разновидности сохранились в утилитаристских теориях и в тех теориях ценностей, которые обычно классифицируются как “ситуационистская этика”. Сентименталисты или сторонники теории “эмпатии” восемнадцатого столетия — мы уже упоминали Бернарда Мандевиля и Фрэнсиса Хатчисона — не могли избежать притягательности или вызова эгоизма. Вполне возможно, что человек создан так, чтобы участие к другим было у него врожденным, однако, чем такое участие отличается от удовольствия, доставляемого действиями определенного типа? От утверждения же о том, что ценностно-ориентированное мышление или поведение неизбежно эгоистично, невелик шаг до того утверждения, что человеку следует приспосабливать свои склонности, мнения и предрасположения, дабы это было удобно ему самому, его ego. Здесь, безусловно, имеются семена индивидуализма и либерализма. Из них возникнут конечные цели личного роста и личного успеха, определяющие коммерческий тон Викторианской Англии. Именно эти элементы этики Гоббса будут появляться снова на листовках Томаса Пэна, в антироялистской литературе революционной Франции, в реформе избирательной системы Англии (1832) и в наше время, почти ежедневно, когда свободные граждане радуются увеличению прав и уменьшению обязанностей. Если судить по постоянным и даже растущим признакам разочарования, проявляемым людьми, получившими самую большую долю эгоистических выгод, то можно заключить, что пониманию Сократа было доступно нечто глубокое и прочное по своей сути, нечто, упущенное или понятое неверно даже Гоббсом. Может ли человеческое существо найти удовольствие в действиях, самих по себе не являющихся благом? Наше время — время научных специализаций и, как подсказывает этот термин, “профессионализма”. Читая историю психологии, мы ожидаем встретить имена Фрейда, Вундта и обычных философов. Мы готовы восхищаться Декартом, который, с его интересом к философии, все же имел время для того, чтобы внести вклад в оптику и геометрию; Локком, чьи государственные интересы не помешали ему разработать теорию разума; Галилеем, чьё воображение было способно охватить астрономию, механику и философию науки. В своем восхищении мы превращаем этих людей в сирот, называя их “универсальными гениями”, относя их к исключениям из правила специализации. Такое отношение, хотя оно и понятно, с исторической точки зрения не является правильным. Если Локк был влиятельной фигурой в истории психологии, а он таковым, безусловно, был, то таким же был и Ньютон. Ученые семнадцатого столетия не были “профессионалами”. В важных отношениях они допускали единство науки в такой степени, к какой современная эпоха едва ли приближается. Ньютона, например, подтолкнула к разработке теории зрения, в частности, цветового зрения, его вера в то, что всемирный закон тяготения универсален и что его следствия для биологической системы должны быть столь же очевидными, как и для движения планет. Борелли, коллега Галилея, изучал физиологию мышц для того, чтобы применить принципы механики Галилея к тем системам, которые, благодаря случаю, оказались живыми. Декарт и Гоббс оба стремились основать свои эпистемологии на новой науке — науке механики. Декарт изобрел физиологическую теорию рефлексов, имея в виду ту же механику. Для него и для его научных современников было бы непостижимо, как может существовать “поведенческая наука”, не являющаяся, фактически, физикой. Даже Локк и Юм, не склонные рассуждать о биологической основе ума (мы можем предположить, что эта склонность отсутствовала у них из-за тех трудностей, которые были у Декарта с гассендистами), оба соглашались с тем, что этот вопрос должны решать “анатомы”. Иначе говоря, хотя Локк и Юм непосредственно не обращались к вопросу о материализме, они отметили научность этого вопроса. Юм выразил это явным образом.
Декарт говорил очень похожие вещи, но исключил животных из области разумного. Гассенди же бросил вызов этому ограничению, доказывая, что животные демонстрируют наличие памяти, желаний и даже определенной индуктивной способности. В научном климате второй половины семнадцатого столетия дуалистический путь Декарта многим казался слишком извилистым. Когда ньютоновская физика одержала триумф над физикой Декарта, авторитет последней во всех вопросах стал подвергаться сомнению, а то и был подорван. Его теория рефлекса, превратившая действие в следствие стимуляции, предназначалась для объяснения большей части всего нашего поведения. Многие полагали, что законы Ньютона, способные описать движение всего остального, должны быть непосредственно применимы к движению животных. (Вспомним замечание Вольтера, ведь именно Вольтер предложил вниманию французов работу Ньютона.) Вставка иллюстрация 2: Декартовская оптическая модель восприятия. Декарт полагал, что механизм рефлекса действует так, как иллюстрирует приведенный выше рисунок. Изображение стрелы передается мозгу через оптические нервы. Инвертированное изображение принимает правильную ориентацию внутри перекрёста зрительных нервов, откуда он передаётся шишковидной железе. “Духи” от шишковидной железы поступают к двигательным нервам в количестве, определяемом силой зрительного впечатления. Механизм, посредством которого духи реально передают энергию нервам, Декарт считал непостижимым. Работу Трактат о человеке Декарт не позволял публиковать при своей жизни. Она впервые появилась в 1662 году, через двенадцать лет после смерти Декарта и через семь лет после смерти Гассенди. Это — его наиболее биологическая работа и именно в данном трактате скрывающийся в Декарте монист всплывает ближе к поверхности. Трактат обращается к идее модели или “механического человека” с телом, подобным статуе. Этой статуе, предвосхищающей Кондильяка, Декарт придает возможности и функции, снаряжая ее сенсорным, моторным и рефлекторным механизмами. В этой работе Декарт вводит операцию обратной связи, подчёркивает мышечную основу внимания и связывает качество наших переживаний (или переживаний машины) с действием духов, исходящих из желудочков мозга или вливающихся через них. Эти духи состоят из мельчайших частиц, различающихся по массе и другим качествам. В силу этих материальных различий духи опосредуют разные эмоции и вызванные ими действия. За исключением способности к мышлению, такая машина почти совершенным образом моделирует реального человека:
Законы движения Ньютона идеально подходили для объяснения такой системы:
Сегодня мы считаем, что эти законы определяют способ реагирования предметов на воздействующие на них силы. В семнадцатом столетии это были законы “науки”, потенциально одинаково применимые и к механике умственной жизни, и к бильярдным шарам. Декартово понятие “животных духов” преобразовалось в vis nervosa (нервную силу), и законы рефлекса были перепоручены науке физике. Английский эмпиризм и французский материализм становились все более похожими. Гассендисты и другие анти-картезианцы могли отстаивать несостоятельность картезианской физики (одновременно подписываясь под теорией рефлексов), а эмпирические “философы-экспериментаторы” Англии могли закладывать начало большой программы превращения философии в науку. В обеих странах понятие рефлекса было основным. Со времен Опыта Локка британский эмпиризм был ассоцианистским. В восемнадцатом столетии внимание некоторых было сильнее приковано не к обсуждению ассоциации идей, а к обсуждению более механического соединения в более механическую сущность. То здесь, то там эксперименты начали внедряться в физиологию рефлекса и, двигаясь рука об руку, эти эксперименты и все механистические теории психологии вели к столетию материализма — к девятнадцатому столетию. Возможно, самое значительное открытие восемнадцатого столетия в плане эволюции психологического материализма сделал Луиджи Гальвани, доложивший в 1786 г. о результатах экспериментов по раздражению мышц лягушек электрическим током. До тех пор, пока не была открыта по существу электрическая природа взаимодействия нервов и мышц, в системе Декарта сохранялась тайна. Дэвид Гартли (1705–1757) уже опубликовал свои Размышления о человеке37, представлявшие психологию как науку, занимающуюся механизмами ассоциаций. Тезис Гартли — осознанно ньютоновский и преждевременный. Томас Рид был лишь одним из нескольких философов, отклонявших “науку” Гартли как совершенно не обосновываемую наблюдаемыми фактами. Таким образом, лишь после открытия, сделанного Гальвани, стало возможным развивать механистическую психологию, обладающую реальным техническим аппаратом. Такая психология нуждалась в биологическом эквиваленте сталкивающихся бильярдных шаров, каким-то образом осязаемом и измеримом. Гальвани сам не открыл нервный импульс, но он установил, что посредством применения электрического заряда можно вызвать сокращение мышц. Несколько ученых отклонили этот результат, к их числу относился и великий Александр Вольта, настаивавший на том, что человеческое тело даже не способно проводить заряд. Их недовольство было остроумно отвергнуто одним из самых изысканных доказательств в истории науки о нервной системе. Маленького мальчика длинной веревкой прикрепили к крючку. На отдельном брусе подвесили листы золота, помещенные как раз перед носом мальчика. После этого быстро натерли стеклянный стержень кошачьим мехом и разместили против босых пальцев ног мальчика. Золотые листы немедленно притянулись к носу мальчика и теория электрической проводимости человеческого тела вступила в реальность неоспоримых фактов. Эксперимент еще раз одержал триумф над догмой. Примерно в то же время, когда Дэвид Гартли настаивал вместе с Гоббсом, но без доказательства, на том, что “каждое действие следует из тех условий, в которых до его совершения находились тело и ум, причем следует таким же образом и с такой же определенностью, как другие следствия вытекают из своих механических причин38”, Роберт Вритт (Robert Writt) (1714–1766) повторил эксперимент, проделанный несколькими годами раньше физиологом Стефаном Хейлзом (Stephen Hales). Хейлз заметил, что обезглавленную лягушку можно побудить двигать своими конечностями, если их щипать. Даже не имея мозга, лягушка будет избегать болезненных стимулов, передаваемых конечностям. Хирургическое отделение спинного мозга, однако, устранило эту реакцию. В своей работе “О жизненных и прочих непроизвольных движениях животных” (“On the Vital and Other Involuntary Motions of Animals”, 1751 г.) Вритт утверждал, что спинной мозг может служить посредником между стимулами и реакциями в случае отсутствия активности головного мозга39. То, о чем рассуждал Гартли, Вритт доказывал, причем доказывал столь убедительно, что ньютоновская биология казалась просто вопросом времени. Понятие “ассоциации” и ее механический эквивалент, “рефлекторная дуга”, имели тот же статус в физиологии восемнадцатого и девятнадцатого столетий, какой “притяжение” имело в физике семнадцатого и восемнадцатого столетий. Во вступительной главе к Размышлениям о человеке Гартли поясняет, что за сложная связь соединяет нарождающуюся психологию с возмужалой физикой:
После этого в статье приводится девяносто одно утверждение относительно умственной жизни, часть этих утверждений охватывает простейшие чувства, другие же предназначены для объяснения языка, эмоций и снов. Все они базируются на понятии механического взаимодействия между органами чувств и моторными системами. Объединяет эти две системы мозг. Когда на нас воздействуют стимулом, в нервах возникают вибрации, которые передаются в мозг. После устранения стимула вибрации продолжаются, уменьшаясь как функция от времени. Память, с этой точки зрения, есть затухающая вибрация, вызванная прошлым событием. Обучение есть установление той связи, которую Ньютон назвал “тонкими силами”, а Юм описал как “слабые силы”: то есть связи между физическими событиями в мозге. Все это очень близко выражает следующая теорема:
Так же явно выразился и Юм. События, происходящие вместе, в неизменной последовательности, часто начинают трактоваться как причинно связанные. Декарт, описывая механизм осуществления действия недуховного характера, уже определил анатомические механизмы, посредством которых совершаются такие сенсорно-моторные события. Ньютоновские “вибрации” были всего лишь самой ранней формой vis nervosa. Гартли находит поддержку даже в “предустановленной гармонии” Лейбница, освобождающей этого философа от необходимости объяснять, как нематериальная душа непосредственно приводит в действие материальное тело. В работе Гартли, таким образом, осуществлен один из великих синтезов восемнадцатого столетия. Он объединяет физику (и метод) Ньютона с физиологией Декарта; он избегает теологической дилеммы, обращаясь к параллелизму Лейбница; он допускает эмпирический ассоцианизм Локка и Юма; он предполагает, подобно Юму и любому английскому сапожнику, что удовольствие и боль это — клей, скрепляющий наши ассоциации. Размышление о человеке Гартли, возможно, более, чем какая-либо отдельная ранее опубликованная работа, является трактатом по современной психологии. Ее влиятельность в девятнадцатом столетии, как мы увидим в следующей главе, была значительной. Светила французского Просвещения, атеисты и теисты, монархисты и анархисты — все разделяли презрение к догме. Центром и двигателем этого движения был Вольтер. Он восхищался Англией, горячо писал об англичанах, хвалил их за эгалитаризм, противодействие Римской Церкви и терпимость. В то время как история показала, что аплодисменты Вольтеру были излишне щедрыми, тем не менее, нет сомнения в том, что католическое влияние во Франции восемнадцатого столетия было угнетающим. Просвещение во Франции нельзя назвать источником философских перспектив долговременного значения, это было, по существу, политическое движение, принявшее обличье интеллектуального деяния. Неудивительно, что наиболее оригинальным философом-мыслителем этого круга был Руссо, и что единственный его значительный вклад в философскую мысль содержится в его дополнениях к теории “общественного договора”. Как политические фигуры, деятели Просвещения видели в новой науке и философии своего века то орудие, которое могло бы защитить их от крайностей ортодоксии и, более того, могло бы вбить клин между усвоенными религиозными истинами и самодовольной массой верующих. Политизированная философия, как и “политическое искусство”, может давать неожиданные эффекты, но они не продолжительны. Она может волновать людей, но она не развивает ту научную дисциплину, на вхождение в которую претендует. Вольтер сам познакомил французских интеллектуалов с Ньютоном, но никогда полностью не понимал ньютоновскую физику. Своей компетентностью в этом вопросе он во многом был обязан мадам дю Шателе. Это не означает, что Вольтер просто перевел и расхваливал содержащиеся там законы. Скорее, здесь следует лишь заметить, что реальный интерес Вольтера к ньютоновской физике был вненаучным. Он нашел в Ньютоне еще одно основание для того, чтобы противостоять картезианству. То же самое можно сказать о Кондильяке (1715–1780), который перевел Опыт Локка на французский и чей Опыт исследования происхождения человеческих знаний остается одним из самых лучших исследований эмпирической философии Локка. Именно Кондильяк предложил рассмотреть “чувствующую статую”, стоящую на перепутье в мире стимулов, полагая, что психологические качества появляются в результате опыта. Именно “статуя” Кондильяка служила шаблоном для многих материалистических философий Франции конца восемнадцатого и начала девятнадцатого столетий. Однако Кондильяк не интересовался конкретно материальным базисом ума и еще менее — физиологией. Не был он и просто последователем локкианцев42. Скорее, он был увлечен антиметафизической альтернативой английской школы, философией опыта, прославлявшейся как Вольтером, так и в не меньшей степени родственником самого Кондильяка д'Аламбером. И снова, это было не просто движение в сторону Англии, а движение прочь от Декарта. Кондильяк был священником. Ясно, что врагом его была не церковь. Его врагом была догма и в особенности — философская догма, замаскированная под религию. Мы уже видели, что аристотелизм был одной из первых потерь во французских религиозных войнах. “Новые науки” Галилея расценивались деятелями Просвещения как решительные опровержения перипатетической философии, хотя, как следует отметить, их понимание физики Галилея было более полным, чем их понимание Метафизики Аристотеля. Картезианство вскоре приобрело чересчур увеличенные размеры, настолько же авторитарные, как и -изм, столь недавно отвергнутый. Французские интеллектуалы теперь были единодушны в своем противостоянии всякому утверждению, распадавшемуся перед лицом факта, и всякому высказыванию, не поддерживаемому данными опыта, исключение составляли лишь высказывания, излагавшиеся тихо и робко на языке простой веры. Они уже более не считали научными томизм или картезианство. Еще важнее то, что они более не основывали управление, социальный диалог или повседневные дела жизни на том, что претендует на внимание лишь в силу привычки или авторитета. Легкомысленно датировать идею и опрометчиво датировать большие социальные движения. Восемнадцатое столетие было столетием революции, таким же было шестнадцатое и, конечно, семнадцатое. Социальные политические и экономические изменения, наиболее зримо начавшиеся в тот период, который мы столь запросто выделяем как Реформацию, — это изменения, все еще происходящие в наше собственное время, причем часто с революционным рвением и революционными последствиями. Поэтому может быть лишь апологетическим выдвижение кем-то тезиса о том, что Гассенди, Ньютон, Вольтер, Руссо и их менее значительные современники создали революционную перспективу, кульминировавшую в революции классов. Лучше и точнее изложить этот тезис следующим образом: реформация была атакой на общественные институты и эта атака развилась настолько, что охватила саму идею власти. Гоббс ввел вызывающее утилитаристское представление о том, что обстоятельства, оправдывающие действия правительств, следует искать в безопасности, даруемой ими жизни человека. Галилей и Декарт, будучи учеными, содействовали передаче по наследству того аристотелева бастиона, который так долго защищал требования казенной власти. Дополнительным вкладом Декарта было опубликование его главных работ на народном французском — такую политику приняли все последующие основные французские философы. Локк, Юм и их континентальные современники, Гассенди и Кондильяк, трансформировали социальную реальность в прочные философские системы. Тем самым не утверждается, что они были апологетами этого движения. Однако, отклоняется предположение о том, что они послужили причинами этого движения. Они были, как мы предпочитаем говорить, его участниками, причем очень влиятельными. Мы отмечали в начале Главы 7, что эмпирическая философия не влечет, в логическом смысле, материализм. (Беркли охотно проявлял себя как эмпирик, но был искренним нематериалистом.) Но для человека, верящего в то, что ум оснащен только опытом, для философа, который не может найти никакого источника знания за пределами чувств, шаг к психологическому материализму краток, логичен по отношению к неприятию противоположного. Метафора статуи Кондильяка это — материальная метафора. Вибрации Гартли — никогда не виденные ни Гартли, ни кем-либо другим — даже изображались не как метафоры, а лишь как невидимая реальность. Вспомним, что Локк и Юм определенно избегали соблазна теоретизировать по поводу материальных причин ощущения и ассоциации. У Гартли, современника Юма, уже проявлялась та притягательность материализма, которая присуща эмпирикам. Гоббс уступил ему под влиянием Галилея; Гартли — под влиянием ньютоновской физики. На самом деле, существует такая трактовка дуалистической психологии Декарта, при которой она понимается не как расширение эмпирической философии. В 1748 г. появилась книга, называющаяся Человек-машина43. Ее автор, Жюльен Офре де Ламетри (1709–1751) был врач, придворный Фридриха Великого, по своей воле отправившийся в эмиграцию, и самый смелый психологический материалист, которого породила Франция. Эта книга вызвала потрясение еще более сильное, чем его же Естественная история души (1745), неожиданное бесстыдство которой вынудило Ламетри переехать в Боварию. Обе книги были относительно короткими, в высшей степени полемичными и едва ли философскими или научными в том смысле, который этим прилагательным, строго говоря, приписывается. Именно в Человеке-машине душа сводится к “просвещенной машине”, психологические же способности человека — только к физиологии мозга. “Доказательства” этих утверждений Ламетри выводит из наблюдения фактов, во всех прочих отношениях, нерелевантных, например, из того, что цыплята могут продолжать бегать после лишения их головы, а только что вынутое сердце животного “выпрыгнет” из кипящей воды. Авторитетными источниками для него были не только истории о несчастных случаях в боях, рассказанные ему военнослужащими, сюда же относились и некоторые его собственные клинические наблюдения. В обеих книгах нет ничего такого, что современный нейрофизиолог или физиологический психолог стал бы рассматривать с большой серьезностью, и еще менее — такого, на чем современные философы, с их живым умом, остановились бы, дабы перечитать это снова. Работа Человек-машина обладает историческим значением, но не потому, что она была особенно влиятельна, влиятельнее любой официально осужденной книги. Важен ее стиль: отрывочный, высокомерный, лишенный склонности к самокритике. Это — такого сорта книга, которые пишут для того, чтобы бросить вызов или сомнение. Она вызывающа, однако, тот самый дискуссионный вопрос или мнение, которое составляет вызов, редко бывает ясным. Если бы врагами считались те, кто настаивал на наличии у человека бессмертной и бестелесной души, то тот факт, что цыплята бегают после обезглавливания, крайне неуместен. Если бы врагами считались картезианцы, верившие в то, что душа управляет волей, направляя свое влияние из области мозга, то поведение сердец, брошенных в воду, выходит за рамки обсуждаемого вопроса. Подытоживая, в каких отношениях человек является материей, Ламетри продолжал настаивать на том, что человек — это только материя, что, однако, как мы знаем, нельзя установить посредством материалистских методов, не связывая себя ошибкой petitio principii. Если Ламетри и оказал прямое влияние на кого-либо из своих последователей, то это был Пьер Кабанис (1757–1808) — один из сенаторов Наполеона и ведущее светило французского матриалистического движения. На путях развития психологии, однако, и Ламетри, и Кабанис привлекли больше внимания, чем то, которое оправдывает история. Гассенди и гассендисты основали психологический материализм. Сравниться с ними по непосредственному влиянию не может даже Гоббс. Ламетри и Кабанис, оба врачи и оба лишенные той тонкости ума, которую требует философия, внесли мало в исторический спор между материалистами и дуалистами и ничего не внесли в ту науку, которую создавали первые. Оба были продуктами гассендистской традиции и оба демонстрировали нео-эпикуреанскую установку философии Гассенди. Для обоих счастье и нравственность в не меньшей степени, чем чувство и действие, следовало понимать в материалистических терминах и рассматривать как предметы научного анализа. Никто не являлся автором bona fide i материалистической системы. Не был таковым, конечно, и Гассенди. Такая система, безусловно, носилась в воздухе. Это была система Галилея и Ньютона. Но в отличие от Галилея и Ньютона, французские материалисты не были физиками, не были проницательными философами и, вообще говоря, не были даже учеными. Они некритично приняли психофизический изоморфизм и были поэтому убеждены в том, что законы физики, законы общества и законы психологии — это всего лишь три версии одних и тех же материальных принципов. По иронии судьбы данные авторы — Д'Аламбер, Ламетри, Кабанис — более близки доминанте современной перспективы, чем какой-либо из их более знаменитых собратьев. Они чувствовали то, что либо ускользало от внимания, либо вызывало трудности, либо не могло заинтриговать Локка, Юма, Лейбница и Канта, — растущую возможность союза философии и анатомии. Это была энергичная группа, навязывавшая совместимость там, где даже для рассуждения о совместимости не было никакого основания, кроме энтузиазма. Они смотрели в следующее столетие.
Психологический материализм не возник в вакууме, его не следует также понимать просто как следствие упреков гассендистов в адрес картезианства. Мы уделили наибольшую часть нашего внимания Галилею и Ньютону, до настоящего времени являющимся самыми значительными учеными семнадцатого столетия, людьми, давшими самый большой импульс науке восемнадцатого столетия. Наука, однако, вдохновлялась и многими другими, хотя и меньшими, вкладами. Например, Ламетри обучался вместе с великим датским врачом Германом Бёравом (Hermann Boerhaave) (1668–1738), чей трактат по химии отрицал витализм и настаивал на том, что все жизненные процессы сводимы к химическим процессам. Антуан Лавуазье (1743–1794) убедительно продемонстрировал принцип сохранения материи, проведя эксперимент по конденсации и сбору пара, образующегося при кипении воды. Представление о материи как о “несотворенной и неразрушимой” относится к позднему восемнадцатому столетию (если, как обычно, не принимать в расчет древнегреческих авторов) и имеет очевидные религиозные следствия. Тот же самый Лавуазье выдвинул теорию химических элементов и, в философской атмосфере, эта теория предлагает обещание свести загадочное разнообразие природы к ее строительным блокам. Мы могли бы подчеркнуть растущие материализм и научность эры Ламетри, отметив, без обсуждения, ученых, бывших активными и известными в то время: Джозеф Блэк (Joseph Black) (1728–1799), Шарль Кулон (Charles Coulomb) (1736–1806), Бенджамен Франклин (1706–1790), Луиджи Гальвани (на которого мы уже ссылались), Стефан Хейлс (Stephen Hales) (1677–1761), Албрехт фон Галлер (Albrecht von Haller) (1708–1777), Карл Линней (Karl Linnaeus) (1707–1778), Джозеф Пристли (Joseph Priestley) (1733–1804). Именно научные достижения этой группы убедили некоторых из самых тонких умов девятнадцатого столетия в том, что вечные вопросы могут, наконец, получить ответ, причем ответ позитивный. 1 David Hume, A Treatise of Human Nature, Book I, Pt.I, Sec.II, edited by L.A.Selby-Bigge, Clarendon, Oxford, 1973. Цит. по: Д.Юм. Трактат о человеческой природе. — Соч. в 2 т. М.: Мысль Т.1, 1965. 2 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, translated by Norman Kemp Smith, St.Martin's Press, New York, 1965. Цит. по: И.Кант. Критика чистого разума. СПб.: ТАЙМ-АУТ, 1993. 3 Galileo Galilei, Dialogues Concerning Two New Sciences, translated by Henry Crew and Alfonco de Salvio, Macmillan, New York, 1914. Цит. по: Галилео Галилей. Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки, относящихся к механике и местному движению. М.-Л., 1934. 4 Там же, p.110. Русский перевод: с.218. 5 Galileo Galilei, Dialogue Concerning the Two Great Systems of the World, in Classics of Modern Science, edited by William S.Knickerbocker, Appleton-Century-Crofts, New York, 1927. Цит. по: Галилео Галилей. Диалог о двух главнейших системах мира птоломеевой и коперниковой. М.-Л.: Гос. изд-во технико-теоретической лит-ры, 1948. 6 Там же, The Second Day. Русский перевод: с.101. 7 Isaac Newton, Philosophae Naturalis Principia: I. The Method of Natural Philosophy, in Newton's Philosophy of Nature, edited by H.S.Thayer, Hafner Publishing Co., New York, 1953. Цит. по: Исаак Ньютон. Математические начала натуральной философии. М.: Наука, 1989. С.502–504. 8 Voltaire, The Ignorant Philosopher, cited in A History of Modern Science, W.C.Dampier, Canbridge University Press, 1966, p.197. Цит. по: Вольтер. Философские сочинения. М.: Наука, 1989, с.330. 9 Ответ Декарта на данный памфлет включает доводы самого памфлета. Этот ответ опубликован в: The Philosophical Works of Descartes, Vol.I, translated by Elizabeth S.Haldane and G.R.T.Ross, первая публикация в Cambridge University Press, 1911 и переиздание в Dover Publications, New York, 1955. 10 Там же, pp.433–434. 11 Там же, p.339. См.: Р.Декарт. Соч. в 2 т. Т.1, 1989. С. 490. 12 Там же, p.442. 13 Там же, p.443. 14 The Selected Works of Pierre Gassendi, edited and translated by Craig R.Brush, Johnson Reprint, New York, 1970. Вводные замечания профессора Браша особенно полезны для установления обстоятельств написания работ Гассенди. 15 Там же, p.174. 16 Там же, p.173. 17 Там же, pp.189–190. 18 Там же, pp.194–195. 19 Там же, pp.266–268. 20 Там же, pp.269–275. 21 Thomas Hobbes, Leviathan, Pt.I, Ch.3, Pelican Classics, Penguin Books, England, 1974. This is the edition edited and discussed by C.B.Macpherson. Цит. по: Т.Гоббс. Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гражданского. — М.: Гос. соц.-эк. изд., 1936. С.50. 22 Там же, Pt.I, Ch.5. Русский перевод: с.62. 23 Там же. Ch.3. Русский перевод: с.49. 24 Там же. Ch.5. 25 Там же, Pt.I, Ch.5. Русский перевод: с.62. 26 Там же. Pt.I, Ch.6. Русский перевод: с.65–66. 27 Там же, Pt.I, Ch.10. Русский перевод: с.90. 28 Там же. 29 Там же. Русский перевод: с.96. 30 Там же, Pt.I, Ch.11. Русский перевод: с.101–102. 31 Там же, Pt.I, Ch.12. 32 Там же, Ч.I, Гл.13. Русский перевод: с.113. 33 Там же, Ч.II, Гл.21. Русский перевод: с.179. 34 Там же, Introduction, p.81. Русский перевод: с.37–38. 35 David Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding, Sec.IX, in Essential Works of David Hume, edited by Ralph Cohen, Bantam,New York,1965. Цит. по: Дэвид Юм. Исследование о человеческом разумении. М.: Прогресс, 1995. С.141–142. 36 Rene Descartes, Treatise of Man, текст на французском с комментариями и переводом: Thomas Steele Hall, Harvard University Press, Cambridge, 1972. Это замечательное и очень нужное издание содержит важные замечания профессора Холла (Hall), устанавливающего те до-картезианские авторитеты, на которые полагался Декарт, конструируя свою психобиологическую теорию. 37 David Hartly, Obsrevations on Man, in Between Hume and Mill: An Anthology of British Philosophy 1749–1843, edited by Robert Brown, Random House, Modern Library, New York, 1970. 38 Hartley, Observations on Man, p.84. 39 Robert Writt, An Essay on the Vital and Other Involuntary Motions of Animals, Hamilton, Balfour and Naill, Edinburgh, 1751. 40 Hartley, pp.5–16. 41 Там же, p.29. 42 Etienne Bonnot de Condillac, An Essay on the Origin of Human Knowledge, Being a Suuplement to Mr. Lock's Essay on the Human Understanding. Наиболее полезным изданием является факсимильное воспроизведение перевода 1756г. (его осуществил Thomas Nugent). Это факсимильное издание, введение к которому написал Robert Weyant, было опубликовано в: Scholars' Facsimiles and Reprints, Gainesville, Florida, 1971. Особенно отметьте дискуссию профессора Weyant на стр.17–18. 43 Julien Offrey de La Mettrie, L'Homme Machine, Leiden, 1748. Имеется перевод на английский, который осуществил M.W.Calkins. Глава 10. Девятнадцатое столетие: авторитет науки Замечания о долге девятнадцатому столетию Современная психология в своих самых широких очертаниях остается деянием девятнадцатого столетия. Это ни в коей мере не означает, что она “старомодна” или отстает от времени. И все же, надо отметить, что проблемы, поглощающие энергию современного психолога, либо были явно обозначены в девятнадцатом столетии, либо введены теми, в основе образования и культуры которых лежат уникальные взгляды девятнадцатого столетия. Среди тех современных психологов, которые могут претендовать на значительный вклад в направление, по которому пошло развитие этой дисциплины, только Б.Ф.Скиннер (1904–1989) родился в двадцатом столетии. Все остальные — Лешли, Пиаже, Фрейд, Адлер, Галль, Павлов, Толмен, Келер, Уотсон, Дьюи и Джемс — плоды рассматриваемого сейчас столетия. Это — не просто факт, а факт, заставляющий задуматься, факт, через который многое открывается. Современная психология не является “современной” в том смысле, в котором современны физика или биология. Недавние открытия молекулярной биологии гена преобразовали генетику в дисциплину, которую вряд ли узнал бы Мендель, а общая теория относительности потребовала от современного физика смотреть на ньютоновскую вселенную через эйнштейновы линзы. В психологии ситуация действительно совершенно иная. Все ее теоретические проблемы — от изучения личности и развития ребенка до исследований нейрофизиологической основы эмоций или языка, до попыток понять детерминанты социальных и национальных движений — можно свести непосредственно к мыслям и экспериментам психологов и “натурфилософов” девятнадцатого столетия. Физики более не проверяют обоснованность закона Ома и не стараются понять, действительно ли существуют токи смещения Максвелла. Они не связывают свою жизнь с повторением экспериментов, подтверждающих закон сохранения энергии или углового момента. Они также не ищут “эфир” и не настаивают на том, что свет должен быть либо корпускулярным, либо волновым. В области физики все еще существуют некоторые проблемы, и очень важные, которые коренятся в девятнадцатом столетии. Однако для рассмотрения этих проблем сейчас используется не физика девятнадцатого столетия. То же можно сказать о химии и более развитых ветвях биологии. В современной же психологи сохранились не только проблемы девятнадцатого столетия, но и многие из разработанных в том же столетии методов. Еще более важен тот факт, что современные взгляды во многом переданы потомству учеными того времени. Пояснения к этому будут даны в следующей главе. Сейчас нам следует лишь помнить о том, что в ходе изучения психологических достижений философов и психологов девятнадцатого столетия предмет нашего исследования лишь частично является историческим.
Великие британские философы, следовавшие по пути Локка, имели решительно научную ориентацию. Все они были почитателями Ньютона и все они пропагандировали новую “экспериментальную философию” или реально ею занимались. Некоторые, вроде Гартли, пошли по пути биологической психологии; другие, как Джон Стюарт Милль, занимались философией науки. Во Франции в число учеников Локка и Гассенди также входили философы, имевшие серьезную научную ориентацию, направлявшие свою энергию на решение определенных экспериментальных вопросов. В многовековом противостоянии природы и духа они прочно стояли на стороне натурализма. Но во Франции второй половины восемнадцатого столетия существовала не просто группа усердных ученых и глубокомысленных философов. Здесь жили философствующие деятели Просвещения, более сильно влиявшие на видение средними парижанами самих себя и своего мира, чем работы любых “почтенных” философов. Интеллектуальные основы Французской революции были заложены не Декартом, тем более — не Локком и Ньютоном. Скорее, они были созданы образованными мужчинами и женщинами, а не философами или учеными. Их сотворили драматурги, юристы и, как они себя называли, дилетанты. Самые известные из этого круга, конечно, Вольтер, Дидро, Руссо, Кондорсе и Д'Аламбер1. Гельвеций и барон Д'Гольбах, хотя они и не входили в этот узкий круг, вдохновлялись многими из основных положений программы философов и служили их выразителями. Если считать Джона Стюарта Милля апогеем эмпирической традиции девятнадцатого столетия, созданной Бэконом, Гоббсом, Локком, Ньютоном и Юмом, то источник Позитивной философии Огюста Конта следует искать во французском Просвещении. Милль и Конт ненадолго займут наше внимание. Но прежде чем обратиться к конкретным и научным работам девятнадцатого столетия, которые внесли свой вклад в развитие психологии, нам следует взглянуть на основные темы Просвещения. В предыдущей главе мы отмечали, что французские материалисты занимались наукой меньше, чем политикой и идеологией. Соответственно, влияние, оказанное работами Ламетри, Д'Гольбаха и других на науку их и последующего времени, было небольшим. То же следует сказать и об “энциклопедистах”. Ни Д’Аламбер, ни Дидро не предложили никакого метода и не произвели никаких открытий, послуживших отправной точкой для какого-либо важного начинания в науке или в психологии. Но, взятые в совокупности, философы создали отправную точку для всех последующих отступлений от ортодоксии. Они установили обычай мыслить свободно и сделали это так остроумно, с такими мастерством, воображением и проницательностью, что защитники status quo неизбежно оказывались объектом насмехательства . Их программа не суммирована ни в какой отдельной работе, и ни по одной из них нельзя сказать, что она дала импульс этому движению, однако вольтеровские Letters Concerning the English Nation2 (Философские письма) близки и к тому, и к другому. Подобно очень многим другим книгам Просвещения, эту книгу парламент также предписал сжечь (1734). Письма написаны в стиле импровизации, прекрасно подходившем вкусам и темпу жизни деловых и влиятельных французов. Письма хвалят пионерские усилия Декарта, но полностью отстраняются от его метафизики. Ньютона преподносят как мастера, а Бэкона — как его предвестника. То издание Писем, которое было осуждено парламентом, заканчивалось язвительной атакой на Мысли Паскаля. Суеверия Паскаля, его исторические ошибки, его доверие к случаю, его мрачность, — на все это были направлены уколы острейшей шпаги в Европе. Вольтер умер в 1778. В течение почти пятидесяти лет его работы и сама его личность составляли тот центр интереса, из которого распространялась наука Просвещения. Он был необыкновенно богат, и его влиятельность еще более возросла благодаря близкой дружбе с Фридрихом Великим Прусским, поэтом-деспотом и самым гуманитарным королем Европы. Пример Вольтера придал уверенность Дидро (1713–1784), чья Энциклопедия подверглась трудным испытаниям, будучи то отвергаемой, то принимаемой парламентом. В действительности, многие из этих важных работ, запрещенных во Франции, нашли путь к прусским издателям, благодаря посредничеству Вольтера. Утверждая превосходство локко-ньютоновской философии по сравнению с картезианством, Вольтер привел в движение дух сенсуализма, который вел к Кондильяку и Гельвецию. Последний (1715–1771) опубликовал работу Трактат о человеке, его умственных способностях и его воспитании3, в такой степени близкую к энвайронментализму i двадцатого столетия, как никакая из других работ, написанных до 1900 г. Именно Трактат отвергал наследственные различия как несущественные, а главную роль в определении характера и способностей индивидуума приписывал результатам воспитания, поощрению, наказаниям и опыту.
Вольтер также участвовал, через Дидро, в формировании материалистической философии барона Д'Гольбаха, чей материализм вскоре принял форму полемического атеизма. Именно Гольбах (1723–1789), в той же степени, что и Ламетри, считал механистическую составляющую психологии Декарта достаточной для объяснения морали, эмоций, интеллекта и языка. Именно Гольбах настолько оскорбительно ругался, выступая против укоренившейся религии, что на весь круг энциклопедистов вскоре стали смотреть как на состоящий из атеистов, en masse i.
Вольтеру приписывается авторство около двадцати тысяч писем к более чем тысяче различных адресатов. Его пьесы волновали массы, его идеи — философов. Его голос, более, чем любой другой одиночный голос восемнадцатого столетия, говорил о причине свободы, разума, закона, гуманистической этики. Он верил в Бога, но не был религиозным. Он верил в науку, но не внес никакого вклада в научную литературу. Подобно Дидро и Гельвецию, он получил иезуитское образование и на протяжении всей своей жизни уважал авторитет разума. Многие сожалели, что он слишком хорошо выучил свои уроки! Он не был революционером, так же как он не был и “демократом” в том смысле, в каком этот термин употребляется сейчас. Он, однако, настаивал на том, что конечная ценность любого государства коренится в его вкладе в благосостояние граждан, — идея, которую Руссо обессмертит в своем Общественном договоре. Он, энциклопедисты, растущая сила среднего класса, конфликты между королем и парламентом, между парламентом и церковью, между иезуитами и янсенистами — все это были семена революции и реформы. Все ведущие представители науки и естественной философии девятнадцатого столетия оглядывались назад на ученых Просвещения за поддержкой и вдохновением. Мы можем подытожить, что же они обнаруживали, оглядываясь назад. Во-первых, идею прогресса. В работах Вольтера, а более всего в рационалистическом материализма Дидро и Кондорсе, мы неоднократно обнаруживаем представление о личностной и культурной эволюции. В работе Сон Д'Аламбера4 Дидро говорит о видении целого как набора материальных частиц, о статуях, оживляемых путем материальных превращений и последующей эволюции. Кондорсе (1743–1794) в своей работе Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума5, написанной в то время, когда ее автор скрывался от мстительных фанатиков революции — то есть от тех, чьи новые свободы Кондорсе старался охранять, — тоже переложил на бумагу идею, придававшую силу девятнадцатому столетию в целом: идею прогресса. Вторая идея — идея природы. Если Вольтера, Дидро, Д'Аламбера, Кондорсе, Д'Гольбаха, Руссо и остальных вообще можно считать пребывающими в согласии по какому-либо отдельному вопросу — а расхождения между членами этой группы были значительны, — то в этом вопросе всё сходилось на философском натурализме. Мир и все в нем — это материя. Мир следует понимать как материю в движении. Человеческий разум, посредством которого такое понимание становится возможным, следует нацеливать на природу и раскрытие законов природы. Для сторонников Паскаля, настаивающих на том, что мы никогда не сможем узнать все, в те десятилетия звучал вольтеровский ответ, который доносится и до наших дней:
В идею природы включалась идея естественного закона как применимого ко всем сферам реальности. Именно в тот же самый период Тюрго и физиократы (physis = природа; krateo = сила, верховная власть) ратовали за экономическую политику “свободного рынка”, посредством которой “закон” спроса и предложения устанавливает “естественную” цену товаров и труда рабочего . Третья идея — идея персональной свободы. Самое значительное произведение Руссо начинается с преследующей его картины — изображения человека, рожденного свободным, но повсюду находящегося в цепях. Это — дух Просвещения, перенесенный англичанами в Америку и преобразованный ими в Права человека. Томас Пэн даже станет избранным членом послереволюционного Конвента, несмотря на то, что он вряд ли знал хотя бы слово по-французски. Кант умер в начале девятнадцатого столетия, но он в гораздо большей степени — человек эпохи разума, чем эпохи материализма. Он определил стиль немецкой философии девятнадцатого столетия в целом, и поэтому в немецком “натурализме” всегда не хватало сильных эмпирических составляющих натуралистических философий Франции и Англии. Иначе говоря, в немецкой философии станет акцентироваться трансцендентализм Канта7. Сочетание натурализма и трансцендентализма произвело уникальное немецкое творение — романтический идеализм, основным архитектором которого был Иоганн Вольфганг фон Гете (1749–1832). Именно поэзия Гете вдохнула в немецкоязычный мир дух Sturm und Drang i. Результатом его Страданий молодого Вертера (1774) была эпидемия самоубийств. В руках Гете натурализм был и панпсихизмом Лейбница, и созидательными силами Спинозы. Человек стоит безнадежно одиноко в огромной Вселенной, разрываемый жизненными стрессами, и обретая себя только благодаря своей собственной активности, благодаря своей жизни. Жизнь предназначена для того, чтобы прожить ее, быть активным, развивать свою личность, возвышая ее и расширяя. Жизнь есть любовь и страсть. Гете не хватало лишь кантовского отрицания телеологии для того, чтобы убедить себя в том, что единственная цель человеческой жизни — это определяющая ее деятельность. Природа — это всего лишь система противостоящих сил: жизни и смерти, света и тьмы, любви и ненависти.
Эмпиризм девятнадцатого столетия Мы заключили Главу 7 дискуссией об утилитаристской философии Иеремии Бентама и заметили, что эту систему модифицировали и распространяли многие, в частности, Джон Стюарт Милль (1806–1873). Приступая к рассмотрению эволюции эмпиризма — в данном случае в виде эмпирической психологии, — мы начнём с Милля. Нет нужды вникать в то, как в возрасте пятнадцати лет, произошло “обращение” Милля в бентамизм и философский радикализм. Его Автобиография8 широко цитировалась, а миссионерские труды его отца, Джеймса Милля, в пользу бентамизма уже снискали восхваление. Милль никогда не отступал от самых общих положений утилитаризма, но он все-таки увидел, что его базовая, бентамовская версия, была недостаточна для того, чтобы отвечать требованиям времени. В отличие от Бентама, пришедшего к философии через право и экономику, Милль отталкивалая от классики, логики и науки. Если Бентам писал высоким стилем универсалистов восемнадцатого столетия, то Милль был более систематичен и гораздо менее интуитивен. Его время было намного сложнее времени Бентама, и он правильно оценивал эти сложности. Поэтому в работе Милля О свободе мы не встречаем попыток “доказать” обоснованность свободы в терминах физики, математики или логики. В Системе логики мы также не обнаружим, чтобы Милль защищал индуктивный метод в терминах экономики или исходя из социальных соображений. Милль определенно является джентльменом девятнадцатого столетия — утонченным, образованным, либеральным, с изысканными манерами. Короче, он — человек нового времени, в том смысле, в каком мы обычно употребляем этот термин. Наиболее значительной психологической работой Дж.С.Милля была его Система логики (1843), сразу завоевавшая успех и использовавшаяся в научном сообществе в качестве справочника в течение всех восьми ее переизданий, осуществленных при жизни Милля. Основная часть работы посвящена описанию принципов индукции, несостоятельности чисто рациональных подходов к фактам, к методам, предназначенным для установления обоснованности вывода и роли дедуктивных процессов в науке. Современная наука продолжает полагаться на “методы” Милля, и то, с какой легкостью мы сами принимаем гипотетико-дедуктивный метод, можно приписать непосредственно той власти над человеческим разумом, которую завоевала Система логики. Немногие ученые конца девятнадцатого столетия читали Галилея; все они читали Милля. Наиболее важная для возникновения экспериментальной психологии часть Системы логики — это Книга II и особенно Главы III-VII9. Заложив основание всей науки, Милль затем обращает свое внимание на человеческую природу как на предмет науки:
Милль предлагает иллюстрацию из метеорологии. Мы не способны, как он говорит, определить все переменные, предшествующие появлению дождя, но все мы соглашаемся с тем, что дождь есть следствие законов природы. Поэтому предсказание погоды является попыткой вероятностного характера, и его всегда можно осуществить. Иначе говоря, это может никогда не превратиться в точную науку, но, тем не менее, — это наука.
Он отмечает, что предмет психологии охватывает мысли, чувства и действия человеческих существ, и что их нельзя предсказать с точностью, сколько-нибудь близкой к точности, достигаемой в астрономии. Это ограничение, однако, не свидетельствует о том, что психология не может быть наукой, или даже о том, что она не является наукой. Мы не можем предвидеть каждое обстоятельство, в котором мог бы оказаться индивидуум, а факторы, совокупность которых формирует индивидуальный характер, столь различны, что даже если бы мы знали эти будущие обстоятельства, мы все равно не были бы способны предсказать, как будет действовать индивидуум. Тем не менее, нам следует признать, что действия, чувствования и мысли имеют причины, что эти причины естественны и, в этом отношении, в принципе познаваемы. Некоторые из законов, согласно Миллю, действительно уже известны, и главные среди них — это законы ассоциации, которые Милль обобщает следующим образом12: Во-первых, существует закон Юма, согласно которому всякое умственное впечатление имеет свою идею. Если мы однажды испытали Х, то способны вспомнить Х без его реального предъявления. Мы устроены так, что можем сформировать идею или умственный образ того, что уже было объектом нашего восприятия. Во-вторых, существует закон связности (connection), согласно которому повторяющиеся одновременные (или непосредственно следующие друг за другом) предъявления двух стимулов вынуждают нас в случае последующего предъявления одного из них подумать о другом. Этот закон, на который ссылаются многие эмпирики, наиболее умело описан, как говорит нам Милль, Джеймсом Миллем, в работе которого Анализ феноменов человеческого разума этот закон выписан “рукой мастера”. Третий закон это — закон обмена интенсивности стимула на частоту его предъявления. Согласно этому закону, очень интенсивный Х оказывает то же воздействие на ум, что и более слабый Y, предъявляемый чаще.
Эмпирическая психология Милля не была радикальной. Он, конечно, искал причины индивидуальных различий в образовании и в общем культурном окружении, но в такой же степени он был убежден в том, что органические факторы могут быть, а, возможно, и являются ответственными за некоторые из наиболее драматических различий. Он отмечал достижения в области нейрофизиологии и неврологии и верил в то, что в свое время мы будем намного лучше понимать соотношение между физиологией мозга и законами ума. Однако, подобно Локку и Юму, он отказался занять какую-либо позицию относительно материальной основы мышления и отметил, что Гартли и его собственный отец проявили больше уверенности в материалистическом объяснении, чем это было оправдано доступными данными14. Эмпирическая психология Милля была консервативна еще в одном отношении. Признавая тот факт, что психология может и будет конструировать эмпирические законы, Милль, тем не менее, был склонен сомневаться в том, что наука психология когда-либо сможет выйти за эти пределы в своих попытках предсказать человеческое поведение, мысли и чувства. Под “эмпирическим законом” Милль подразумевал закон регулярности: Y следует за Х или совпадает с ним в данной ситуации, и мы можем заключить, что Y будет следовать за Х или совпадать с ним в любых ситуациях, в большой степени напоминающих данную. Однако, если ситуации различаются сильно, то мы не можем точно определить, какое отношение между этими событиями будет иметь место, и будет ли их связывать вообще хотя бы какое-то отношение. Поскольку окружение человека постоянно изменяется, поскольку история предопределяет еще большее различие ситуаций, законы психологии будут эмпирическими и будут обладать ограниченной общностью15. Пользуясь этими эмпирическими законами, позволяющими нам предсказывать реальные факты поведения, мысли и чувствования в данном ограниченном контексте, можно вывести более общие законы. Они не будут просто эмпирическими, а будут точными. Однако, цена, которую мы платим за эти точные законы, — то, что их можно будет применять не к фактам, а лишь к тенденциям. Иначе говоря, исходя из эмпирических законов ассоциации мы можем неточно предсказать, что у Генри Джонса образуется более сложная ассоциация между интенсивными стимулами, чем образовалась бы между слабыми стимулами. Может существовать порода людей, для которых это не выполняется; тем не менее, из этого “ситуационного закона” мы можем заключить, что, если уж есть в наличии хоть какая-то мысль, то сформируются и ассоциации. Заметим, что закон ассоциации не предсказывает, и даже не пытается предсказать, точный результат эксперимента. Скорее, он говорит о том, что, при прочих равных обстоятельствах, имеет место определенная тенденция. То, что прочие обстоятельства в окружении человека никогда не совпадают, означает лишь непроверяемость наших точных законов, а не то, что они не являются законами. Для выделения этой науки, полученной из эмпирических законов психологии, Милль вводит (изобретенное) имя “этология”. Согласно его пониманию, этология должна была быть наукой о характере, той дисциплиной, которая интересуется воздействиями условий среды на законы мышления, чувств и поведения. Это должна была быть “точная наука о человеческой природе”, суждения которой “только гипотетичны и утверждают тенденции, а не факты”16. Современная этология, конечно, имеет лишь слабое сходство с ожиданиями Милля. Мы не будем здесь вдаваться в тонкости плана этологии Милля, но прежде чем оставить эту тему, укажем на его нечеткое разграничение между тем, что подтверждает тенденцию и тем, что подтверждает факт. Стоит обратить внимание на то, какие слова в этом случае выбирает Милль, поскольку философский бихевиоризм ряда авторов двадцатого столетия (например, Райла) стал сильно опираться на понятие предрасположений и тенденций, противопоставляя их наблюдаемым фактам. Само упоминание о бихевиоризме (возможно, в силу одного из таких законов ассоциаций) наводит на версию миллевского утилитаризма. В противовес кантовскому категорическому императиву , в котором Милль усматривал потенциальное допущение “наиболее возмутительных безнравственных правил поведения”17, он принимает “теорию счастья”:
Мы расцениваем медицинскую науку как “правильную”, так как она ведет к здоровью, но у нас нет способа показать, что само здоровье есть благо. Мы принимаем это без доказательства, и, конечно, подтверждение этому — тот факт, что все или почти все человечество будет стараться обладать таковым. Милль парирует утверждение тех, кто отрицает полезность на том основании, что она не отличается от меры добродетели, используемую животными; он говорит, что в утилитаризме нет ничего такого, что говорило бы об ограниченности человеческого счастья удовольствиями плоти или животными потребностями. Допуская факты и потребности человеческого интеллекта, утилитаризм признает, что для людей самое большое счастье не ограничено только удовлетворением биологических нужд. Удовольствия различаются по качеству так же, как и по количеству, и ни один утилитарист этого не отрицает:
Изучающие современный бихевиоризм обнаружат в этом отрывке предвестника того представления, согласно которому подкрепление определяется именно организмом, а не психологом. Об удовольствии или качестве удовольствия следует судить в терминах того, к чему люди стремятся в случае доступности для них разных возможностей. Если люди могут проявить свои оценки в поведении, то избегают они именно страдания. И как бы ни пытался одаренный богатым воображением читатель примирить этот взгляд с некоторой версией кантовской морали, Милль делает свою собственную позицию совершенно ясной:
Таким образом, Милль не только сомневается в том, что интуитивист (то есть кантианец) сможет когда-либо доказать свою систему морали, но и утверждает, что даже если тот в каком-то отношении прав, то утилитаристская система может легко ассимилировать “естественные” удовольствия и страдания. Важный момент с точки зрения Милля — это понять источник той силы, которую имеют нравственные предписания. Этот источник есть не что иное, как удовольствие или страдание, вызванное нашими действиями или ожидавшееся как следствие наших действий. Если существует такая вещь как мораль долга, то ее санкции исходят из этого и только этого соображения. Связь между утилитаризмом и эмпиризмом непосредственна. Если морали надлежит быть познаваемым предметом, то у нее должно быть фактическое основание. Последнее же требует, чтобы составляющие любой философии морали были наблюдаемыми, а ее утверждения — в принципе проверяемыми. В этом смысле утилитаризм, согласно точке зрения его приверженцев, является единственно научной системой морали. Действия человека можно оценивать в терминах их следствий. Когда те, на кого они направлены, судят о них как о приносящих счастье, эти действия могут расцениваться как нравственные. Когда следствия, согласно оценке тех, на ком они реально или потенциально сказываются, болезненны, действие не является нравственным. Все прочие апелляции должны сводиться к утилитаристской. Все прочие стандарты должны сводиться к субъективным последствиям для реальных людей. Мы рассмотрели консервативные элементы эмпирической психологии Милля, и сейчас нам следует перйти к рассмотрению радикального характера его эмпирической философии. В отличие от своих предшественников Локка и Юма, хотевших исключить из общей реальности эмпирической науки хотя бы необходимые истины математики, Милль утверждал, что даже эти истины, в конечном итоге, следует понимать как следствия опыта. Определяя материю как “постоянную возможность ощущения”, он утверждал феноменализм в качестве фундаментальной эпистемологии. Это не следует смешивать с идеализмом ни в каком из его вариантов, поскольку Милль убежденно верил в материю. Скорее, он довел догматы эмпирической эпистемологии до их логического завершения, которое на самом деле требует, чтобы все утверждения о материальном мире имели перцептивные составляющие или референты. Следовательно, в той мере, в какой высказывания математики являются высказываниями о реальном мире, их источник также должен находиться в чувственных данных. Это — философский, а не психологический вопрос, и он выходит за пределы нашего рассмотрения. Достаточно, однако, указать на то, что из-за этого свойства эмпиризма Милля вся его система остаётся и сейчас во многих отношениях сомнительной.21 На Милля влияла не только британская традиция, но также и более поздние современники во Франции. Основным среди них и одной из наиболее значительных фигур в экспериментализме девятнадцатого столетия был Огюст Конт (1798–1858), в чьем семитомном Курсе позитивной философии позитивизм вводится как система философии. Как признавал сам Конт, его навел на размышления, главным образом, Эскиз Кондорсе (упоминавшийся выше), в котором важное значение придавалось культурной эволюции и интеллектуальному прогрессу. И Конт, в лучших французских традициях, трудился над тем, чтобы преобразовать эту цель в движение, которое можно назвать лишь политическим. В общих чертах позиция Конта состоит в том, что культура проходит три различные стадии: теологическую, являющуюся суеверной; метафизическую, в которой скрытые физические силы или причины встают на место божественных; и, наконец, научную, в которой позитивное знание заменяет суеверие и “метафизику”. Эти три стадии должны следовать в том порядке, в каком они определены. В каждой точке перехода от одной стадии к следующей культура пребывает в “критическом периоде”. Старая перспектива, в течение продолжительного времени удовлетворявшая массы, теперь должна быть заменена на новую, достоинства которой лишь слегка ощутимы, да и то лишь наилучшими умами этого периода. Когда преобразование завершается, культура вступает в “органический” период: период синтеза и открытий, роста и интеллектуальной эволюции. Во многом подобно тому пути интеллектуального прогресса, который был описан Кондорсе в его Эскизе, позитивная доктрина Конта требовала, чтобы каждая новая наука возникала из принципов более старой и более устоявшейся. Каждая наука развивает методы, подходящие для решения ее проблем. Иллюстрацией служит наука социология, название для которой ввел сам Конт. Ее методом должно быть сравнение культур на разных стадиях эволюции. Благодаря же законам, открытым социологией, будут лучше пониматься и все остальные науки, поскольку все остальные науки — это продукты социальной эволюции. Соглашаясь с Кантом в том, что сам разум непосредственно не наблюдаем, и отмечая, что многое из того, что провозглашало себя “психологией”, было не более чем попыткой философов интроспективно раскрыть законы разума, Конт отвергал психологию как “бесполезную фантазию и мечту, если не нелепость22”. Если задача состоит в изучении разума, то пригодны только два метода. Первый, который Конт назвал “френологической психологией” и который мы будем обсуждать позже в этой главе, включает в себя исследование отношений между мозговыми процессами, с одной стороны, и психическими состояниями и функциями, с другой. Второй — непосредственное наблюдение продуктов психической жизни, и это, согласно Конту, — социология. Конт был убеждён, что если бы философские психологи не брались за невозможную и тщеславную задачу попытаться заглянуть в свои собственные умы, а, вместо этого, поняли важность чувства и эмоции, то, поискав во всем животном царстве, они bona fide i нашли бы психологические принципы. Будучи, однако, убежденными в том, что разумен и рационален только человек, они игнорировали эту наиболее обещающую область исследования23.
Позитивизм Конта охватил религию, этику и экономику. Согласно развитому им и его учениками взгляду на науку, она зиждется на том же основании, что и мировые исторические религии. Наука решала все проблемы, отвечала на все вопросы, отметала все сомнения. Отрицать ее могущество означало утонуть в метафизической или, хуже, в теологической глупости. Воспользоваться ее методами означало привести мир в правильное состояние. Обещания Бэкона, Гоббса, Декарта и философов вновь возвращались для того, чтобы преследовать ортодоксальных верующих. Теперь им говорили, что человек может делать два типа утверждений. Одни относятся к объектам ощущений, и это — научные утверждения. Другие же бессмысленны! Милль тоже был позитивистом, хотя он и не соглашался с версией Конта по ряду вопросов. Он (благоразумно) отверг френологию, он признал ассоциативные законы ума (даже несмотря на то, что метод их доказательства мог быть “интроспективным”), и он отказался отойти от строгого эмпиризма даже в решении вопроса о том, чем должна быть наука. Тем не менее, его этология была рассчитана на то, чтобы дополнить социологию Конта; его правила вывода предназначались для получения позитивного знания, его обращение к ощущениям как к конечным арбитрам истины было беззастенчиво контовским. Идеи Милля и Конта, пройдя через ревизии, которым подвергаются все формулировки, кульминировали в логическом позитивизме Венского кружка, куда входили Витгенштейн, Шлик, Карнап, Рейхенбах и их последователи. Эта группа познакомила двадцатое столетие с самой последовательной и критической атакой на рационалистов из когда-либо виденных со времен Уильяма Оккама. Согласно логическим позитивистам — а их можно было бы с таким же успехом назвать и радикальными эмпириками, — фактами мира являются ощущения, а законы науки, разумеется, сводимы к эмпирическим высказываниям. Исчерпав все чувственные данные, мы уже ничего не сможем сказать ни о мире, ни о нас самих. Эти выводы будут рассмотрены подробнее в следующей главе. Эволюция как факт восприятия и как литературная метафора — это очень давнее представление человеческого ума. Аристотель и Эмпедокл спорили о её онтогенетическом характере, а Гете распространил её на сам процесс истории. Кондорсе в своем Эскизе рассматривал человеческий опыт как серию стадий, начинающуюся с племенных сообществ и проходящую в упорядоченной последовательности еще через девять уровней, последний из которых является научным по языку и по ориентации24. Позитивизм Конта утверждал то же самое более формально и гораздо более детально. Если представление об эволюции присутствовало постоянно, то таково же было и представление о природе-как-враге. Каждый век и каждый человек встречает вызовы, бросаемые ему стихиями: чумой, голодом, засухой, болезнью, слабостью. Все это — не только постоянно присутствующие свойства жизни; уже со времен появления письменности отмечалось, что они дают “более здоровый фонд”, “приспособленные образцы” и т.п. Аргументы в пользу спартанской системы правления, рекомендованной для афинской молодежи в Государстве, базировались на подобных основаниях. Самый прочный металл — это закаленный в самом жарком пламени. Даже племенные обряды посвящения, похоже, почитают теорию о том, что трудности — залог будущего успеха. Поэтому нам не следует жаловать Дарвина честью “открытия” эволюции или естественного отбора, если под открытием мы понимаем тот же процесс, который привёл Максвелла к формулированию законов электромагнитных явлений. То, что открыл Дарвин (и независимо от него — Альфред Рассел Уоллес, Alfred Russel Wallace), — это не только возможность, но и неизбежность эволюции или “прогресса”, причем неизбежность очень безжалостная, механическая. Он и Уоллес оба читали и были согласны с идеями, изложенными в работе Томаса Мальтуса Набросок о принципе населенности25. Мальтус продемонстрировал с математической строгостью, что потенциал размножения человеческой расы бывал колеблющимся, но он никогда не был реализован полностью. Иначе говоря, численность людей может возрастать в геометрической прогрессии, но такого возрастания не происходит. Ясно, что здесь должна присутствовать противоположная сила, имеющая тенденцию ограничивать численность населения. Определяя введенный им термин “борьбы за существование”, Мальтус представил войну, эпидемию и голод как силы, имеющие тенденцию препятствовать геометрическому росту населения. Согласно его анализу, при любом превышении темпа роста численности населения по сравнению с темпом увеличения объема производства продуктов питания люди неизбежно будут умирать. В Происхождении видов Дарвин применил мальтусовские понятия ко всем живым системам. Он изобразил силы природы как слепые факторы отбора, “естественного отбора”, который либо благоприятствует возможности выживания вида, либо уменьшает такую возможность. В пределах любого вида несомненно имеются широкие (естественные) вариации. Воздействия среды благоприятствуют определенным вариантам и, вследствие этого, они становятся более многочисленными. Дарвин (1809–1882) опубликовал свои работы до того, как открытия Менделя в области генетики стали общеизвестными, поэтому Происхождение видов не содержало никаких современных представлений о форме передачи разных свойств, связанных с выживанием. Фактически, в тех случаях, когда Дарвин проявлял в этом отношении определенность, он ошибался. Но он действительно заметил наличие мутации, причем некоторые из этих мутаций в большей степени соответствовали условиям, с которыми они сталкивались, и поэтому процветали, часто за счет отцовского типа. Жизнерадостная идея прогресса, занимавшая философов Просвящения, теперь приобрела мрачный аспект. Прогресс есть всего лишь следствие истребления. Новая жизнь возникает и преуспевает в то время, когда старые формы исчезают. Подкрепляя свою теорию археологическими открытиями, Дарвин непреклонно противостоял атакам как церковников, так и ученых-скептиков. Если Библия предполагает, что все формы жизни были созданы в одно и то же время, то Библия ошибается. Если христианское учение настаивает, что Бог создал именно столько форм жизни и не более, то христианское учение ошибочно. Если философы верят, что человек благодаря воле и образованности отдалился от естественных условий среды, где выживание никогда не бывает более, чем вероятным, то философы ошибаются. Если бы птичий род сейчас был представлен в избытке, вы обнаружили бы потомка разновидности летающих, который отличался бы от имеющихся представителей был бы не способен адаптироваться к меняющемуся окружению. Человек возник как удачный вариант некоторого типа приматов, сейчас уже не существующего. Все очень просто — он эволюционировал. Наиболее значительная психологическая работа Дарвина Выражение эмоций у человека и животных;26 можно сказать, что эта книга положила начало сравнительной психологии. Поскольку основные черты теории Дарвина сейчас широко известны, нам надо лишь сказать несколько слов о его влиянии на психологическую мысль девятнадцатого столетия. До сих пор самым большим следствием дарвинизма было то, что он разместил человека, обладающего психикой, в континууме биологической организации. В Выражении эмоций Дарвин исследует мускулатуру лица многих видов, включая Homo sapiens, и отмечает не только анатомические сходства (уже хорошо установленные), но и сходства в выражении лица, возникающие в силу условий, вызывающих сходные эмоции. И разъяренная собака, и актер, симулирующий гнев, — оба растягивают губы рта, обнажая свои зубы и стискивая их. Знаки подчинения, сексуального тяготения и меланхолии имеют сходную природу на протяжении всего филогенеза, каким бы ни было анатомическое оснащение, необходимое для такого выражения аффекта. Естественный отбор благоприятствовал видам, способным формировать “полезные привычки”. Он привел к развитию нервной системы, сконструированной так, чтобы проистекающее из нее поведение вело к брачным отношениям, избегало стимулов, травмирующих ткани, обеспечивало потребление пищи. Современный вид не только уцелел в долгом процессе естественного отбора, но еще и сохранил в поведении и эмоциях своих представителей усложненные формы тех действий и чувствований, которые характеризуют менее развитые типы. Дарвиновская этология объяснила разнообразие живого мира в квазителеологических терминах: конечная цель всякой жизни — продолжение жизни. Достижение этой цели требует адаптации к экстремальным условиям среды. Вид, не способный адаптироваться, исчезнет. Эволюционировав в новую, отличную от прежней, форму он сам по себе должен прекратить свое существование. Требуемая эволюция включает не только анатомию вида, но также и его функциональную физиологию — его привычки, рефлексы и чувствительность. Психологическая эволюция, следовательно, сопутствует структурной, анатомической, эволюции. Точно также, как в структурных нюансах более развитых видов мы можем рассмотреть архетипные свойства более ранних форм, в развитом психологическом снаряжении более совершенных видов можно увидеть следы более примитивных предрасположений и способностей27. Ненамного позже дарвиновского Происхождения видов его кузен, Фрэнсис Гальтон (1822–1911), опубликовал свои исследования по “наследственной гениальности” (1869)28. Гальтон безоговорочно принял эволюционную теорию, принял он также и тот эпистемологический эмпиризм, который составлял основу национальной английской философии. Соединение этих двух вещей вместе могло дать только один результат: теорию умственного превосходства, базирующуюся на способностях чувств! Гальтон изучал детей преуспевающих ученых, и его исследования показали, что математическая способность “распространяется в семье”, но такая энвайронментальная интерпретация данных была выслушана сдержанно. Чтобы объяснить, чем обусловлены столь большие различия в умственных способностях людей, Гальтону необходима была лишь теория Дарвина. Для поддержания его веры в значительность такого многообразия, ему нужен был лишь век экспериментализма и расцветающей торговой империи. В том, что Гальтон выбрал задачи, связанные с остротой зрения и восприятием глубины, нашли своё отражение самые наивные черты радикального эмпиризма. В любом случае, этим было положено начало традиции “измерения ума”, которая, вопреки мальтузианским ограничениям, росла с тех пор в геометрической прогрессии. Дарвиновская биология означала и продолжает означать для разных людей разное. Преподавание этого предмета в ряде американских штатов считалось незаконным вплоть до относительно недавнего времени. Для верующих фундаменталистского толка вся идея в целом была полной ересью. Согласно этой теории, Земля должна была быть намного старше, чем указано в Библии. В ней доказывалась непрерывность создания новых форм, тогда как фундаментализм настаивал на происхождении всех форм в результате “большого взрыва”. От человека она требовала большего, чем просто храбрости в борьбе за выживание и допускала постепенное исчезновение самого человека. В лучшем случае она клеветнически изображала День Страшного Суда как тяжелый продолжительный процесс. Торговцы среднего класса Викторианской империи вскоре начали интерпретировать дарвинизм как оправдывающую их этику. Бедные считались таковыми “согласно природе”. Все мы вовлечены в вечную борьбу со стихией, приспособлены же к этому требованию лишь определенные “типы”, поэтому неизбежно будут присутствовать “имеющие” и “не имеющие”. Если признать открытия Гальтона, то возможно даже, что разделение на эти два класса будет всегда сохраняться по закону наследственности. С точки зрения континентальных ученых, находящихся под сильным влиянием контовского позитивизма и “трех-стадийной” теории культурной эволюции, дарвиновская модель собрала воедино много различных направлений мышления учёных. Нервная система — продукт эволюции, сознание — продукт эволюции, структура определяет функционирование. Выражаясь словами Фрейда, “анатомия есть судьба”. Одновременно начали появляться исследования по сравнительной культуре, сравнительной анатомии, и, наконец, сравнительной психологии. Все теперь приобрело столь большой смысл: идея прогресса, просвещенная машина, утилитаризм, позитивистская философия, молодой Вертер, осаждённый “Штурмом и натиском” своих собственных чувств. Происходила революция, удачно названная одним историком “героическим материализмом”. Материализм девятнадцатого столетия Александр Бэн (1818–1903), близкий и уважаемый соратник Дж.С.Милля, говоря о своих достижениях в работе над текстом по психологии, написал Миллю в 1851 году следующее:
Именно Бэн основал целиком психологический журнал Mind (Разум). Именно Бэн был автором двух наиболее влиятельных психологических текстов, появившихся незадолго до начала двадцатого столетия30. Чем обусловлен столь физиологический уклон у этого эмпирика? Почему, в самом деле, в отличие от Локка, Юма и даже Милля, Бэн соединяет эмпирический ассоцианизм с наукой физиологией? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, нам следует взглянуть на три удивительных достижения в нейрофизиологии, произошедшие в десятилетия, непосредственно предшествующие работам Бэна. Таковыми были: (1) закон Белла-Мажанди, (2) закон о специфических нервных энергиях и (3) ”наука” френология. Закон Белла-Мажанди назван в честь сэра Чарльза Белла (1774–1842) и Франсуа Мажанди (1783–1855), которые независимо друг от друга открыли анатомическое разделение сенсорных и моторных функций спинного мозга. Белл, рассказав об этом открытии своим коллегам на званом обеде (1811), чуть не уступил официальное признание Мажанди, представившему свою работу в наиболее надёжном варианте — в виде опубликованной научной статьи (1822). Оба показали, что можно лишить животное чувствительности посредством сжатия или поперечного разреза задних корешков спинномозговых нервов. Животное, с которым поступали таким образом, все еще было способно двигать хирургически обезболенной частью тела, но не реагировало на интенсивное стимулирование, передаваемое в эту область. Аналогично, путём перерезки передних корешков можно было вызывать крики боли у животного, которое, тем не менее, не могло отдернуть свою конечность от производящего боль стимула. Закон Белла-Мажанди был важен для психологического мышления в нескольких отношениях. Прежде всего, он давал ясное анатомическое подтверждение в пользу существования механизма, который предусматривается в картезианской теории сенсомоторного функционирования. Пожалуй, самым важным было то, что он подкрепил веру в экспериментальный подход к изучению ощущения и поведения. Хотя этот закон не раскрыл действительного механизма образования рефлекса, он дал то структурное основание, на котором должны базироваться рефлекторные механизмы. Этот вклад, таким образом, расширил начатую Декартом линию исследований, получив своё экспериментальное подтверждение в работах Стефана Хейлза, Роберта Вритта и серьезное теоретическое обоснование в исследованиях Дэвида Гартли. Бэн, наиболее психологичный из ассоцианистов девятнадцатого столетия, быстро понял важность этого закона для своего проекта физиологической психологии. Белл сам предвосхитил некоторую форму закона о специфических нервных энергиях, но наиболее прочно этот закон связан с именем одного из самых выдающихся физиологов данного столетия Иоганнеса Мюллера (1801–1858), чья работа Учебник физиологии человека (Handbuch des Physiologie des Menschen) (1834–1840) была наиболее авторитетной книгой того периода. Этот закон, ставший уже банальностью, утверждает, что качество опыта определяется не свойствами объективного стимула, а теми конкретными нервами, которые реагируют на него. Ортодоксальный кантианец Мюллер считал этот закон единственно правдоподобным; иначе говоря, мы не чувствуем объективный мир таким, какой он есть, а узнаем о нем только в преобразованной форме, доставляемой органами чувств. “Вещь в себе” остается загадкой. Наше знание — это субъективированное знание, абстрагированное из объектов чувств и трансформированное посредством органов чувств. Однако, если отбросить философский идеализм, то закон специфических нервных энергий локализовал качественные и количественные аспекты опыта в нервах, то есть в природе. Он придавал эпистемологии биологическое свойство, поскольку теперь природа знания была неизбежно связана с характеристиками “органов знания”. Если закон Белла-Мажанди и закон о специфических нервных энергиях существенно дополняли нарождающуюся физиологическую психологию, то формулировка и распространение Францем Иозефом Галлем (1758–1828) понятия “локализация функции”, можно сказать, создали эту дисциплину. Следует, однако,сразу добавить, что Галль со своей френологией ускорил появление физиологической психологии в том смысле, что он ввел представления, успешно опровергнуть которые смогла бы лишь физиологическая психология. Александр Бэн был сильно увлечен френологией, которая достигла англоязычного мира благодаря работе Шпурцгейма The Physiognomical System of Drs. Gall and Spurzheim31 и переводу работы Галля О функциях мозга и каждой из его частей: включая наблюдения над возможностями определения инстинктов, задатков и талантов или нравственных и интеллектуальных диспозиций людей и животных по конфигурации мозга и головы (On the Functions of the Brain and Each of Its Parts: With Observations on the Possibility of Determining the Instincts, Propensities and Talents or the Moral and Intellectual Dispositions of Men and Animals by the Configuration of the Brain and Head, 1835)32. Здесь приводится полное название, так как оно почти исчерпывает теорию, содержащуюся в самой работе. Именно в этой работе Галль ввел четыре “неоспоримых истины” френологии:
К счастью для истории нейронауки френологию Галля и Шпурцгейма быстро подвергла сомнению группа более здравых мыслителей. Тем не менее, для большей части тридцатых годов это был последний крик моды. В Европе, Англии и Соединенных Штатах возникли многочисленные журналы, посвященные этой “науке”. Последний из них исчез лишь в нашем столетии. Большую часть успеха этого предприятия можно объяснить заслуженной репутацией Галля как нейроанатома и умением убеждать Шпурцгейма. Более того, основную идею, стоящую за френологией, некоторым образом поддерживали неврологическая клиника, здравый смысл и материалистический уклон психологии девятнадцатого столетия. Даже пещерный человек должен был заметить, что поглаживание головы его добычи приводило животное в состояние покоя, а если тот же пещерный человек получал несмертельные удары по своему собственному черепу, понимание этого еще более упрочивалось. Благодаря греческой и египетской медицине, а также тому, что она сохранялась в течение Возрождения, был каталогизирован ряд функций, опосредуемых мозгом. Декарт, больше любого из своих предшественников, популяризировал значение мозга для опыта и действия. Бесчисленные исследователи — последователи Декарта и гассендистов — стали повсюду распространять открытия, сделанные ими при нейрохирургических исследованиях пациентов: начиная с жестоких опытов над обезглавленными животными и кончая изучением травматических ранений головы у жертв войны и гражданского раздора. Ламетри, безусловно, придал этому вопросу ту совершенно полемическую основу, которая необходима для любого движения, и некоторые из философов, сильнее других ориентированных в направлении медицины и следующих извилистому пути Ламетри, с уверенностью перенесли в мозг и душу, и ум. Наиболее известным в этом отношении был Д'Гольбах. В отличие от Ламетри, Галль действительно был научной фигурой и, поскольку он приступил к своим исследованиям через несколько десятилетий после Ламетри, у него было для этого существенно больше данных. Однако еще в большей степени, чем растущее число экспериментальных открытий, для развития его теории была важна твердо укрепившаяся “психология способностей”, начало которой положил Локк, а развили более поздние эмпирические философии Англии и Шотландии. Как мы обсуждали в Главе 7, идея “способностей” — столь же старая, как и трактат Аристотеля О душе — получила новую жизнь в сентименталистских теориях Англии семнадцатого и восемнадцатого столетий. Ко времени Галля было общепринято наделять людей не только “внутренним светом” (разума), но также и способностями эмпатии, справедливости, любви, нравственности и т.д. Иногда такой список становился очень длинным. Галль признал эти способности — имеется ввиду не более того, что он признал наличие у людей этих характеристик. Поскольку люди действительно таковыми обладали и поскольку “мозг является исключительно органом ума”, потребовалось не очень трудное упражнение в дедукции для того, чтобы заключить, что каждая способность имеет имеет особое представительство в коре мозга. Бэн не был единственным именитым ученым среди тех, кто всерьез воспринял френологию. Герберт Спенсер (1820–1903), личность не меньшей значимости, считал эту идею более чем забавной; вспомним, к тому же, что Спенсер был одним из первых самых красноречивых и самых активных защитников теории Дарвина. Спенсер, подобно Бэну и Миллю, заботился о том, чтобы психология заняла свое место среди естественных наук и чтобы она выделилась из чисто спекулятивной дисциплины философии. Галль – и это вполне понятно, почему — предложил проект именно такого освобождения. Заявляя о том, что нравственность, совершенно так же, как ощущение и движение, следует понимать в терминах организации и функций физиологии нервной системы, Галль предлагал психологам именно ту основу, которая была нужна для развития независимой науки. Кроме того, по своему общему характеру френология не была оскорбительной для дарвинизма. Последний, с его инстинктивными побуждениями, унаследованными привычками, рефлекторными механизмами выживания, естественным отбором нервных процессов и в самом деле представлял собой своего рода этологическую или сравнительную френологию. Последователи Галля и Шпурцгейма, безусловно, понимали это именно таким образом. Полемический стиль Шпурцгейма и культовый характер этой новой науки френологии вызвали немедленную оппозицию со многих сторон. Наиболее основательную критику выдвинул Пьер Флуранс (1794–1867), действительно проверивший экспериментально определенные френологические гипотезы. Флуранс проводил хирургические операции на животных, в частности, удалял полушария мозга и, кроме того, тщательно наблюдал за патологическими изменениями мозга больных пациентов, у которых незадолго до их смерти обнаруживались разнообразные неврологические симптомы. Именно Флуранс настаивал на том, что мозговая кора функционирует как целое, что тяжесть болезни не сводится просто к размеру захваченной части мозга, а сходные между собой болезни могут быть результатом повреждений в любой из нескольких областей мозга. Флуранс стремился защитить виталистические и дуалистические элементы картезианства, но, тем не менее, он успешно привлекал внимание и к чисто научным недостаткам френологической теории. Галль умер до того, как были написаны великие работы Дарвина. Шпурцгейм продолжил дело, защищая систему мастера, вплоть до своей с смерти, которая наступила на четыре года позже, в 1832. Они прожили достаточно долго для того, чтобы привлечь внимание и вызвать поклонение со стороны Бэна и Спенсера, а именно этим двоим последним была дана способность увидеть связь между понятием локализации функций и эволюционизмом. В своей широко известной работе Основы психологии Спенсер отмежевался от ортодоксальной френологии своего времени, но затем добавил следующее:
Спенсер, пытаясь связать это с теорией эволюции, к сожалению принял представление Ламарка о наследуемости приобретенных характеристик, так что он был вынужден утверждать, что познания, память и привычки видов проявляются в следующих поколениях. Дарвин, безусловно, посвятил себя той же самой идее. Однако, если мы исключим эту ошибку из системы Спенсера, в ней сохранится не так уж и устаревшая теория психических функций: сенсорные волокна проецируются на определенные области мозга; повторяющаяся стимуляция как-то приводит к облегчению нервной передачи; предыдущие переживания через химический механизм накапливаются внутри мозговых полушарий; и “субъективная психология” ассоциаций — это всего лишь другая сторона “объективной” или нейрофизиологической психологии, в которой ассоциации являются физическими. К этому добавляется идея Дарвина, согласно которой сложности человеческой нейроанатомической организации следует рассматривать как развившиеся формы более примитивной организации. Следовательно:
Бэн и Спенсер подошли вплотную к созданию экспериментальной психологии. Они успешно боролись за независимый статус этой науки. Они предложили такое понимание ассоцианистских законов, которого полностью никогда не достигал ни один из их предшественников по собственно эмпирической психологии. Они связали новую науку с новой биологией, и с тех пор эти две составляющие никогда полностью не разделялись. Показательно, что первая глава спенсеровских Основ была озаглавлена “Нервная система”, тем самым установилась традиция, которой следуют авторы учебников в течение почти столетия. Им не удалось основать экспериментальную психологию лишь потому, что они фактически не смогли заняться психологическим исследованием или создать благоприятные условия, при которых такое исследование могло бы проводиться. Поэтому честь “основателя” отдается Вильгельму Вундту (1832–1920) — он занимался исследовательской работой и взял на себя труд положить начало и дать имя лаборатории, посвященной исключительно психологии. Вундт подготовил первую лабораторию психологии в Лейпцигском университете в 1879. К этому времени дарвиновская революция начинала завоевывать общее признание научного сообщества. Белл, Мажанди, Флуранс, Галль и Шпурцгейм — все они внесли свои различные вклады в нейронауку. Великий Герман фон Гельмгольц (1821–1894) не только написал классические работы по физиологии зрения и слуха, но и измерил скорость нервного импульса и выдвинул наиболее неопровержимую версию закона сохранения энергии. Стоит упомянуть об оппозиционности двух последних из упомянутых вкладов, поскольку оба они, каждый по-своему, бросали вызов пережиткам витализма восемнадцатого столетия. Обнаружив, что скорость проводимости нервов не только измерима, но даже довольно медленна (максимум = 120 метров в секунду), Гельмгольц тем самым вынудил временно отойти от картезианской точки зрения о вездесущем влиянии души на тело и об исторически сложившейся вере в то, что разум недосягаем для наблюдения. Если душа воздействует на тело, то она осуществляет это через мозг, а проводящие пути и мозг исполняют свое назначение физическими способами, поддающимися измерению. Гельмгольц был самым известным и независимым из учеников Мюллера и самым громкоголосым противником виталистических элементов, содержащихся в Учебнике (Handbuch) Мюллера. Вундт после получения им своего звания в течение нескольких лет работал ассистентом у Гельмгольца, поэтому можно сказать, что ему были хорошо знакомы основные нейрофизиологические факты и теории его времени. Ясно, что ни один немецкий ученый этого периода не избежал физикалистского (то есть антивиталистского) климата, созданного Гельмгольцем, но столь же ясно, что Вундт в истории психологии был sui generis i.Даже сегодня нельзя читать его Принципы физиологической психологии36, не впечатляясь его чувствованием экспериментальных, философских и биофизических проблем, уникальным образом влияющих на новую науку. Среди его многочисленных работ эта была наиболее значительной. Она была не только одной из первых (и одной из немногих) его книг, переведенных на английский, она была также программной, что вполне осознавалось её автором.
Вундт, так же как Бэн и Спенсер, видел необходимость объединить две науки — психологию и физиологию. Но в отличие как от Бэна, так и от Спенсера, Вундт был ученым — то есть работающим ученым — и, вследствие этого, он был гораздо более озабочен развитием подходящих методов и измерений. Он искал их в недавних открытиях Густава Фехнера (1801–1876), также лейпцигского ученого. В 1860 Фехнер опубликовал работу Элементы психофизики37 — книгу, знаменовавшую собой поворотный пункт и стремившуюся описать математическими средствами отношение между умственными и физическими событиями. Именно в этой работе был изложен закон Фехнера, согласно которому сила ощущения пропорциональна величине логарифма от интенсивности стимула. В этой же самой работе Фехнер продемонстрировал, как, производя повторные измерения ответов испытуемого, проинструктированного надлежащим образом, можно получить достоверные данные, сводимые к законосообразному описанию. Не нужно было больше оправдываться за “интроспективную” методику. Критика психологии Контом, казалось, исчезала под давлением закона Фехнера. Психофизические методы были просты в применении и не отличались от методов, использовавшихся в любой количественной науке, вынужденной оперировать с переменными явлениями. Вундт, редко щедрый на похвалу, отмечает лишь следующее:
Но для Вундта ни рационально-математическая дедуктивная психология Гербарта39, ни дуализм Фехнера не могли служить основанием психологической науки. На самом деле Вундт не считал адекватной ни одну из более ранних формулировок. Английской эмпирической психологии он адресовал такие слова:
Психология, с точки зрения Вундта, должна интересоваться “многообразием сознания” и достигать понимания чего-то гораздо большего, чем законы ассоциации. Многообразие сознания включает взаимодействие ума не только с объектами чувств, не только с внешними стимулами. Она охватывает чувствования, образы, сны, память, внимание, движение. И психология, занятая изучением этих процессов, есть экспериментальная психология — такое имя ей дал сам Вундт. Эта наука должна представлять собой исследование сознания, причем посредством самого же “сознания” — здесь Вундт постарался отмежеваться от длинной истории метафизических размышлений:
Здесь в осторожной и довольно неясной форме Вундт передает потомству манифест, соразмерный юмовскому. Под “разумом” психолог будет понимать то и только то, что можно непосредственно описать как наблюдение над внутренним событием. Если разум думает, чувствует, помнит, заботится, забывает, то наука об разуме может быть не более, чем экспериментальными исследованиями детерминант мышления, чувствования, запоминания и т.д. Когда все его предикаты оказываются исчерпанными, не остается никакого метафизического остатка. Для Вундта “психология”, “экспериментальная психология” и “физиологическая психология” — три термина, обозначающме один и тот же предмет. Чтобы убедиться в этом, необходимо вспомнить, как Вундт понимал термин “физиологический”, а также найти, какое место в работах Вундта отведено социальной психологии. Физиологическим (physiologische) немецкий ученый конца девятнадцатого столетия называл подход, являющийся по сути научным, управляемым законом. Данный термин, в отличие от своего современного значения, не был определенно связан с биологическими событиями или измерениями, а относился к полному спектру законосообразных операций, управляющих “животной организацией”. Именно в этом смысле вундтовские термины “психология” и “физиологическая психология” можно считать синонимами. Но что есть “экспериментальная психология”? Здесь, и это будет рассмотрено подробнее в следующей главе, следует провести различие между вундтовским понятием “социальной психологии” и нашим собственным. Его более поздние работы по “психологии народов” прежде всего посвящены тому, что мы называем культурной или исторической антропологией. Именно Вундт считал, что значительные события человеческой истории, безусловно, находятся за пределами досягаемости экспериментальных методов и, что более важно, не могут быть объяснены на языке естественной науки. Иначе говоря, человеческую историю нельзя постичь “физиологически”, так как эта история не развивается согласно одним только законам причинности. Об этом будет сказано больше в Главе 11. Здесь достаточно понять, что Вундт считал “социальную психологию” не ответвлением психологии, а отдельным предметом, требующим своих собственных методов, измерений и принципов объяснения. Сам же, однако, термин “психология” — синоним “физиологической” и “экспериментальной” психологии. Тем не менее, это тоже не связывает Вундта исключительно с биологической психологией. Он отказался и от той формы материализма, в котором разум является всего лишь материей, и от менталистского утверждения о несводимости ума к материи. Иначе говоря, он отказался искать основания для своей науки в метафизических спорах. С того времени психология уже не должна быть ветвью философии, еще менее — биологии. Она должна быть экспериментальной наукой, посвященной анализу содержаний сознания или, как он выражался, многообразием сознательного опыта. В конечном итоге, этот анализ можно было свести к эквивалентному анализу структурно-функциональных отношений в нервной системе. В полемике между Флурансом и Галлем Вундт занял нейтральную позицию, хорошо понимая, что утверждения Галля были лишены необходимых фактов, а Флуранс, возражая против френологии, утверждал ошибочность теории локализации в большей степени, чем того требовали факты. Вундт проанализировал в своих Принципах недавно разработанный метод прямой электрической стимуляции мозговой коры живого животного. Начиная с 1870, Фритч (Fritsch) и Гитциг (Hitzig) публиковали результаты своих исследований последствий непосредственной электрической стимуляции мозговой коры собак. Они продемонстрировали топографическую организацию ощущений и движений на корковой поверхности, а позже продемонстрировали и относительно самостоятельные корковые “извилины”, связанные с сенсорными и моторными способностями. Ссылаясь на их работу, Вундт отметит “простоту структурного плана”42, однако понимание простоты, свойственное 1875 году, серьезно подвергалась сомнению в следующем столетии. Вундт изучал также более устоявшуюся технику оперативной хирургии и различные методы клинического анализа. Он быстро заметил узкую ограниченность каждого из этих методов и также предугадал, что ни один из них не заменит интроспективные данные, которые легко получить от сознательного здорового человеческого существа. Он тонко осознавал тот факт, что психофизическая проблема не должна исчезнуть в результате усовершенствования технологии. Он испытывал также почти современное презрение к предположению о том, что определение материи — это обязанность именно психологии. Тематика, методы, теории, определяющие современную психологию, значительно изменились со времен Вундта, но основная ориентация сегодняшних экспериментальных психологов, можно сказать, зародилась в лейпцигской лаборатории. Даже после того, как новые исследования и теории в области неврологии привели к изменению постановки многих вопросов, рассматриваемых психологией, более фундаментальный анализ функций головного и спинного мозга подкреплялся по сути механистической точкой зрения. Одним из лидеров этого направления был Маршалл Холл (Hall, 1790–1857). Он же был одним из основателей Британской медицинской ассоциации и наиболее откровенным аболиционистомi, обращавшимся к этому вопросу во время своих путешествий по Соединенным Штатам.
Так же, как Витт, Холл проводил интенсивные исследования рефлексов спинного мозга и установил, что координированное и целостное поведение может быть вызвано в отсутствие какой-либо регуляции или участия со стороны высших центров. Но исследования и клинические открытия вели его также к заключению о том, что такое поведение не сопровождается сознанием. В поддержку этого заключения он выдвинул следующие положения:
Работа Холла получила широкое распространение благодаря влиятельному Учебнику... Иоганнеса Мюллера. Кроме того он активно пропагандировал собственные достижения, претендуя на столь многое, насколько позволяли его работы, а, возможно, и на немного большее. Этим он помог прочно закрепить место для понятия рефлекса на карте нарождающейся теоретической психологии, закладывая основания для биологически ориентированной науки о поведении. “Идеалистическая” альтернатива О наследии Канта в этой главе уже кратко говорилось, но тогда мыне обращали внимание на наиболее важные направления его влияния. К ним относятся интерпретации философии Канта его непосредственными преемниками: Фихте (1762–1914), Шеллингом (1775–1854) и Гегелем (1770–1831). Все вместе они создали уникальную форму идеалистической психологии, которая все еще воздействует на развитие континентальной психологии. Мы пренебрегли этим аспектом кантовского наследия отчасти из-за того, что сам Кант мог не хотеть претендовать на это, а также из-за того, что данное движение заправлялось топливом из тех эмпирических и материалистических перспектив, которые мы только что исследовали, — заправлялось в том смысле, что этот новый идеализм был сознательным противником эмпирической и физиологической психологий. Можно предположить, что Вундт отверг эту системупотому, что она представлялась ему как не более, чем “рациональная психология”, возникшая из кантовской “натурфилософии” и оказывавшая только негативные влияния на научную психологию в частности и на естественную науку вообще. Канту принадлежит центральная роль в возникновении немецкого идеализма, если понимать её правильно. Несмотря на то, что он отвергал субъективный идеализм Беркли, свою собственную метафизическую позицию он определял как "трансцендентальный идеализм", подразумевая под этим термином различие между реальным физическим миром материальных предметов и имеющимися или будущими знаниями об этих предметах. Предметы для Канта — это “вещи в себе”, которые, как “вещи в себе”, никогда не могут быть познаны эмпирически. Скорее, наше эмпирическое знание это — толкование реального мира, толкование, осуществляемое посредством чистых категорий рассудка, действующих совместно с несовершенными чувствами. “Знать” означает интерпретировать, а не просто чувствовать, но в самом акте интерпретации мы накладываем категории на объективную сущность. Разум, который это делает, не есть “объект” и, следовательно, его никогда нельзя познать в том смысле, в каком мы познаем естественный мир. Это, безусловно, ведет к настаивании на том, что наука психология едва ли возможна. Вундт подытожил позицию Канта таким образом:
Мы видели, что эти возражения не помешали Вундту связать свою жизнь с экспериментальной психологией. Фехнер показал, к удовлетворению Вундта, что математику, безусловно, можно применять к явлениям “внутренних чувств”. Более того, каждая ветвь естественной науки необходимо изменяет свои объекты в процессе наблюдения над ними. Если Вундт не счел кантовские возражения обоснованными, то Фихте, Шеллинг и Гегель приняли их как аксиомы. Для Фихте, опять же в кантовской традиции, сама свобода человеческой воли, противопоставленная детерминистскому характеру чисто физических процессов, раз и навсегда решает вопрос о научной психологии: таковой не может быть. Если психологию и следует создавать, то это должна быть дедуктивная, философская дисциплина, предмет которой — исследование воли и намерений личности (ego). Это ego утверждает себя посредством себя же самого, а не посредством обращения к внешним объектам. Утверждая себя, оно вынуждает природу сообразовываться с его волей и на самом деле можно даже сказать, что оно оживляет природу посредством своей воли. Несмотря на то, что эта воля свободна, духовные идеалы человеческой жизни навязывают ей ограничения в виде долга, пренебрежение которым составляет сущность греха. В этих разных элементах — в личности, навязывающей природе свой собственный характер, в трансцендентной природе долга, в свободе воли — кантовская метафизика выступает в форме психологии личности48. Здесь нет необходимости упоминать об отступлении Шеллинга от философской психологии Фихте. В значительных отношениях они с Фихте были согласны; свобода воли в мире материи, детерминированном во всех прочих отношениях, неизбежно влечет дуализм, который не может устранить никакая научная психология. Если мы хотим постигнуть природу разума, то наш единственный метод — это метод размышления разума о самом себе, дедуцирование им элементов своей целостности. Вундт, отвергая предписания этих идеалистов относительно метода, не мог освободить свою психологию от их предписаний относительно предмета: многообразия сознательного опыта. Вершиной немецкого идеализма девятнадцатого столетия были философские и логические работы Георга Фридриха Гегеля, чье влияние на европейскую мысль эквивалентно, если вообще можно его к чему-то приравнять, только влиянию Декарта и Канта. Даже если бы нашим предметом исследования в данный момент была история философии, вряд ли можно было бы подвести итог “гегельянству” даже в очень объёмной главе. Конечно, не будучи профессиональным философом, рискованно пытаться подводить какие-либо итоги. Как и у большинства продуктивных ученых, взгляды Гегеля время от времени подвергались изменению. Его работы страдают от пагубного сочетания гения и литературной неуклюжести. Предметы его наибольшего интереса — Абсолютное, Невыразимое, Душа, Искусство и Религия — обычно вызывают фрустрацию у авторов, в высшей степени владеющих литературным мастерством, Гегель же не относился к их числу. Одно из более ясных толкований его системы на английском языке — старое, но не устаревшее исследование, проведенное профессором У.Т.Стейсом (W.T.Stace)49, но даже эта работа столь часто перемежается гегелевскими оборотами речи, что оставляет неначатое ... неначатым. Многие, безусловно, разделяли убеждение Рассела в том, что Гегель “наиболее труден для понимания из всех великих философов”50, а это — слова человека, верящего в то, что “почти все учение Гегеля ложно51”. Как бы то ни было, Гегель придумал феноменологию, некоторые из англичан, во всех прочих отношениях сдержанных, провозгласили его новым Аристотелем, он же спровоцировал Карла Маркса назвать себя “учеником этого великого мыслителя”52. Гегеля нельзя проигнорировать. Все гегелевские “доктрины”, как называет их Рассел, выведены из рациональных первоначал. Полностью отвергая кантовское предостережение о субъективной природе мышления (reason), Гегель объявляет, что истины мышления необходимы, непроизвольны и окончательны. Посредством мышления разум может проанализировать видимый мир с тем, чтобы раскрыть его основание (reason). В этом месте нам следует ввести разграничение, гегелевское разграничение “оснований и причин”. Гегель, всецело противостоя давлению эмпирической философии, тем не менее, легко воспринимал доводы Юма, направленные против необходимых причинных последовательностей. Он соглашался с тем, что нельзя построить никакого логического моста, посредством которого можно было бы перейти от следствия обратно к физическим причинам, природа которых необходима. Однако, если причины логически не влекут следствия, то основания это делают. Профессор Стейс объясняет этот важный момент так:
Следовательно, основание — это первый принцип, и он объясняет сам себя. Он определяет себя и мир в том отношении, что последовательностью, ведущей от основания к утверждениям о мире, в отличие от причинных последовательностей, управляет логическая необходимость. Сказать, что Джон Смит мертв, “так как курок был спущен”, не значит объяснить, почему он мертв, а значит лишь отметить одну из причин, предшествующих его кончине. Мы объясняем, почему Смит мертв, говоря, что “Джон хотел, чтобы он умер, и именно Джон нажал курок”. Основание предшествует причине. Следствие соотносится с причиной лишь случайным образом, с основанием же оно связано по необходимости. Возвращаясь к Категориям Канта, мы можем сказать, что свойство временного следования логически связано с априорной категорией времени. Гегелевская теория психологии наиболее ясно представлена в его Энциклопедии54 и его Феноменологии духа55. Историки будто бы состязались в поисках как можно большего числа людей, о которых можно сказать, что они предвидели теории Зигмунда Фрейда. Мы не стремимся завоевать этот неуловимый приз, признавая гегелевскую составляющую в эволюции мыслей Фрейда. В гегелевской философии разума в изобилии представлены идеи о стадиях развития, о конфликтах между ego и anti-ego, о стремлении к смерти. В Австрии 1860–х и 1870–х нельзя было получить образование, не подпав под влияние мыслей Гегеля. Философия разума Гегеля начинается с теории о том, что разум есть стадия эволюции души. Вначале душа обладает той же реальностью, что и природа (в платоновском смысле); Стейс описывает ее как “естественную душу”, она представляет собой “начало духа”56 и существует как простое бытие. Она не может рефлексировать саму себя, так же как не может ассимилировать в себя объективные элементы физического мира. После этого состояния чистого эгоизма душа, благодаря историческому развитию, приобретает “чувствительность”, посредством которой она становится способной различать себя и свое содержание. Хотя душа еще не может постигать внешние объекты, она, тем не менее, осознает различие между имеющимися у нее чувствами и самой собой. “Естественная душа” теперь стала “чувствующей душой”. За этой стадией следует та, на которой душа действительно может воспринимать внешние объекты, может отличать себя от перцептивных содержаний, являющихся результатами сенсорного опыта, и может организовывать элементы физического мира согласно универсальным категориям. Душа — теперь уже “актуальная душа” — осознает себя “как свои содержания”; она находится в согласии со своими ощущениями, идеями и чувствами. Если душа проявила способность проводить различение между собой и объектами внешнего мира, о ней можно сказать, что она имеет “сознание” и являет собой “разум”. Именно изучение этого сознания — Вундт позже назовет его многообразием сознания — есть феноменология. Сознание тоже проходит через стадии: “чувственное сознание”, “разумное восприятие” и “интеллект”i. Первая из этих стадий позволяет разуму получать “сырые данные” опыта — впечатления, лишенные когнитивных свойств. Ощущение есть некоторое событие — непосредственное и психологически нейтральное. Однако, восприятие — не таково. Здесь наблюдатель дополняет или привносит в простые сенсорные ощущения идею универсального. Если чувства дают нам “это” или “то”, то разумное восприятие имеет форму “что это такое?”:
Разумное восприятие, применяя общее понятие к каждому конкретному [явлению], создает противоречие — противоречие между отдельным объектом и классом. Восприятие, само по себе, не может разрешить данное противоречие. Это — задача для интеллекта, который, изобретая научные законы и принципы, осознает, что высшую реальность составляют универсалии, а частные объекты — всего лишь проявления или отдельные случаи. Когда сознанию, достигшему этой развитой формы, удается абстрагировать всеобщий принцип из каждого конкретного осмысленного восприятия, она осознает, оно обнаруживает, что содержащееся в нём знание есть идея, поскольку универсалии, по своей природе, — идеи. В этот момент сознание переходит в само-сознание или сознание идеи личности.58 Едва ли необходимо напоминать современному читателю о “гегелевском” тоне большинства современных дискуссий, происходящих не только в сообществе профессиональных психологов, но и в относительно неспециальных сферах повседневной жизни. “Само-сознание”, “само-актуализация”, “расширение сознания” и связанные с ними выражения, имеющие отношение к самости, непосредственно свойственны Гегелю и идеалистам-неогегельянцам. Диалектическая триада тезис, антитезис и синтез, предложенная Гегелем как закон мысли, выраженный логически, сейчас стала постоянной схемой, используемой в лексиконе как старшекурсников, так и комментаторов новостей. Более хитрым образом эта триада вошла в теорию Фрейда: “id” утверждает самый фундаментальный из всех тезисов; “superego” находится по отношению к нему в антитетическом отношении; “ego” возникает синтетически из примирения этих уравновешивающих друг друга сил. Гегельянство, в своей триумфальной форме, возникло в середине девятнадцатого столетия как романтизм. В своей работе Reason in History Гегель провозгласил, что “ничто великое в мире не совершалось без страсти”59, и заявил, что базовая сущность человека — не отдельного в некоторое время, а как коллектива сознаний — это свобода, неукротимая свобода духа. Воссоздавая вечную дихотомию, он отстранил материю как пассивную жертву естественных законов и утвердил дух как единственную свободную силу во Вселенной. Он родился в том же году, что и Бетховен. Первый переложил Гете на язык музыки, второй — на язык философии. Везде мы находим романтическое выражение идеи прогресса Кондорсе. Поднявшись до уровня социального действия, мы встречаем революционный дух, еще далеко не исчерпавшийся. Историк, излагающий историю идей, испытывает сильный соблазн говорить о корнях марксистской философии в таком стиле, что содержание этой философии становится тривиальным. Это искушение не означает или, по крайней мере, не должно означать враждебность по отношению к данной философии или к ее автору. Скорее, с чисто философской точки зрения, среди мыслей Маркса настолько много производных, что простое перечисление марксистских принципов затмевает яркую оригинальность его работы, взятой как целое. Сопротивляться этой тенденции к недооцениванию равнозначно совершению противоположной ошибки. В социальных и политических кругах нашего столетия Маркс утвердился как настолько сильная личность, что возник соблазн привносить слишком много глубины и гениальности в исключительно философские аспекты его работ. Видя, какое незначительное влияние оказали размышления Маркса на развитие современной психологии, мы не стремимся тем самым как-либо повлиять на значимость этой личности в социальной и политической истории. Маркс не оказал большого влияния ни на современников, занявших центральное место в психологии, ни на тех более поздних психологов, которые действительно разделяли его материалистическую ориентацию. Верно, что в период крайней политизированности советской науки имелись энергичные попытки установить связь между марксистской теорией и павловской психологией, однако эти попытки редко поднимались выше уровня простой пропаганды, и их никогда не принимали всерьез подлинные ученые. То, что Марксу не удалось повлиять на курс развития психологической науки, можно понимать по-разному. Достижения психологии девятнадцатого столетия имели преимущественно экспериментальную природу. Подход Маркса был историографическим и, в широком смысле, логическим, а это — тот самый подход, который отрицали основатели экспериментальной психологии. Более того, несмотря на то, что Маркс отводил “сознанию” центральную роль в своей теории, эта роль была, на первый взгляд, не отличима от гегельянства и, следовательно, из нее вряд ли можно было извлечь пользу. Но еще большее разногласие заключалось в неустранимом расхождении между обязательством психологии по отношению к изучению индивидуального и безраздельным вниманием Маркса к широким социальным процессам. Короче говоря, Маркс был социологом тогда, когда психология устанавливалась на пути биологии. Он открыл психологию отчуждения за столетие до того, как социальная психология подготовилась к ее изучению. То же можно сказать об осознании им проблем, относимых нами сейчас к таким областям, как “урбанистическая психология”, “производственные отношения” и “психология общества”. Он увидел воздействия индустриализации на семью, на рабочих, на отношения между государствами. В этих воздействиях он выделял экономические силы как двигатель всей социальной, культурной и интеллектуальной эволюции. Мы уже отмечали, что Маркс воздавал должное Гегелю. Стоит упомянуть также о том, что в своей докторской диссертации он анализировал системы Демокрита и Эпикура, и такая диссертация могла лишь вывести его на просветительские учения Дидро и Кондорсе. В самом деле, в Немецкой идеологии (1845–1846), где он обсуждает последовательные стадии экономической эволюции в терминах племенной, государственной, феодальной и частной собственности, мы обнаруживаем почти пересказ Эскиза Кондорсе. Однако, в отличие от Кондорсе, или, коли на то пошло, Эпикура, Маркс не хотел считать рациональные силы центральными для такой эволюции. Для Маркса авторитетным материализмом был исторический материализм. Он сомневался лишь в одном — в том, что биологическое устройство человека требовало теории исторического материализма и соответствовало ей, но Маркс не собирался отвлекаться на анатомические или физиологические размышления о “Человеке” в то время, когда мир людей страдал от зарождающейся индустриализации. Тем не менее, он понимал прямую связь между психологическим материализмом Просвещения и философскими оправданиями коммунизма. Это понимание почти лаконично изложено в Святом семействе:
В этой же работе Маркс доводит данный анализ до его логического конца. Поскольку человека полностью формируют его окружение и социальные силы, навязываемые ему в течение всего процесса его развития, его нельзя разумным образом сделать ответственным за свои преступления. Они — результаты социальных грехов и порицать следует общество. Сознание само создается обществом. Возможно, будет слишком банальным заметить, что значительную часть здравых здравых работ по психологии истории можно подразделить на группы в зависимости от того, на что направлено их внимание: на сходство между людьми versus на различия между ними. Если мы используем широкую кисть, то мы можем раскрасить одинаковыми оттенками эгалитаризм, бихевиоризм, марксизм, социализм; другими оттенками — элитаризм, идеализм, капитализм. Маркс, подобно эмпирикам, которых он так обожал, был убежден в том, что люди гораздо более сходны между собой, чем можно было бы предположить по различиям в их общественном положении. Заметив, как один только паровой двигатель преобразовал сам характер английской нации, он пришел к убеждению в том, что экономические системы производства привнесли в человеческое сообщество искусственные классовые различия и что эти различия следует искоренить. Ретроспективно мы склонны отмести большую часть всего этого как разновидность “народной” психологии, понимая, что индивидуальные различия между людьми не тривиальны, и полагая также, что психологический характер нашей расы проявляется как неизменный в большом числе социальных и экономических систем. Вряд ли мы исчерпали все значительные межкультурные исследования когнитивных и перцептивных процессов, но, тем не менее, все-таки кажется, что сейчас имеется достаточно данных для того, чтобы усомниться в основополагающих утверждениях марксистской психологии вроде “Природа индивидуумов, таким образом, зависит от материальных условий, определяющих их производство”61. Однако разговор здесь в большей степени не о том, “прав” или “неправ” был Маркс, а о том, “прав” или “неправ” был сам век. Вместо этого нам следует отыскать в марксизме ту особенную и привлекательную тему, которая объединяла все -измы девятнадцатого столетия: позитивизм, материализм, утилитаризм, гегельянизм, прагматизм и экспериментализм. Эти во всех прочих отношениях разные движения объединяет твёрдая вера в то, что мир или дела человеческие, или небеса, или все вообще можно, в конечном счёте, охватить всеобъемлющим взглядом, достоверность которого обеспечивается безошибочным методом. Ни до, ни после этого наука не демонстрировала такую уверенность и завершенность. В большинстве работ по физике, политической теории, психологии, биологии, социологии и, даже еще в большей степени, в философии мы обнаруживаем интеллектуальную крайность и уверенность, лишь изумляющую очевидцев двадцатого столетия. Это же наследие убежденности, хотя и по-иному, беспокоит и современного горожанина, неспособного определить, в каком году дела начали идти плохо; когда определенная физика превратилась в неопределенную, когда познанный разум опять погрузился в свои исторически недостижимые глубины, когда в социальном устройстве ритмические колебания уступили место какофонии. Работам Маркса присуще еще одно свойство, дающее право на комментарии, хотя и не имеющее прямого отношения к эволюции собственно современной психологии. Это — элемент враждебности и презрения, свойственный до того позднему Возрождению и Реформации. Острая сатира и обаяние Просвещения отсутствуют. Каноны вежливости игнорируются. Логика и сострадание проиграли в битве с нетерпимостью. Мало что благоприятствует попыткам проанализировать “психологию” интеллектуальных лидеров. Их значимость основана на их идеях, а не на их побуждениях или личных чертах характера. Однако, в трудах Маркса и Ницше мы встречаем нетерпимость и даже презрение, никогда не виданные в работах Спенсера, Бэна или Милля. Ошибочно полагать, что британские философы имели предрасположение быть одинаково беспристрастными. Скорее, здесь сыграл свою роль именно страстный романтизм Гегеля: континент увидел в эмоциях собственный результат анализа. Отмечая это, мы привлекаем внимание к неотъемлемому консерватизму британской и французской науки девятнадцатого столетия и радикализму мысли, процветавшей в немецкоязычном мире. Остановить обсуждение данного вопроса на этом месте — значит не сказать ничего нового. Конечно, Маркс, Ницше и их ученики были радикалами, но утилитаристы также были радикалами в своих целях. Различие здесь более тонкое. Философия в Германии обращалась непосредственно к людям. Философы применяли идеи и признанные формы философских дискуссий к целям явно политическим. Своим успехом они придавали науке свойство уместности, что вызвало бы чувство дискомфорта даже у философов. Заключая Часть I своей работы По ту сторону добра и зла, Фридрих Ницше (1844–1900) объявил, что стоит выйти за рамки традиционной морали философов, как “психология будет снова признана королевой наук, для служения и подготовки которой существуют все науки. Ибо психология стала теперь снова дорогой, ведущей к фундаментальным проблемам.”62 Вальтер Кауфман назовет Ницше первым великим “глубинным психологом” за то, что он увидел в бессознательных процессах источник многого из того, что мы считаем делами повседневной жизни и самой культуры63. Именно Ницше свел общие черты всех традиционных философий к “общей философии грамматики” и предугадал многие из сегодняшних деконструктивистских проектов витгенштейновского анализа. У Ницше следует искать наиболее глубокое понимание культурных и лингвистических истоков науки, философии и морали. Отмечая пионерские прозрения Босковича в восемнадцатом столетии, которые свели мнимые материальные атомы ньютоновского мира к нематериальным силовым центрам, Ницше ликовал по поводу исключения “сущностей”, “интуиций” и прочих духовных свойств традиционной онтологии. Акцентируя долингвистические и примитивные уровни, он видел истинный источник культуры в той воле к власти, которую ранее анализировал Шопенгауэр. Для Ницше воля к власти более существенна, чем инстинкты выживания Дарвина. Но, как и эти инстинкты, она действует за пределами сознания. Сознание она использует, причем последнее — это просто вспомогательная сторона ментального. Если основной стимул в жизни — не выживание per se, а выражение силы, то существуют такие вещи, которые всегда должны превышать по значимости саму жизнь, не говоря уже об их большей значимости, по сравнению с простыми удовольствиями гедониста. Власть, о которой здесь говорится, — это не та сила, которой обладает грубый человек или хулиган, это способность вытерпеть низменные жизненные препятствия и одержать над ними победу. Его героем был Гете, а власть Гете — это одновременно власть и ясности, и смелости. Гете знал, что существуют вещи, более близкие к жизни, чем материальное устройство ньютоновских небес или локковский разум; что жизнь требует такой преданности и искренности, которые отображают уровни реальности, находящиеся за пределами простых чувств или прозаической мысли. Именно Гете и в своей работе Избирательное сродство (Elective Affinities), и в своей теории цвета неустанно возвращает мысль мыслящему, ценность — миру, который уже познан. Именно влияние артистических взлетов Гете удерживало на расстоянии балласт тех неудавшихся теорий, каждая из которых являлась тюрьмой для ума. Гете реализовал этот всеобщий импульс: он упражнял свою власть. Кроме того, были также общеизвестные дружба и ссора с Рихардом Вагнером. Ницше увлекался мощью музыки Вагнера и ее умышленным разрывом с традицией; ее презрением к сентиментальности; глубиной ее укоренённости в главных традициях немецкой культуры; чистотой ее цели. Переписка между ними раскрывает, в неотредактированном виде, увлеченность социальными и этическими теориями, теориями искусства и религии, теориями “каст”. Когда его собственный разум стал жертвой безумия, проза Ницше превратилась из резкой и прочувствованной в мрачную и попросту сварливую. Разрыв с Вагнером был частично вызван тем, что Ницше рассматривал как уступку верующему большинству, как заигрывание с христианскими предрассудками. Подобно Марксу и в отличие от Уильяма Джемса, он видел в религии отражение слабости и самообман. Если бы он в самом деле был “первым великим [глубинным] психологом”, то в универсальном характере религиозных склонностей он мог бы найти направление интересов, более глубокое, чем воля к власти. В своей знаменитой (хотя непродуманной и неубедительной) критике метафизики Канта, Ницше решил, что Кант был околдован открытием чистых категорий рассудка и возможностью априорного синтетического знания. Согласно его пониманию Канта, все это стало возможным благодаря “способности” разума: то есть мы можем это сделать, поскольку обладаем чем-то, предоставляющим нам такую возможность, — снова получаем старую virtus dormativa i Мольера. Вряд ли какое-либо серьезное исследование метафизики Канта позволит закрыть эту тему с таким легким сердцем, но здесь стоит упомянуть о заключении, к которому пришел Ницше, убедив себя в философской наивности Канта (!). Выведенное им заключение говорит не о том, что наши мысли и суждения не обладают такими постоянными свойствами, а о том, что наше обладание ими говорит не об их достоверности, а лишь об их полезности. Мы мыслим и рассуждаем так, как мы это делаем, поскольку этому содействуют желания, всецело являющиеся человеческими. Открытия философии — это всего лишь вымысел, а не высвечивание того, что имеется в естественном мире или в мире независимо существующих предметов, это всего лишь изготовление вещей, отражающих культурную или личностную ценность.
Маркс и Ницше обещали больше того, что они сделали. Первый стремился к научному пониманию событий, степень недоопределенности которых была слишком чрезмерна для того, чтобы допустить строгий анализ. Ницше положит конец поиску каких-либо несомненностей, выходящих за пределы амбиций и предрассудков данной культуры. Он совершенно не заслуживает упрека за события, происшедшие в Германии через несколько десятилетий после того, как он провозгласил, что
Этот краткий обзор психологической мысли двадцатого столетия делает достаточно ясными все те основные темы и конкретные методы, которые стали определять современную психологию. В этом отношении данная глава признает место интеллектуальной истории в эволюции современной психологии и именно в этом отношении последняя является, так сказать, “примечанием” к недавнему прошлому. Но современная психология, если она и не выходит за пределы этого недавнего прошлого, конечно, от него отличается. Действительно, среди современных нам текстов или журналов очень мало тех, в которых явно признается долг девятнадцатому столетию, и еще меньше — тех, в которых содержится намерение решить проблемы, столь привлекавшие прошлых мыслителей. Нам нужен, следовательно, еще один мост — тот, через который мы смогли бы перейти от более обширных интересов и общих дискуссий прошлого к более узким результатам и более развитым методам настоящего. Первый мост перевел нас от философской психологии к психологии, называемой научной, но не к подлинно современной психологии. Поэтому в следующей главе мы рассмотрим более подробно некоторые из уже обсуждавшихся достижений, а также другие достижения, успех которых породил взгляды, методы и конкретные школы, придавшие окраску и очертания современной психологии. 1 Никакой полный список не может игнорировать Пьера Бейля (Pierre Bayle) (1647–1706), чья работа Dictionnaire historique critique вдохнула в науку Просвещения дух скептического разума и непочтительное обязательство осветить решения власти светом двух огней — разума и очевидности. Двухтомный Dictionnaire и связанные с ним работы сделали Бейля очень значительной фигурой в глазах таких известных его современников как Локк и Лейбниц. Позже его будет приветствовать Вольтер, а сам он также будет влиять на мысли ученых, отличающихся по своему мировоззрению от Беркли и Юма. Однако, Бейль, если исключить его безотлагательный отказ от различения “первичных” и “вторичных” качеств (Локка), дает мало материала для психологического анализа. Его непосредственных последователей в философии воодушевляли его смелые и выразительные атаки на скованный ум, но большая часть его работ остается лишь на периферии тех вопросов, которые составляют центральный интерес психологии. 2 Voltaire, Philosophical Letters, translated by Ernest Dilworth, Bobbs-Merrill, Indianopolis, 1961. 3 Claude-Adrien Helvetius, A Treatise on Man: His Intellectual Faculties and His Education, translated by William Hooper, London, 1777. 4 Denis Diderot, D'Alambert's Dream, in Diderot's Selected Writings, edited by Lester G. Cricker and translated by Derek Coltman, Macmillan, New York, 1966, pp.179–222. 5 Antoine-Nicolas De Condorcet, Sketch for a Historical Picture of the Progress of the Human Mind (1795), translated by June Barraclough, Hampshire, Noonday Press, New York, 1955 — эта работа заслужила того, чтобы введение к ней написал Стюарт Хэмпшир (Stuart Hampshire). 6 Valtaire, On the Pensees of M.Pascal, in Philosophical Letters, p.144. Цит. по: Вольтер. Философские сочинения. М.: Наука, 1989. С.218. 7 В свои последние годы Кант взялся за то, чтобы воспротивиться этому трансцендентализму. Он умер, не закончив то, что должно было стать суровым упреком тем, кто защищал романтический идеализм на кантовском основании. 8 J.S.Mill, Autobiography. Особенно полезен том под редакцией F.E.Mineka (Toronto, 1963). 9 J.S.Mill, A System of Logic, Ratiocinative and Inductive: Being a Connected View of the Principles of Evidence and the Methods of Scientific Investigation, Longmans, Green, London, 100. Цит. по: Дж.С.Милль. Система логики силлогистической и индуктивной. М., 1914. 10 Там же, Book VI, Ch.III, Sec.I. Русский перевод: с.768–769. 11 Там же, Sec.2. 12 Там же, Ch.IV, Sec.3. 13 Там же. Русский перевод: с.776. 14 Там же, Sec.3. Русский перевод: с.777. 15 Там же, Ch.5. 16 Там же, Ch.V, Sec.4. Русский перевод: с.790. 17 J.S.Mill, Utilitarianism, in The Utilitarians, Dolphin Books, Doubleday,Garden City, N.Y., 1961, p.404. 18 Там же. 19 Там же, pp.408–209. 20 Там же, рр.432–433. 21 Дж.С.Милль является не только самым красноречивым голосом своего века, он также наиболее точно выражал тон этого века. Современный ему автор, Джон Морлей (John Morley), в своем панегирике Миллю написал: “Многое нужно будет однажды сказать относительно явной ценности философских принципов Милля ... Однако, нужно продолжать испытание, нам следует, во всяком случае, быть уверенными в том, что вместе с его репутацией будет сохранена или утрачена интеллектуальная репутация целого поколения его соотечественников.” (On the Dearth of Mr. Mill, in Nineteenth Century Essays, University of Chicago Press, 1970.) 22 Levy-Bruhl, The Philosophy of Auguste Comte, переводчик — Frederic Harrison, опубликовал на английском Swan Sonneschein, London, 1903. Это было самое важное издание, внесшее идеи Конта в англоязычное сообщество. Генри Эджир (Henry Edgeer) немало способствовал развитию дела позитивизма в Америке 1850–х, но в действительности только после появления тщательного исследования позитивистской программы, проведенного Леви-Брюлем, этой проблемой стало серьезно заниматься большое число философов Англии и Америки. О самых ранних формах американского позитивизма см. Positivism in the United States — 1853–1861, by Richmond, Laurin Hawkins, Harward University Press, Cambridge, 1938. 23 Levi-Bruhl, pp.191–193. 24 Antoine-Nicolas De Condorcet, Sketch. 25 Thomas Malthus, An Essay on the Princple of Population as It Affects the Future Improvement of Society, with Remarks on the Speculations of Mr.Godwin, M.Condorcet, and Other Writers. Эта работа была воспроизведена в виде издания в суперобложке университетом Мичигана (The University of Michigan Press, Ann Arbor, 1959) с предисловием, написанным К.Булдингом (Kenneth Boulding). Оригинал был опубликован в 1798 году в Лондоне. 26 Charles Darvin, The Expression of the Emotions in Man and Animals, Appleton-Century-Crofts, New-York, 1896. 27 Эрнст Геккель (Ernst Haeckel) (1834–1919) сформулировал это дарвиновское предположение в виде “биогенетического закона”, согласно которому онтогенез повторяет филогенез. Однако Анри Бергсон (Henri Bergson) (1858–1941), почти в одиночку, пробудил интеллектуальное движение против материалистической теории эволюции Дарвина. Его работа L'Evolution creatrice (“Творческая эволюция”), опубликованная в 1907 году, бросила вызов в адрес эволюционной биологии, оперируя терминами, очень похожими на те, которые использовали гештальт-психологи в своих дискуссиях с ассоцианистами. Бергсон находил мало правдоподобия в представлении о том, что случайный процесс смог бы произвести, постепенно шаг за шагом, системы настолько необыкновенно сложные и функционально взаимозависимые как те, что составляют основание, например, зрения. Только творческая эволюция, по мнению Бергсона, смогла бы привести к тому уровню биологической организации, свидетельством которой являются высшие виды. Этой творческой эволюции придает силу elan original, божественный деятель, являющийся также творцом свободы воли. Менее чем доминирующее влияние Бергсона на современную психологию и особенно современную американскую психологию следует объяснять тем, что подобные представления не удалось свести к экспериментальным способам верификации. Таким образом, мы обнаруживаем, что идеи Бергсона были наиболее известны в той области, где их размещать было, возможно, не удобно — в обширной литературе, описываемой как “экзистенциальная психология”, “гуманистическая психология” и “гештальт-психология”, психотерапия. Возможно, самую убедительную их интеграцию следует искать в гипотезе, выдвинутой профессором Жаном Пиаже, чьи дискуссии о “когнитивном развитии” богаты формулировками понятий, родственных творческой эволюции. 28 Francis Galton, Hereditary Genius, Macmillan, London, 1869. 29 Письмо Александра Бэна содержится в недавнем блестящем исследовании Янга (R.M.Young, Mind, Brain, and Adaptation in the Nineteenth Century, Oxford Universiry Press, Charedon, 1970, pp.102–103.) 30 Как отмечает профессор Янг, две работы Бэна — The Senses and Intellect (1855) и The Emotions and the Will (1859) — составляют двухтомник, служивший стандартом для британской психологии в течение почти пятидесяти лет. Обе работы были изданы в Лондоне (Parker Publishing Co). Эти же книги обсуждены и переизданы без сокращений в Series A, Vols. IV and V, of Significant Contributions to the History of Psychology, D.N.Robinson, University Publications of America, Washington, D.C., 1978. 31 Johann, G.Spurzheim, The Physyognomical System of Drs. Gall and Spurzheim, Baldwin, Cradock and Joy, London, 1815. 32 Francois Joseph Gall, On the Functions of the Brain and of Each of Its Parts, etc., 6 vols. translated by Winslow Lewis, Marsh, Caoen and Lyon, Boston, 1835. 33 Gall, Functions. 34 Herbert Spencer, The Principles of Psychology, Appleton-Century-Crofts, New York, 1896, p.573. 35 Там же, р.141. 36 Wilhelm Wundt, Principles of Physiological Psychology, Vol.I, translated by E.B.Titchener (from the fifth German edition of 1902), Macmillan, New York, 1904. 37 Gustav Fechner, Elements of Psychophysics, translated by Helmut Adler, edited by David H. Howes and Edwin G. Borng, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1966. Впервые Элементы были опубликованы в 1960. 38 Wundt, Principles, pp.6–7. 39 Иоганн Фридрих Гербарт (Johann Friedrich Herbart) (1776–1841) был учеником Фихте. Он возглавил в Кенигсбурге кафедру, которую когда-то занимал Кант. В отличие от Фихте, он рассматривал научную психологию, базирующуюся на математическом анализе; эта точка зрения была выдвинута им в работе Psychologie als Wissenchaft (1824–1825). Научная психология Гербарта не оставляла никакого места ни для врожденных идей, ни для априорных понятий. Элементы бессознательного, в том числе чувства, следует понимать в терминах динамических, механических законов физики и, следовательно, их можно выразить и вывести математическим образом. Он предвосхитил таким образом психофизическую науку Фехнера, и в своем предисловии к Elements Фехнер признает этот долг: “Гербарту всегда будет принадлежать честь первенства не только среди тех, кто указал на возможность математической обработки ..., но также среди тех, кто бесхитростно попытался выполнить подобное предприятие; и после Гербарта всякий будет в этом отношении вторым”. (Fechner, Elements of Psychophysics. Davis H. Howes and Edwin G. Boring.) 40 Wundt, Principles, pp.9–10. 41 Там же, р.17. 42 Wilhelm Wundt, Principles, p.193. 43 Marchall Hall, Memoirs on the Nerwous System (1837; p.70), in Significant Contributuons to the History of Psychology, Series E, Vol.I, edited by D.N.Robinson, Greenwood Publishing, Connecticut, 1978. 44 Там же, рр.70–71. 45 Там же, рр.74. 46 Там же, р.110. 47 Wundt, Principles, pp.8–9. 48 Для того, чтобы оценить подход Фихте с исторической точки зрения, полезно обратиться к изложению его работ, написанному в то время, когда он начал привлекать широкое внимание за пределами Германии. Особенно проницательна в этом отношении работа C.C.Everett. Fichte's Science of Knowledge (Chicago, S.C.Griggs and Companym 1892). В этом же отношении см. E.B.Talbot, The Fundamental Principles of Fichte's Philosophy, New York, 1906. 49 W.T.Stace, The Philosophy of Hegel: A Systematic Exposition, первая публикация: Macmillan, 1924. Этот влиятельный анализ Энциклопедии и Феноменологии духа Гегеля можно найти в Dover Publications, New York, 1955. 50 Bertrand Russel, A History of Western Philosophy, Simon and Schuster, Clarion paperback edition, New York, p.730. Русский перевод: Б.Рассел. История западной философии. “МИФ”, М. Т. II, 1993. С.246. 51 Там же. Русский перевод: с.245. 52 Данное замечание появляется в предисловии Карла Маркса ко второму изданию Капитала. В более поздние годы Маркс отошел от ортодоксального гегельянства, но некоторое время он являл собой продукт гегелевского взгляда на историю и философию более, чем кто-либо другой в истории этого движения. Лишь позже они с Энгельсом “поставили Гегеля на голову”. (Здесь, повидимому, ошибка: они поставили Гегеля с головы на ноги. — Прим. ред.)Цит. по: К.Маркс. Капитал. М.: изд. полит. лит., 1978. С.21. 53Stace, Hegel, Sec.75. 54 Имеются английские издания Энциклопедии Гегеля. Среди более поздних изданий можно найти перевод Уильяма Уоллеса (William Wallace, Oxford University Press, 1873). 55 Авторитетными изданиями Феноменологии духа остаются издания J.B.Baillie, London, 1910; 1931. 56 Stace, Hegel, p.328. 57 Там же, р.343. 58 Современная система психологии, сходная с гегельянством, — это, конечно, когнитивная психология профессора Жана Пиаже. Стадии когнитивного развития Пиаже начинаются с эгоцентризма и кульминируют в способности устанавливать связь между частными случаями и общими утверждениями. Шести-стадийная эволюция познавательной способности, описанная Пиаже, безусловно, четко соответствует гегелевским трем стадиям: чувственное сознание, восприятие посредством чувств и интеллект. Психология Пиаже, часто определяемая как эволюционная эпистемология, стремилась посредством экспериментальной демонстрации засвидетельствовать ту логическую структуру мышления, которую установил Гегель. Поэтому не удивительно, что те сомнения, которые в настоящее время адресуются психологии Пиаже, по форме почти неотличимы от атак британских эмпириков на гегельянство. 59 G.W.F.Hegel, Reason in History: A General Introduction to the Philosophy of History, translated by Robert S. Hartman, Bobbs-Merrill, Indianopolis, 1953, p.29. 60 Karl Marx: The Essential Writings, edited by F.L.Bender, Harper and Row, New York, 1972, pp.145–146. 61 Karl Marx and Friedrich Engels, The German Ideology, Part 2, edted by C.J.Arthur, International Publishers, New York, 176, p.42. 62 Friedrich Nietzsche, Beyond Goog and Evil: A Prelude to a Philosophy of the Future, translated by R.J.Hollingdale, Penguin Books, Hammondsworth, 1973, p.36. Цит. по: Ф.Ницше. Соч. в 2 т. М.: Мысль. Т.2, 1990. С.259. 63 Walter Kaufmann, “Nietzsche as the First Great (Depth) Psychologist”, in A Century of Psychology as Science, edited by Sigmund Koch and David Leary, McGraw-Hill, New York, 1985, pp.911ff. 64 Nietzsche, Beyond Good and Evil, p.138. Русский перевод: с. 348. Глава 11. От систем к специальностям: критические полстолетия (1870–1920) Если мы быстро перелистаем предыдущие главы, то среди разнообразных тем и притязаний выделится одна черта, которая может послужить границей, отделяющей всё прошлое от того, что считается собственно психологическим исследованием сейчас. Проще указать на это разграничительное свойство, чем определить его. Возможно, наиболее подходящим здесь будет термин “система”. Если, например, спросить, что объединяет психологические взгляды Платона, Аристотеля, Аквинского, Гоббса, Декарта, Локка и прочих, то окажется, что это — общее для них намерение развивать систему психологии, способную охватить самый широкий круг психологических явлений: мысли, эмоции, память, поведение, мораль, управление, эстетику и т.д. Когда мы сравниваем это намерение с теми видами деятельности, которые наиболее ясно идентифицируют современную психологию, мы находим просто поразительное различие. Теория Фрейда в определенной степени применялась к разному личностному и культурному материалу, а современный бихевиоризм, хотя и в меньшей степени, пытался обратиться к разным сторонам социальной жизни и социальной организации. Но ни Фрейд, ни современный бихевиорист не претендовали бы на то, что его подход к психологии способен охватить такой же широкий спектр явлений, как и подход, который считался вполне обычным для предыдущего столетия. Самые очевидные объяснения этого различия мало о чём говорят. Можно было бы утверждать, например, что, поскольку более ранние попытки не удались, современные психологи научились быть скромнее в своих целях, консервативнее в своих размышлениях. Тем не менее, если мы посмотрим на историю любого значительного интеллектуального предприятия, подобные неудачи обычны, но капитуляция — нет. Со времен досократиков было предпринято множество попыток объяснить все физические явления посредством небольшого набора универсальных законов, но ни одна из этих попыток не была успешной. Тем не менее, сегодняшний физик-теоретик, точно так же, как и древние, исходит из всеобъемлющей теории материи. Аналогичным образом, страницы интеллектуальной истории наполнены попытками создать безошибочную теорию политики, но ни одна из этих теорий не осталась на поверхности и не заслужила единодушного одобрения человеческого рода. Тем не менее, каждый год мыслящие ученые начинают строить набросок новой теории, нового множества базовых посылок, нового “решения”. Поэтому мы не можем объяснить различие между старыми и новыми психологами просто отказом последних от дальнейших попыток, явившегося результатом предшествующих неудач. Более тонкое объяснение начинается с отрицания данного утверждения. Современная психология, с этой точки зрения, преследует те же цели, которые стимулировали все предыдущие усилия, но она начинает с более элементарных процессов и не переходит к сложным явлениям до тех пор, пока эти процессы ею не поняты. Недостаток такого подхода — в неоднозначности выбора тех процессов, в которых следует разобраться до того, как можно будет обратиться к более широким предметам обсуждения. Действительно ли современные исследования зрительного восприятия — это предварительная стадия того, что, предположительно, должно превратиться в развитую психологию эстетики? Действительно ли современный психолог изучает принципы обучения и памяти с тем, чтобы можно было разрешить вечные проблемы эпистемологии? Данные вопросы задаются не ради обесценивания современных усилий, а для того, чтобы оценить обоснованность положения о том, что направления этих усилий были умышленно выбраны в интересах более широких целей. Наконец, в качестве примера очевидных, но не проясняющих ситуацию объяснений, мы можем взять то, которое проводит отчетливую границу между наукой и всякой другой формой исследования. Тогда современная психология — такова, какова она есть, поскольку она “научна”, более же ранние психологии таковыми не были. В этом мнении вызывает беспокойство двойная дилемма: во-первых, как мы старались показать в Главе I, далеко не очевиден критерий, позволяющий решать, является ли психология “научной” или является ли она в любом требуемом отношении сколько-нибудь “более научной”, чем психологические взгляды прошлого. Ясно, что она более экспериментальна, но это, скорее, — другой вопрос. Во-вторых, странно использовать прилагательное “научный” как средство объяснения причины сужения предмета или диапазона тематики. Иначе говоря, из одного только факта или заявления, что Х есть наука, не следует, что Х оперирует или интересуется более узким кругом вопросов, чем Y. Имеются, конечно, другие объяснения, слишком легкомысленные для того, чтобы их рассматривать. Например: сегодняшние психологи просто не так ярки или умны, как гении прошлого; сегодняшние психологи более практичны и менее спекулятивны, чем их предшественники; сегодняшние психологи просто более точно выбрали свои проблемы и приняли в качестве проблем только те, которые могут быть решены экспериментально. Первое из этих объяснений обидно и не подтверждено документально. Второе и третье, скорее, ставят проблему, чем решают ее. Во введении к настоящей главе полезно проверить объяснение, менее очевидное, чем упомянутое выше, но более соответствующее истории тенденций. Нам лучше всего было бы начать с центрального факта: в сегодняшней психологии доминирует относительно небольшое число крайне специализированных областей исследования и практики, причем каждая из этих областей развилась и продолжает развиваться в значительной степенинезависимо от других, и путь ее развития для других областей зачастую безразличен. Итак, мы имеем (а) психологию личности; (б) обучение и память животных; (г) психофизику человека; (д) психотерапию; (е) социальную психологию и (ж) генетическую психологию. Это — едва ли исчерпывающий список, но он иллюстрирует разнообразие отдельных вопросов, которыми занимаются сегодняшние специалисты. В этом списке мы обнаруживаем только что отмеченную относительную независимость/безразличие. Социальный психолог может взяться за экспериментальные и теоретические программы, даже не приняв во внимание факты и методы психофизики. Психофизик, интересующийся способностью аудитории обнаруживать различия, не нуждается в исследовании нюансов психотерапии. Психотерапевт действует, вообще не прибегая к помощи литературы по сравнительной психологии, или обращается к ней очень редко. Этот факт ни “хорош”, ни “плох”, он — не причина для радости или сожаления, не предмет для интереса или равнодушия. Но это — факт истории, факт, который следует понимать, по крайней мере, частично, в исторических терминах. Как показали предыдущие главы, этот факт не возник неожиданно, он оформлялся в течение столетий. Каждый из старых -измов внес свой вклад: эмпиризм, рационализм, идеализм, материализм и нативизм. Так же развивались физические и биологические науки, так же, в основном, произошел общий разрыв между наукой и философией, узаконенный в середине девятнадцатого века. Приблизительно тогда же и в течение последующих примерно пятидесяти лет естествоиспытатели и ученые объединяли в контексте этого великого разделения различные -измы и научные достижения, создавая таким образом определенные области психологического исследования и практики. Разговор об этих людях составляет предмет настоящей главы, они — строители мостов, позволяющих нам перейти от обещаний “научной психологии” к реальностям современной психологии. Сравнительная психология — от антропоморфизма к бихевиоризму Атаки на картезианство, предпринимавшиеся в течение всей эпохи Просвещения, часто сопровождались специальной критикой декартовской “автоматной” теории психологии животных. Уже в работе Dictionary Пьер Бейль (Pierre Bayle) активно защищал взгляд, согласно которому человеческие способности можно, в той или иной форме, найти у развитых видов, притязания же человека на уникальность немногим отличаются от тщеславия1. А Франц Иозеф Галль еще за пятьдесят лет до дарвиновского Происхождения видов сформулировал эту проблему непосредственно в терминах эволюционной биологии2. Репутация достижений Галля впоследствии будет запятнана историей его же системы френологии, но подлинная роль Галля в истории физиологической психологии остается неизменной. По стандартам своего времени, он был усердным анатомом и блестящим теоретиком. Еще до конца восемнадцатого столетия он начал исследовать внутриутробное и постнатальное развитие нервной системы у ряда видов, включая человека. Он обосновал и весомо аргументировал заключение о том, что степень проявления любым животным своей нравственной и интеллектуальной доблести всецело связана со степенью мозгового развития этого животного. Он призывал к новому виду таксономии — к той, которая базируется, скорее, на эволюции мозга и функциональных возможностях, чем просто на общей анатомии. В предыдущих главах отмечалось, что восемнадцатый век был занят разработкой идеи прогресса. Существовало много философских версий эволюционной точки зрения, нередки были и научные версии. В начале девятнадцатого столетия эта же точка зрения укрепилась за счет истинной “религии природы”, в число священнослужителей и пророков которой вошли Шиллер и Гете в Германии, Вордсворт и Кольридж в Англии, Торо и “новые трансценденталисты” в Америке. Согласно этой версии, натурализм был, скорее, не дополнением к идее прогресса, а выводом из нее. По этой версии, его нельзя было рассматривать как несовместимый с ортодоксальным христианским учением. Здесь считалось само собой разумеющимся, что любое живое существо занимает свое место в Творении; что любая развитая форма жизни несет в себе свое примитивное прошлое; что в тайных сражениях живого мира красота и порядок вырастают из хаоса; что человек не ушел от этих естественных законов и сил; что всякий продукт природы есть всего лишь ступень в бесконечном ходе прогресса. Присутствие натуралистической точки зрения очевидно во многих сферах деятельности начала девятнадцатого столетия — в искусстве, политике, религии и науке. Во всех этих устремлениях ведущие фигуры использовали так называемый “метод естественной истории” — эта фраза часто встречается в книгах и статьях данного периода. Именно так стали объяснять наличие жесткой связи между тем, чем вещь является, и тем, как она стала такой. Для того, чтобы понять цивилизацию, изучали “дикарей”. Для того, чтобы понять управление государством, изучали исторически более ранние его формы. Таким образом, для того, чтобы понять человеческую природу, рассматривали остальную природу. Заметим, что одна из занятных работ Дарвина — работа о развитии его собственного сына. Не будет большим преувеличением сказать, что дарвиновские исследования окаменелостей и его тщательные наблюдения за маленьким сыном произошли из того же самого натуралистического взгляда, который воодушевлял произведения искусства, истории и философии девятнадцатого столетия. Влияние этого взгляда на психологическую мысль данного периода слишком очевидно, причем оно одинаково очевидно как в период, предшествующий дарвиновскому великому вкладу, так и в последовавший за ним. В течение первых десятилетий девятнадцатого столетия в периодических изданиях общего характера встречалось множество описаний жизни и привычек “более низших отрядов” — птиц, пчел, муравьев (особенно) и рыб. В тот же период сочетание филантропических чувств и натуралистического взгляда породило множество статей, посвященных прекращению жестокого обращения с одомашненными животными. Аргументы, выдвинутые в этих статьях, усиливались за счет постоянного и слишком преувеличенного упоминания человеческих качеств, свойственных кошкам, собакам, лошадям и др. Теория эволюции, как ее изложил Дарвин, была в этом отношении завершающим достижением натурализма, а не его самой ранней библией. Она упорядочила и разместила на твердом фактологическом основании те взгляды, которые стали доминирующими в мышлении того века. Конечно, когда мы просматриваем критические замечания по поводу Происхождения видов, написанные современниками Дарвина и опубликованные в самых влиятельных журналах тех дней, нас впечатляют восторг и общее согласие, проявляемые в отношении этой работы3. Надо вспомнить, что знаменитая волна анти-дарвиновских выступлений началась не с Происхождения видов (1859), а с Происхождения человека (1871). Негативная реакция была адресована дарвиновской “метафизике”, а не его натурализму. Первый значительный автор, применивший эволюционную теорию к широкому спектру психологических вопросов — это Джордж Романес (1848–1894), чья первая важная работа на эту тему называлась Интеллект животных4 (1882). То, что сейчас мы были бы склонны расценить эту работу как относящуюся скорее к этологии, чем к сравнительной психологии, объясняется, в основном, совершенно не экспериментальным характером ее содержания и метода. Продолжая длинную традицию, включающую и самого Дарвина, Романес представляет анекдотическую информацию об умственной жизни низших организмов. В предисловии к своей работе он тщательно изучает ограничения “метода анекдотов” и утверждает, что будет привлекать только наблюдения, сделанные высокоуважаемыми натуралистами, объективность которых вне сомнения. Он также предвосхищает тех критиков, которые будут вообще оспаривать мнение о наличии у животных какого-либо интеллекта.
Романес настаивал на том, что все свойства ума выводятся путем заключения, поскольку мы можем быть уверены только в своих собственных умах, но не в умах других. Наше заключения о том, что Смит боится, основано на том, что Смит совершает те же действия, что и мы, когда боимся. То же самое происходит и тогда, когда мы приписываем Смиту свойства сознания, мотивации, памяти и т.д. Романес понимал, что эти свойства обладают разной стойкостью, и все они ослабевают по мере того, как мы переходим к наблюдению организмов, находящихся все ниже и ниже в эволюционной последовательности:
Этот тезис Романеса говорит о том, что сознание — конечная стадия умственной эволюции, а примитивные рефлексы — первая стадия. Инстинкты занимают промежуточное положение. Невзирая на свои права знаменитого биолога, он противился соблазну отстаивать этот тезис с помощью фактов, взятых из области физиологии. Он отмечает, что при перемещении функций с уровня рефлексов на уровень инстинктов, а с уровня инстинктов — на уровень подлинно рационального, “задействованные нервные процессы везде — одного и того же типа, различаются же они лишь по ... своей сложности.”7 Таким образом, он возражает против биологического редукционизма и настаивает на том, что данный тезис следует оценивать на уровне наблюдаемого поведения. В работе Романеса мы обнаруживаем переход от интроспективной психологии к бихевиоризму; здесь Романес обдумывает ценные качества и недостатки каждого из этих направлений. Вот к каким доводам он прибегает: (1) Я начинаю с того, что справляюсь о фактах моего собственного сознания, выявляя факторы, ведущие меня к определенным чувствованиям, действиям и мыслям. (2) Затем я беру эти интроспективно полученные данные и ставлю им в соответствие поведение низших организмов. Я аккуратно провожу различия между действительно адаптивным поведением и научением, с одной стороны, и более рудиментарными инстинктами и рефлексами, с другой стороны. (3) Наблюдая над животными, делающими те же вещи, какие делаю я вследствие происходящих у меня психологических процессов, я делаю вывод о том, что в обоих случаях имеют место сходные процессы. Таким образом, заключает Романес, муравьи практикуют рабство, королева термитов собирает аудиенцию, дверной паук думает, как воспрепятствовать незаконным вторжениям! Бихевиористская составляющая этого подхода — обязательство видеть подтверждение наличия психологических функций только в наблюдаемом поведении. Менталистская же составляющая — это, конечно, обязательство перевести данное подтверждение на язык сознания. Взятые вместе, эти стороны психологии Романеса служат примером антропоморфизма, что в современном свете представляется очень серьезным обвинением. Этот -изм обвиняется в совершении неоправданного логического заключения, превращающего человеческий разум в стандарт для объяснения поведения животных, отличных от человека. Так например, мы обнаруживаем, что один из современников Романеса, знаменитый ботаник Уильям Лаудер Линдсей, посвятил два больших тома проявлениям психического здоровья и нездоровья у животных и настаивал на создании для них психических лечебниц8. Противоядие для версии антропоморфизма, построенной Романесом, вскоре предложил его восторженный критик К.Ллойд Морган в работе Введение в сравнительную психологию (1894)9. Именно в этой работе Морган сформулировал свой знаменитый критерий:
В той же работе, однако, Морган допускает, что “именно с ... состояниями сознания должна иметь дело психология” (25), и мы, следовательно, можем разместить его в менталистическом контексте психологии девятнадцатого века. В отличие от Романеса, однако, на него произвели большее впечатление потенциальная полезность физиологии для изучения психологических процессов и необходимость освобождения научной психологии от использования в ней языка интроспекции. Мы видим оба эти соображения в следующих отрывках:
В первом из этих отрывков Морган предлагает считать анатомию и физиологию той основой, из которой могут выводиться правдоподобные заключения. Иначе говоря, утверждение о психологическом сходстве двух животных — это всего лишь заключение, которое мы получаем в тех случаях, когда у этих животных, в дополнение к наблюдаемому поведению, имеется подобие и в нервном аппарате. Во втором отрывке он еще более уточняет свои предостережения. Ученый, наблюдающий пчел, муравьев или собак, привносит в свое наблюдение язык, богатый аналитическим содержанием. Две сталкивающиеся массы муравьев для него являются “армиями”, поскольку лишь армии человеческих существ ведут себя тем же самым образом. Подобное наблюдение над человеческими армиями приводит к заключению о том, что данный военный поход осуществляется согласно определенной “стратегии” и ставит перед собой определенную “цель”; что действия одного типа “героические”, другие же — “трусливые”. Тем не менее, эти термины, “предполагающие анализ”, у наблюдателя возникают и они могут быть ошибочно применены к событиям, в которых нет никакого подобного анализа. Безусловно, даже в человеческих делах многие события можно объяснить без всяких ссылок на интеллект или сознание. Тем самым утверждается не отсутствие у человеческих существ того и другого, а возможность ограничить научную психологию наблюдаемым поведением и нерными процессами, посредством которых оно осуществляется. До сих пор данный обзор сравнительной психологии Моргана даёт изображение крайне современного психолога, бихевиористски настроенного и уверенного в том, что теория эволюции и наука физиология дадут психологии все, что ей нужно для достижения статуса науки. Но к концу своего текста он предлагает следующее:
В данном отрывке присутствует тот элемент консерватизма, который имеется у ряда дарвинистов, лояльных во всех прочих отношениях. Например, Альфред Рассел Уоллес (Alfred Russel Wallace), со-основатель теории эволюции, также был убежден в том, что эволюционное объяснение этики и абстрактных художественных или математических творений попросту несостоятельно10. Только когда мы переходим к радикальным эволюционистам вроде Геккеля (Haeckel) (1834–1919), все подобные оговорки заглушаются триумфом монистического материализма. Таким образом, обращаясь к тем, кто изымает искусство, этику или возвышенные мысли из области досягаемости эволюционной теории, Гекель побуждает их отказаться от своих суеверий. Что же касается таких якобы исключений, то:
Однако это просто полемический дарвинизм, и строители современной психологии мудро избегали подобного материала. Вместо этого они брали из теории эволюции самое полезное, а у Романеса и Моргана — то, что более всего соответствовало стилю и целям психологии двадцатого века. Первым ясным результатом этого явилась школа функционализма, кратко обсуждающаяся в следующей главе. Одним из ее основных архитекторов был Джеймс Роланд Энджелл (1869–1949), который, глядя назад на горячие битвы прошлого, говорил холодным и уверенным языком современного психолога:
Энджелл был учеником Уильяма Джемса в Гарварде и учителем Уотсона в Чикаго. Даже в этом коротком отрывке мы можем увидеть отступление от старого ментализма и интроспекционизма и появление на горизонте нового оперантного бихевиоризма. Определение психологии: естественная наука, Современная нейропсихология глубоко коренится не в чисто умозрительном материализме восемнадцатого века, а в клинических и экспериментальных открытиях девятнадцатого века. В связи с этим уже упоминались работы Галля, Белла, Мажанди и других (Глава 10). Однако лишь в более позднем периоде девятнадцатого столетия было достигнуто воистину современное объединение клинических и экспериментальных открытий. Здесь, в рамках общего контекста медицины и биологии, нашлось наиболее подходящее место для сравнения старого и нового взглядов на разум и болезни ума. Очень полезную базу для сравнения можно найти в истории права, в его отношении к защите обвиняемого, у которого обнаружено “умопомешательство”. И Греция, и Рим в периоды наивысшего расцвета античных цивилизаций, старались разрешить вопрос о правовой ответственности и правовом обязательстве; законы обеих стран предусматривали ослабленную ответственность. Например, детям делались особые послабления. Но в отношении взрослых презумпция персональной ответственности была правилом, а не исключением. В своей развитой форме законы Греции и Рима определенно объявляли незаконными вендетту и так называемый “закон мести” (lex talionis), и делали это на том основании, что лишь исполнителя можно назвать ответственным за это действие. Но как тогда быть с душевнобольными? Опять же, и греческое, и римское право признавали состояния безумия и оба допускали некоторую степень смягчения тем правонарушителям, которые были признаны душевнобольными. Однако критерий душевной болезни устанавливался достаточно определенно. В Риме, например, ответчик должен был быть сочтен fanaticus и non compos mentis. Первый термин эквивалентен слову “дикий”, второй — выражению “не обладающий силой ума” или “не контролирующий умственную силу”. Другими словами, ответчик должен был быть квалифицирован как нечто более низкое, чем человеческое существо. Давнишний стандарт “дикого животного” сохранялся в западном праве до самого начала девятнадцатого столетия13. Но событие, происшедшее в Англии и связанное с судебным делом Хедфилда (Hadfield) (1800), сыграло роль поворотного пункта — данному стандарту был брошен прямой и успешный вызов. Адвокат со стороны защиты утверждал, что Хедфилд, приговоренный к тюремному заключению (за попытку убийства Георга III), действовал под влиянием галлюцинации, и что эта галлюцинация, скорее всего, была результатом мозгового ранения, полученного на войне14. Случай с Хедфилдом иллюстрирует всеобщую готовность признать заключение специалиста-невролога основанием для оправдания. Мы видим, следовательно, что уже в 1800 году “мозговая теория” разума была настолько непреодолима, что играла решающую роль в знаменитых юридических случаях. Здесь важно не то, что к 1800 году даже простой обыватель стал принимать материалистическую психологию, а то, что он готов был признать возможность провоцирования определенных особенных состояний ума патологическими состояниями мозга. Таким образом, понятие свободы воли не отбрасывалось, но, до некоторой степени непреднамеренно, вовлекалось в более широкий натуралистический контекст. Хедфилд, согласно данному рассуждению, не вел себя свободно потому, что его воля была затуманена галлюцинацией, галлюцинация же была обусловлена болезнью мозга. Заметим, что никакого свидетельства этого в данном случае реально предоставлено не было; это выводилось лишь как следствие. И заметим также, что в огромном большинстве подобных ситуаций с уголовными преступлениями бездоказательная ссылка на “мозговую болезнь” редко подтверждается клинической неврологией вплоть до наших дней. Однако во время более или менее официальных обменов мыслями, происходили (и происходят) затяжные дебаты о том, в какой степени психическую жизнь можно постигать, пользуясь чисто неврологическими терминами и чисто неврологическими методами. В течение всего девятнадцатого столетия появлялись замечательные ученые, предлагавшие широкий набор аргументов в защиту обоих противоположных мнений. Всякая беглая попытка суммировать эти аргументы рискована, так как может привести к их дискредитации, но мы можем, по крайней мере, постараться уловить сущность конкурирующих взглядов. Согласно одному мнению — назовем его “менталистским”, — предметом психологии является сознание и самый лучший (если не единственный) метод, которым оно может изучаться, это психологический метод самонаблюдения. Мы называем такой подход “интроспекционизмом”, но важно отметить более тонкий смысл этого термина. Как показали ранние философские психологи (например, Локк, Беркли, Юм), интроспективный метод ограничивался исследованием чьих-то собственных идей и переживаний, исходящим из предположения о том, что у всех здоровых людей идеи и переживания, в основном, одинаковы и происходят согласно одинаковым базовым принципам. Но когда начали исследовать ощущения, то есть начали производить реальные эксперименты на перцептивных процессах, интроспективный метод стал, так сказать, экстернализирован. Таким образом, тот интроспективный метод, который критиковал Вундт, был методом личной или персональной интроспекции философов. Метод же экспериментальной интроспекции есть ни что иное, как психофизический метод, варианты которого были разработаны Фехнером и который восхвалялся тем же Вундтом. В своей основе эти методы происходят из убеждения в том, что рассказать о некоем переживании может лишь тот, кто его испытывает. Поэтому надлежащее исследование таких переживаний (ощущений, восприятий, познавательных актов) необходимым образом зависит от объективного наблюдения и измерения самонаблюдений субъекта. Джон Стюарт Милль назвал это “психологическим методом” и отстаивал его, противостоя той крайне биологизированной психологии, которую требовала Позитивная философия Конта. В самом деле, одним из оснований нетерпимости Милля в отношении позитивизма Конта, — решительно поддерживаемого им ранее, — было его заключение о наивности и узости позитивистского подхода к науке о разуме. Противостояние Конта и Милля по этому вопросу не было следствием разных взглядов на экспериментальную науку, так как здесь они находились в полном согласии. Оно было обусловлено разными взглядами на природу объяснения. Защита Миллем “психологического метода” шла в одном русле с его общими и развитыми взглядами на индуктивную науку, его противодействием метафизическим рассуждениям и его отказом от применения дедуктивных методов к фактическим данным. Рассмотрим теперь другой взгляд, который в нашем контексте будем называть “редукционным материализмом”. Его защитники начинают с утверждения о том, что все умственные состояния, события и процессы происходят их состояний, событий и процессов тела, а точнее, мозга. Развитие истинной науки о сознании, следовательно, требует постижения законов, управляющих организацией и деятельностью мозга. Для этого требуется лишь тщательное наблюдение над подходящими к случаю клиническими больными и систематическая программа исследований функций мозга у развитых видов. Одной из самых влиятельных работ, возникших в рамках этого направления (и сильно способствовавшей превращению его в “официальное”), была Физиология и патология ума (1867) Генри Модслея (Henry Maudsley)15. Модслей был известен благодаря многим своим достижениям. Он в значительной степени ответственен за создание благоприятных условий для амбулаторных больных в психических лечебницах и за энергичную защиту “медицинской модели” психических болезней16. В своей книге 1867 года Модслей останавливается на исследовании позиции Милля:
Называя это направление “редукционным материализмом” надо заботиться о том, чтобы не спутать его с новой версией атомизма, эпикуреизма или сенсуализма. “Редукционизм” означает сведение явлений психической жизни к законам нервных функций. Более того, делается упор на динамическую природу мозговых функций — на их эволюционный характер. Модслей, например, возражал как против ассоцианистской психологии Милля, так и против его “психологического метода”.
Не встречаем мы уже более ни случайных “вибраций” Гартли, ни пассивной, но “чувствующей статуи” Кондильяка. Новая нейропсихология готова ассимилировать весь объем психологических детерминант, действие которых сказывается на мозге:
Сопоставляя позиции Милля и Модслея, мы заметим отблеск темы, обсуждением которой была занята вся психология девятнадцатого столетия, независимо от того, развивалась ли эта психология в лаборатории, в лекционном зале, в клинике или в частной психиатрической службе. Результатом совместного влияния натурализма, дарвинизма и идеи прогресса явился вызов, брошенный в адрес традиционной самоуверенности кабинетных психологов. Никто более не верил в то, что все множество психологических законов можно обнаружить посредством локковской или юмовской формы рассуждения. Не было здесь уже и былой готовности отмежеваться от “сумасшедших” на том основании, что науке не следует тратить время на рассмотрение несчастных случаев и странностей. Каждая индивидуальная жизнь теперь расценивалась как жизнь в развитии, как эволюционирующая жизнь, понять и объяснить которую можно лишь нанеся на карту ее уникальный опыт, ее уникальную наследственность, ее динамические состояния сознания. Но даже и здесь девятнадцатый век был зажат в тиски одного из тех колоссальных противоречий, которыми печально знаменита Викторианская эпоха. С одной стороны, имелся эволюционный натурализм, рассматривавший историю и судьбу видов как целое. С другой стороны, имелась либертарианская этика, почти истощившая себя в борьбе за сохранение свободы и защиту достоинства каждой личности. Пути искоренения этого противоречия, изобретавшиеся тем столетием, были сложными, запутанными, и сохранились в значительной степени по сей день. Как говорилось в предыдущей главе, подход Вундта основывался на двух разных науках: первая была направлена на индивидуальное сознание (на его “многообразие сознания”) и опиралась, прежде всего, на методы психофизики; другая обращалась к социальным сообществам и опиралась на методы исторического и антропологического анализа20. Первая наука должна совершенно естественным образом быть связанной с другими естественными науками, в особенности с биологией. Однако, Вундт в своих Лекциях о психологии человека и животных вполне ясно говорит о том, что ни радикальному материализму, ни радикальному идеализму в этой науке места не будет21. Он продолжает фокусироваться на фактах сознания, а не на якобы существующих неврологических или духовных причинах.
Но психология индивидуального ума у Вундта все же является “физиологической” в том смысле, который обсуждался в предыдущей главе. Психологические законы и принципы можно извлечь посредством расширенных методов психофизики. Что же касается второй науки — “психологии народов”, — то ей Вундт отводит самую разоблачительную роль в борьбе с детерминизмом психологии девятнадцатого столетия. Обсуждать надлежит социального человека, человека действия, а не идеализированного человека, изучаемого в лаборатории по исследованию восприятия. В современных дискуссиях по истории психологии стало общепринятым рассматривать Вундта как “волюнтариста”, никак не связывая это с противовесом его психологических исследований. Однако, мы заметим эту связь, если посмотрим на выводы, содержащиеся в приведенной выше цитате и в цитатах, содержащихся в Главе 10. Вундт был приверженцем психологии сознания, науки о разуме как об уме. Когда он в приведенном выше отрывке настаивает на том, что “все, являющееся ценным для нашей умственной жизни, все-таки попадает в область психики”, делая это уже после исчерпывающего исследования механизмов мозга, он попросту заявляет о том, что защищает, по существу, психологический метод. Таким образом, отвергается не столько тезис о радикальном материализме, сколько коррелированная с ним претензия на то, что методы радикального материализма одинаково подходят и научной психологии. Опять-таки, признаем, что Вундт в действительности почитал и глубоко знал методы и открытия, полученные нейро-науками его времени. Но он не отдавал себя им во власть, полагая, что они проявляют чрезмерное самодовольство, когда заявляют, что они решают (или смогут решить) проблемы психологии. В чем состоял источник его сопротивления? Очень просто, таковым были факты самого сознания, показывавшие, что значимые человеческие действия происходят из воления и что воление не объяснимо в терминах нервных событий. Чтобы понять это рассуждение, необходимо разобраться в том, что Вундт подразумевал под “волением”. Если он имел в виду всего лишь “желание” или “мотивацию”, то мы просто противопоставим его положению легко устанавливаемые факты, связывающие активность мозга с состояниями мотивации. Но для Вундта мотив — это уникальная психологическая сущность, которую не следует путать с биологическими стимулами или эмоциональными состояниями. Мотив есть основание для действия:
Опять же, Вундт не был анти-детерминистом, он был анти-механицистом. Под “характером” он понимает сложный продукт биологической организации, культурных влияний, наследственных предрасположений и той цементирующей массы верований, мнений, установок и чувств, которые придают личности уникальную тождественность. Чтобы понять эту личность, необходимо обратиться к методам исторической, а не физической науки. Так как понять характер человека — это то же, что понять культуру в целом и детерминанты осознания этой культуры. Многие из этих положений можно найти в Принципах психологии (1890) и других работах Уильяма Джемса — пожалуй, самой значительной фигуры в истории американской психологии. Читая книги и статьи Джемса, а также Вундта, мы видим, что научная психология начинается с фактов сознания и простирается до законов их организации. Здесь же мы видим общий отказ от взгляда, согласно которому такие факты и законы сводятся (хотя бы в принципе) к физическим и биологическим процессам. И, наконец, мы видим, что особое место отводится факту человеческой воли, той особой автономии, которую она демонстрирует в целом ряде психологических установок, к числу которых не в последнюю очередь относятся религиозные верования. В урезанной версии своего классического двухтомника (1892) Джемс начинает описание психологии со ссылки на биологический взгляд и предлагает в качестве правдоподобной гипотезы материализм: “Непосредственным условием состояния сознания является та или иная активность полушарий мозга”24. Он считает, что эту гипотезу в большой степени поддерживают многие медицинские и экспериментальные открытия, и поэтому решает “без колебаний признать... что неизменная корреляция между состояниями мозга и состояниями сознания есть закон природы.”25. Его последующее исследование сенсорных и моторных функций направлено на подтверждение этой “рабочей гипотезы”. Но затем, когда обсуждение переходит на предмет сознания, лояльность Джемса в отношении этой гипотезы вначале испытывает замешательство, а затем и вовсе исчезает:
Друг Джемса, выдающийся философ Ч.С.Пирс (о котором более подробно говорится в следующей главе) изложил это более прямо:
Джемс, Вундт, Пирс и их ученики были так же нетерпимы, как чрезмерно самоуверенный материализм, и так же стремились освободить психологию от тяжелого метафизического багажа, который неизбежно привносился теми, кто настаивал на решении важных вопросов сейчас, раз и навсегда. Но эти же самые свойства можно приписать и тем, кто, подобно Модслею, находил в нейропсихологии ту самую простоту описания и экономию объяснения, которую философские психологи искали веками. Основные участники дискуссий по проблеме свободы воли и детерминизма вначале появились в сфере “волюнтаризма” и “материализма”, но девятнадцатое столетие предоставило место также и другим точкам зрения. Некоторые наблюдатели были убеждены в том, что реальные факты человеческой жизни как следует не поняты и не охвачены полностью ни одним из господствующих учений; что интроспекция, ограниченная “состояниями” сознания, неспособна раскрыть законы ума; что дарвинизм путает аналогии с тождествами; что материализм безнадежно неадекватен сложности социальной жизни. Джордж Генри Льюес (George Henry Lewes) (1817–1878) — пример тех мыслителей девятнадцатого столетия, которые предполагали, что психология будет “позитивной” наукой, но отвергали известные -измы, разрабатывавшиеся их современниками. В своих Проблемах жизни и разума: психологическое исследование28 (1874–1879) Льюес, в значительной степени продолжая традиции Дж.С.Милля, выступал против тех, кто, как он считал, некритично принял дарвинизм, материализм и интроспекционизм:
Заметим, что в этих отрывках Льюес отрицает не столько детерминизм, сколько его механистические версии, и указывает на более широкий социальный контекст, внутри которого действуют детерминирующие силы. Отметим также то, что он настаивает на необходимости экспериментирования и важности объективных наблюдений над деятельностью (поведением) человека и животных. Льюес не возражал против изучения психологии животных. Он предостерегает, однако, против тех чрезмерно “дарвинизированных” интерпретаций получаемых результатов, которые могут быть сделаны в ходе подобного изучения. В конечном итоге, вопрос о детерминизме либо бессмысленен, либо допускает эмпирическую проверку. В любом случае, собственным предметом психологии является действительное поведение реальных людей в социально значимых условиях, их дела, их идеи, и оказываемые на них давления. Не только в области сравнительной психологии, но также при исследовании сознания и психической жизни психология девятнадцатого столетия продвигалась в направлении практическом, анти-метафизическом, анти-теоретическом. В некоторых отношениях работы Вундта, Льюеса, Джемса, Пирса и других ослабили общий энтузиазм по поводу редукционистской физиологической психологии. Но более серьезный их результат — подготовка места для психологии как естественной науки, как науки о сознании и как социальной науки. Таким образом, возникновение специалистов не было неожиданным, те определенные методы и проблемы, которые в силу самой своей природы превратились впоследствии в набор специальностей, принимались постепенно. Дарвиновскому взгляду также было свойственно подвергать сомнению роль редукционного материализма в психологии. Акцентируясь на динамике, он выступил против традиционных механистических теорий жизни и успешно заменил их общей теорией функциональной адаптации. Акцентируясь на прогрессе, осуществляемом через борьбу, он водрузил на твердое натуралистическое основание подход к решению психологических вопросов, построенный по типу “история жизни” (“life history”). Точнее, он придал психологическим исследованиям всепроникающий прагматический стиль. Он заменил интроспекционистский вопрос “Что есть это состояние сознания?” функционалистским вопросом “Зачем оно?” Он же вел к уничтожению вековых различий между инстинктом и рациональным выбором, привычкой и целью, случаем и замыслом. Опять же дарвинизм был, скорее, кульминацией, чем источником таких взглядов. Клиническая психология и бессознательное Представление о бессознательных источниках мотивации очень старо как в литературе, так и в философии. Даже в эпических поэмах Гомера мы встречаем торговцев снами, которых боги присылают для того, чтобы сеять идеи и страхи в душе ничего не подозревающего спящего. Так же старо и более общее представление о том, что в действительности под покровом разума нашей психической жизнью управляют страсти. История теорий психических болезней — предмет, достойный отдельной книги, но существо дела здесь раскрывается в двух конкурирующих и конфликтующих предположениях о самой природе разума: первое, как мы видели в предыдущих главах, — натуралистическое, второе — спиритуалистическое. Но, проводя данное различие, мы не всегда можем предвидеть те следствия, которые могут быть выведены из этих предположений. Рассмотрим, например, теорию “одержимости дьяволом”, широко распространенную со времен позднего средневековья до периода Елизаветы, и заменившую ее “лунную” теорию безумия. Доводы в пользу одержимости разума дьяволом или духом не всегда, и даже не часто, базируются на явном суеверии. Скорее, они как раз непосредственно следуют из теории разума, по своему типу картезианской, теории, не противоречащей взгляду Аристотеля. Не развивая подробно эту аргументацию, просто примем следующие утверждения как само собой разумеющиеся. (1) Разум на наивысшем уровне своей активности постигает абстрактные принципы, универсалии и общие понятия, не доступные чувствам или через чувства. (2) Именно эта рациональная способность позволяет рациональным существам подчинять свое поведение целям и приводить свои суждения в соответствие с реальностями своей жизни и окружения. (3) Поскольку эта рациональная способность является принадлежностью того знания, которое нельзя получить через чувства, и поскольку она относится к тому, что является нематериальным, эта способность сама по себе не может быть материальной. (4) Поскольку это — нематериальная способность, она не может подвергнуться влиянию или воздействию чего-то, являющегося чисто материальным. Далее, если принять все эти утверждения, то из них будет следовать, что источник иррациональности или подлинного умопомешательства должен быть нематериальным, то есть духовным. Иначе говоря, завладеть рациональной способностью может только то, что как-то похоже на нее, а как мы увидели, данная способность не подобна материи. Обращаясь к “лунной теории”, согласно которой состояния умопомешательства индуцируются фазами луны, мы обнаруживаем, что в действительности ранняя натуралистическая теория психической болезни была похожа на “магнетическую теорию” Месмера, развитую позже в восемнадцатом столетии. Однако обратим внимание на то, на каком основании рационалисты (Аристотель, картезианцы и т.д.) возражали бы против подобных взглядов. Во-первых, здесь используется понятие действия на расстоянии, но не предлагается никакого доказательства в отношении той среды, через которую Луна или магнит могли бы достичь сознания. Но, что еще более важно, здесь требуется, чтобы чисто физические силы влияли на нечто, физических свойств не имеющее. Для рационалиста, следовательно, лунная или магнетическая теория — это просто колдовство под другим именем, ушедшее с головой в “естественную магию” герметизма времен Возрождения. Здесь уместно вспомнить, что Месмер (1734–1815) всегда настаивал на том, что магнетические трансы, которые он вызывал, объяснимы в физических терминах, и что в них нет ничего магического или связанного с суеверием. Его собственная медицинская подготовка была высочайшей (он работал в Вене под руководством таких знаменитостей, как Ван Свитен (van Swieten)) и до “месмеризма” он был высоко уважаемым врачом. Однако после официального рассмотрения его претензий и теорий, их отвергли по многочисленным основаниям, в том числе и из-за проблемы “действия на расстоянии”29. Даже позже, когда такие знаменитые ученые медики, как Джон Эллиотсон (John Elliotson) (1791–1868) и Джеймс Эсдейл (James Esdaile) (1808–1859) попытались донести до своих английских коллег большие возможности “месмеризма” в качестве анестезирующего средства, единственное, чего все они добились, — это утраты своей позиции в профессиональных кругах. Эллиотсон основал и занимался изданием The Zoist (1843–1856) именно из-за того, что научные журналы его времени не опубликовали бы научных работ, сообщающих о великих результатах месмеризма. Обсуждение здесь этого вопроса призвано привлечь внимание к тому, в какой полной степени научный истеблишмент принял механистический материализм и насколько устойчиво этот истеблишмент сопротивлялся всему, что отдавало старой “метафизикой”. Англия проявляла особенную непреклонность к теориям любого типа, не говоря уже о тех, которые развивали месмеристы. Эту самую непреклонность усиливали избыточные претензии новых романтических идеалистов — прямых потомков Шеллинга, Гете, Фихте и Гегеля, — теперь стремившиеся заменить эмпиризм и естественную науку абсолютной идеей. Согласно их концепции, простые физические факты Вселенной скрывают за собой более значительную цель и не способны отражать самый главный факт — свободу, к которой бессознательно, но неизбежно стремится человеческий дух. Ученые того времени не только не рассматривали такие утверждения с особой тщательностью, но и научились очень тонко улавливать признаки Абсолюта во всякой новой, представляемой на их суд идее и, не мешкая, отвергали ее, если таковые признаки находились. На этой основе становится проще понять два аспекта психоаналитической теории, проповедовавшейся Зигмундом Фрейдом: первое — холодный прием, оказанный ей в медицинских кругах тех дней; и, второе, — готовность Фрейда перевести везде, где возможно, психологические понятия в неврологические. Однако, прежде, чем вернуться к этому, полезно изучить общие свойства теории Фрейда. Фрейд — продукт того удивительно противоречивого климата немецкой мысли, в котором науку определял позитивистский, детерминистский и физикалистский язык Гельмгольца, философия же была гегельянской. Давайте вспомним главные события. Фрейд родился в 1856 г. Докторскую диссертацию (по неврологии) закончил в 1881. Лаборатория Вундта уже существовала, причем она работала очень продуктивно уже в течение двух лет. Гельмгольц, теперь шестидесятилетний, был старейшиной этой науки. Эволюционная теория, которую большинство ведущих биологов-антивиталистов принимали как факт, была опубликована уже более двадцати лет назад. Сам Дарвин умер всего лишь шесть лет назад. Оба его самых горячих и способных ученика, Томас Гексли (1825–1894) и Герберт Спенсер, были живы и, в частности, Спенсер разрабатывал психологию “инстинктов”. Если мы зададимся вопросом о том, насколько большая часть тогдашней науки использовалась в ходе обучения молодого Фрейда, нам следует лишь вспомнить, что его учителем по нейропсихологии и неврологии был профессор Эрнст Брюкке, сам являвшийся учеником Мюллера и одним из ближайших соратников Гельмгольца. В философском отношении в ошеломляющей степени главенствовало гегельянство. Психология и феноменология были двумя терминами, обозначавшими один и тот же предмет: сознание. Движущей силой Вселенной был свободный разум — разум, эволюционировавший из более примитивного, нерефлексирующего, иррационального субстрата. Даже Вундт, далеко не гегельянец, согласился, наконец, с тем, что предмет психологии исчерпывается содержаниями сознания. Вундт и Гегель были согласны также и в том, что чувства занимают центральную позицию в психологический жизни. Если согласиться с тем, что Фрейд представлял собой один из великих синтезирующих умов всех времен, то теперь мы имеем перечень основных взглядов, подлежащих синтезу. В конце обучения его энергия была посвящена, в основном, нейропсихологическим исследованиям, осуществлявшимся под руководством Брюкке. Мы знаем, что он надеялся получить профессорское кресло в Венском университете, но, будучи евреем, имел на это мало шансов. Расходы, требовавшиеся для женитьбы и содержания семьи, вынудили его заняться частной практикой по неврологии, тем не менее, с самого начала, он никогда не прекращал своих исследовательских попыток. Интересно, что он упоминается в вундтовских Основах, где есть ссылка на опубликованную им статью по афазии, вышедшую в 189130. Некоторые из его пациентов страдали “истерией”, в то время это была диагностическая категория, изобретенная для объяснения сенсорных и моторных недостатков, встречающихся при отсутствии обнаруживаемой нейропаталогии. Французский патолог Жан Шарко (1825–1893) возродил и придал респектабельность практике гипноза, которой он пользовался одинаково успешно и при лечении определенного типа истерических случаев, и в целях анестезии. Фрейд слушал лекции Шарко (1885–1886) в Парижском университете. Он вернулся в Вену, будучи готовым применить новую технику, уже привлекшую внимание Йосифа Брейера, другого бывшего ученика Брюкке. Фрейд позже напишет:
Еще одно открытие Брейера — то, что один из его пациентов назвал “лечением разговором” и что позже получило более экспрессивное, но, возможно, менее прямое, название “катарсис”. Несмотря на прекращение отношений между Фрейдом и Брейером в области медицины (хотя они и остались друзьями), они ввели в употребление незамысловатые принципы психоаналитической теории в серии совместных трудов, начинающейся с 1895 года и подытоженной в Studien über Hysterie. Профессор Боринг (E.G.Boring) бросает беглый, но проницательный взгляд на этот теоретический союз двоих, один из которых — Брейер — был на 14 лет старше:
Под воздействием гипноза истерические симптомы пациента могли перемещаться с одной части тела на другую. Истерически парализованную руку можно было заставить двигаться, но вследствие этого пропадала способность произвольно двигать ногой. Зрение можно было восстановить, но вследствие этого появлялась глухота. Поскольку пациент не проявлял никакого понимания причин этой проблемы и поскольку гипнотическое внушение могло раскрыть симптомы, Фрейд и Брейер заключили, что механизм образования симптомов бессознателен. Вопреки двум широко поддерживаемым взглядам, эти симптомы не были симуляцией, посредством которой пытались вызвать жалость, не были они также уделом одних лишь женщин (даже несмотря на то, что термин “истерия” происходит от греческого uterus i).
Непопулярность понятий, введенных Фрейдом; отличие его взглядов от взглядов Брейера и желание Брейера оставить науку ради практики — все работало на то, чтобы развести этих двух людей друг от друга. К 1900 г. их дружба была почти исключительно светской. В 1900 г. вышла в свет работа Фрейда Толкование сновидений. На следующий год появилась Психопатология обыденной жизни. Таким образом, к началу двадцатого века у него были последователи. К 1920 г. возникло движение. К 1930 г. он стал, и с тех пор остается, выдающейся фигурой современной теоретической психологии. Центральное понятие системы Фрейда — понятие “бессознательной мотивации”. И Гербарт, и Фехнер рассуждали о бессознательных процессах. Но Фрейд одним из первых использовал это понятие с претензией на научность. Иначе говоря, Фрейд первый стал использовать это понятие в качестве “научного объяснения”, при той трактовке данного термина, которая была введена в первой главе. Оно стало пониматься как “всеохватывающий закон”, из которого можно вывести определенные следствия. Обращение Фрейда к данному понятию было обусловлено потребностью найти то воздействие или средство, через которое можно было бы контролировать поведение независимо от желания пациента. Когда Брейер лечил своего пациента методом катарсиса, Фрейд понял, что интенсивность, с которой определенные воспоминания контролируют поведение, уменьшается после оживления реальных воспоминаний. В соответствии с этим (и здесь метафора машины становится реальностью) он заключил, что болезненные мысли подавляются, что они находят себе место в бессознательном и что симптомы возникают в результате действия подавленных элементов — иначе говоря, психическая энергия сохраняется благодаря образованию симптомов. Лишь путем сознательного оживления прошлой травмы, извлечения ее из укромных уголков бессознательного симптомы, наконец, могут быть сняты. В противном случае они могут только перемещаться по организму в замаскированном виде. Едва ли об этом можно сказать лучше собственных слов Фрейда:
Быстрый отказ Фрейда от гипноза следует объяснять не только влиянием, оказанным на него Гельмгольцем, который описывал гипноз как “фантастический”, “мистический”, но также и как следствие его неспособности погрузить ряд пациентов “в это” состояние. Он окончательно отказался от гипноза в пользу метода катарсиса и дополняющего его метода свободных ассоциаций. Рассудив, что невротические симптомы — это результаты неполного и неуспешного подавления, Фрейд стал стараться раскрыть травматический эпизод в жизни пациента, опираясь на характер совершаемых им оговорок. Сюда входили так называемые обмолвки (parapraxes), автоматические или свободные ассоциации и, самое яркоеиз всего, — сны. Будучи детерминистом, Фрейд считал, что рассматривать сны и оговорки как беспричинные не более обоснованно, чем полагать таковыми нормальную речь и бодрствование. Поэтому “фрейдовская оговорка”, не менее, чем замаскированные сюжеты или фантазии мира снов, под проникающим светом психоанализа может иметь прямую связь со следами травм, имевших место в детстве. Это — следствие того самого эволюционного развития, которое проходит психика человека на своем пути к стадии зрелости. Будучи внутренне созвучной дарвинизму, теория Фрейда базируется на представлении об инстинктивных биологических побуждениях, заставляющих индивидуума вести себя определенным образом в целях выживания. Принцип, управляющий всеми этими побуждениями или определяющий их, — это принцип удовольствия. Проявление этого принципа — сексуальное удовлетворение, включающее в себя, в своем наиболее развитом выражении, гетеросексуальные отношения, имеющие специальное назначение — производство потомства. Однако, человек доходит до этого уровня лишь после успешного прохождения через более примитивные стадии удовольствия, на каждой из которых этого человека может захватить травматическое событие. Стадии идентифицируются в терминах определенных источников удовольствия: оральных, анальных, генитальных и фаллических. Сексуальная “энергия”, использующаяся в этом бесконечном поиске удовольствия, есть “либидо”, оно находится на службе у наиболее примитивного, предназначенного для выживания элемента психологических существ — у “id”. Поскольку инстинкты id таковы, что они ведут к инцесту, убийству или чисто эгоистическим действиям, никакое человеческое общество не смогло бы вытерпеть нерегулируемых его проявлений. Поэтому всякое общество должно “социализировать” свою молодежь: развивать у них совесть или "суперэго" (superego), которое будет направлять человека не прочь от удовольствия, а к социально приемлемым способам получения удовольствия. Результатом компромисса между импульсами id и ограничениями суперэго является то самое Я (ego) , которое мы осознаем. На своем пути к зрелой сексуальной мотивации (являющейся мотивом для производства потомства посредством гетеросексуальных контактов), ребенок должен выбирать подходящие объекты. Естественная склонность ребенка мужского пола направлена к его матери, которая постоянно ассоциируется с удовольствием. Однако, искать расположения матери означает, в то же время, добиваться откровенного обмена мнениями с отцом, результатом чего является или может явиться кастрация. Вследствие этого образуется эдипов комплекс, при котором мальчик может успешно отвести угрозу кастрации, лишь став равным отцу или переместив свои поиски на другой объект. Патологические состояния — это результаты неуспешного разрешения напряженностей, внутренне присущих эдипову комплексу. Даже по такому простому наброску теории личности Фрейда мы можем понять синтетический характер этой системы. Человеческая личность развивается. Истоки ее — анималистические, нацеленные на выживание, принцип удовольствия Бентама здесь возводится до уровня медицинской или неврологической реальности. Двигателем психологического роста служит энергия, ведущая себя согласно тем же типам правил, которые господствуют в физическом мире. Так же, как физическая энергия, психическая энергия сохраняется, является направленной, распределённой и никогда не уничтожимой. Подобно Фихте и Шеллингу, Фрейд видел мир как множество полярностей, в котором силы одного полюса противопоставлены силам другого полюса: id борется за превосходство над superego, “жизненная сила” (eros) пренебрежительно конфликтует со “стремлением к смерти” (thanatos), естественные инстинкты ведут организм к следующей стадии, сталкиваясь с социальными табу и ритуалами, которые в иной ситуации могли бы разрушить проявление инстинкта, — и, при всем этом, Фрейд постоянно утверждает, что конечным предметом интереса психологии является сознание в том самом дерзко гегелевском смысле: познание, чувства, разум, пребывающие в поисках Абсолюта, способного привнести мир и гармонию. Вскоре вокруг Фрейда сформировалась группа и создала “школу” психоанализа. Членство в ней было неустойчивым, прежде всего из-за настояния Фрейда на строгой ортодоксии и из-за мелочности его реакций на несогласие с ним. В целом, отступления от ортодоксии относились, в значительной степени, больше к выбору акцента, чем к фундаментальным несогласиям по основным понятиям теории. По крайней мере, в самом начале, тех, кого можно было бы, во всех прочих отношениях, назвать “фрейдистами”, можно было различить по относительной значимости, которую они придавали социальным детерминантам по сравнению с инстинктивными, и по месту размещения ими в иерархии инстинктов тех нескольких инстинктов, которые содержатся в теории Фрейда. Карл Густав Юнг (1875–1961), например, в большей степени был сознательным “дарвинистом”, полагая, что бессознательное содержит не только подавленные элементы личного опыта индивидуума, но также и коллективные бессознательные элементы, характерные для всей расы. Поэтому у каждого мужчины имеется идеализированное, “архетипическое” бессознательное изображение или представление женщины (anima), а у каждой женщины, в ее подсознательном, имеется соответствующий мужской архетип (animus). Таким образом, в противоположность представлениям Фрейда, бессознательное не может постигаться исключительно или даже преимущественно посредством анализа персональной истории развития, а неврозы не могут пониматься исключительно или даже преимущественно как следствия сексуальных влияний34. Альфред Адлер (1870–1937) тоже ушел от фрейдовской ортодоксии и, подобно Юнгу, основал свою собственную “аналитическую” школу психоанализа. В основе позиции Адлера — понятие “воля к власти” и то динамическое взаимодействие, которое происходит между непрерывно развивающейся личностью и поворотами судьбы, предлагаемыми обществом. Таким образом, у Адлера мы обнаруживаем движение прочь от фрейдовского детерминизма и его неявной зависимости от физиологии и естественных наук35. И Юнг, и Адлер предложили альтернативы, в большей степени формально порывающие с фрейдовской ортодоксией, однако задолго до них обоих существовали психоаналитические взгляды, совершенно противоречившие теории, благодаря которой так прославился Фрейд. Для выявления родословной психоанализа, развивавшейся не в Вене, мы обратимся к Франции, к творческой карьере Пьера Жане (1859–1947), написавшего свой докторский труд под руководством Шарко, чьим преемником на посту главы Психологической лаборатории в Сальпетрьере он стал в 1890 году. Юнг сам прибыл в Париж для проведения совместного исследования с Жане, который к 1906 г., когда его пригласили для чтения лекций в Гарвард, уже завоевал серьезную международную репутацию. У Жане были свои оригинальные мысли о природе и причинах психических болезней, но кроме этого взглянуть на его работы с исторической точки зрения стоит еще и потому, что это проливает дополнительный свет на проблемы, с которыми вынужден был столкнуться Фрейд в научном сообществе. В этой связи самая оригинальная работа Жане — и также одна из немногих, переведенных на английский язык, — "Психическое состояние при истерии" (“The Mental State of Hystericals”)36, здесь мы ее кратко рассмотрим. Жане интересовался, главным образом, разными явлениями истерии, на которую уже направил все свои усилия Шарко, а, вскоре, и Фрейд. Существует определенная гамма симптомов истерии: от лунатизма и патологического страха, до “автоматического письма”, глубоких потерь чувствительности и способности передвижения. Нечеткость понимания этих расстройств предопределяется самим термином, производным от греческого слова uterus. В самом деле, до тех пор, пока Шарко документально не описал ряд проявлений того, что он назвал “мужской истерией”, медицинское сообщество единодушно полагало, что ею страдают только женщины. Если природа симптомов истерии известна, то больной обычно старается узнать мнение невролога и предлагаемый им способ лечения. Однако, как очень убедительно продемонстрировали Шарко и Жане, пациенты, действительно страдающие истерией, не проявляют вообще никаких признаков какой бы то ни было невропатологии. Более того, хотя эти симптомы и ограничиваются неврологическими нарушениями, они, при тщательном наблюдении, не проявляются так, как эти нарушения. Примером может служить истерическая анестезия. Если анестезия является результатом неврологической болезни, то все рефлексы, связанные с утраченными в данный момент ощущениями, также исчезают. При истерической же анестезии чувствительность теряется, тогда как рефлексы обычно остаются не затронутыми. Более того, истерическая анастезия крайне мобильна и непостоянна, меняясь не только по своей интенсивности, но и по своему местонахождению. Пациент может во вторник не обладать никакой чувствительностью в верхних конечностях, а затем, в пятницу, — никакой чувствительностью в нижних конечностях, проявляя, в то же время, нормальную чувствительность в верхних конечностях. Научная проблематика, возникающая при столкновении с таким явлением, касается, в первую очередь, метода, а затем — объяснения. Занимаясь этим вопросом Жане очень близко познакомился с исследованиями Вундта и его коллег в Лейпциге, но был убежден в неадекватности их методов. Общее равнодушие Лейпцигской группы к сложным медицинским проблемам — их “пуристский” взгляд на природу науки — были, по мнению Жане, причиной того, что они страдали от навязанной ими самим себе наивности. Даже их понятие об элементарных ощущениях во многом лишено психологического содержания, поскольку они фокусируются на глаголе (я вижу, я чувствую, я слышу) и исключают субъекта (Я).
Таким образом, Жане не примет экспериментальные методы Вундта, поскольку Жане интересует именно болезнь личности, ее раскрытие в восприятии, в действии, в эмоции, а не болезнь восприятия per se. Но если методы интроспекции и психофизики недостаточны, и если все данное предприятие не должно выходить за пределы научного контекста, то быть может следует использовать методы физиологов? Этот вопрос, безусловно, обсуждался в первую очередь, и то, что впоследствии назвали “психоаналитическим” методом, предназначалось для его решения. В руках Жане этот метод базируется, как он говорит в своем введении, на “строгом детерминизме”, игнорирующем изучение “философских проблем” и начинающемся с описания пациента “в нем самом и посредством него самого”.38 Всеобъемлющий детерминизм, принятый Жане, предписывает, чтобы истоки всякого психического явления находились в мозге и чтобы всякая психическая патология имела мозговое происхождение. Этот тезис не противоречит тому факту, что симптомы истерии не являются неврологическими. Последний термин обычно предполагает некоторую болезнь сенсорного или моторного пути, либо некоторое повреждение в области мозга. Жане полагает, что истерия обусловлена не такого рода условиями, а всеохватывающими функциональными свойствами мозга как целого. Конкретно, он возводит эти симптомы к некоторой “навязчивой идее”, контролирующей психическую жизнь пациента и настолько “сужающую поле сознания”, что для пациента внешние события становятся недоступными. Парализованный пациент не способен “представить” движение в мозговых центрах по той причине, что произошло разъединение между его личностью и реальным миром. Знаменитый Шарко, сочиняя краткое предисловие к первому (французскому) изданию текста Жане (1892), говорит читателям о том, что его бывший ученик “хотел объединить, настолько полно, насколько это возможно, медицинские исследования с философскими”, однако в этих замечаниях Шарко скорее сообщает о своей собственной, становящейся все более психологической, точке зрения, чем о точке зрения Жане. На протяжении всего текста Жане критикует преждевременные попытки теоретизирования и все философские подходы к тем клиническим проблемам, с которыми он имеет дело. Каждого пациента следует рассматривать уникальным образом, а не в соответствии с некоторой чересчур общей теорией науки или с ипседиксицизмомi философа. Требуя введения понятия бессознательного, Жане связывает его с особыми симптомами, с наблюдаемым поведением пациента. Мы видим это по его обсуждению навязчивых идей:
Однако обратившись к недавней публикации Фрейда и Брейера об истерии, Жане обнаруживает здесь ряд недостатков — несмотря на то, что авторы любезно признают приоритет Жане. Он недоволен их статьей, так как они пытаются всякое возникновение истерии объяснить способом, в действительности применимым лишь к определенным случаям, и так как они недооценивают сложность терапии:
В то время, когда Жане писал эти слова, Фрейд еще не построил свою психосексуальную теорию неврозов, но идей, в большой степени ей родственных, уже было достаточно много для того, чтобы Жане обратился к якобы присущему истерии эротическому элементу:
Мы находим в этих отрывках те самые гипотетичность и здравый тон, которых будет так недоставать в книгах и статьях Фрейда. Если Жане готов принимать факты такими, какие они есть, то Фрейд почти что с раздражением будет пытаться приспособить факты к своим теориям. Его современники уже саму манеру его изложения воспринимали как нечто совершенно ненаучное, что же касается последующих поколений, то как раз в точности эта самая манера изложения привлекла их внимание, была причиной их лояльности и даже увлечения. Фрейд часто думал о Первой мировой войне как о своего рода лаборатории, кошмарным образом ратифицировавшей его главные заявления. В определенных отношениях именно эта война придала теории Фрейда патологическую неопровержимость в среде напуганных и погрустневших интеллектуалов. Что очевидно, однако, так это то, что холодный прием, изначально оказанный его идеям, не следует объяснять в терминах Викторианских приличий. К тому времени, когда Фрейд сделал сексуальность постоянной принадлежностью своих трудов, она уже обсуждалась в медицинской литературе в течение десятилетий. Антропологи, по крайней мере, с конца восемнадцатого столетия, сообщали о различных примитивных страстях и табу, и отмечали, что сексуальная символика была основной во многих культурах. Теория бессознательной мотивации с ее древними и даже библейскими корнями, также уже была усовершенствована Шарко и Жане прежде, чем Фрейд начал строить свою теорию. Основная проблема Фрейда — и здесь нам следует демистифицировать ту картину готической битвы, которую изобразили его друзья и дружески настроенные биографы — была в том, что способ его мышления восприняли как анахронический. Это не только объясняет то, почему его работы сразу были встречены пренебрежительно, но и то, почему он сам, в течение всей жизни, пытался приписать им научную респектабельность. Научное сообщество научилось жить без Абсолюта, без метафизики и без космических всеобъемлющих интеграций первых веков — научилось как раз примерно в то же время, когда были опубликованы психоаналитические размышления Фрейда. Психология особенно усердно искала для себя место в науке и поэтому ее в особенности смутила теория, в которой пропорция между допущениями и фактами была настолько мала. Если в самом начале о фрейдистской психологии знала лишь небольшая и несколько враждебная аудитория, то последующие поколения это с избытком компенсировали. Но “клиническая психология” представляет собой нечто большее, чем “фрейдистская психология”, и отличается от нее. Вначале это была медицинская психология, и она оставалась таковой вплоть до быстрого триумфа психоаналитической теории. Однако, следует провести различие между, с одной стороны, этим направлением, и, с другой стороны, — более старыми и более современными формами физиологической психологии. Согласно принятому здесь значению этого термина, медицинская психология имеет дело, в первую очередь, с явлениями психических болезней и с применением тех экспериментальных процедур, которые могли бы их объяснить. Физиологическую психологию, как в вундтовском, так и в современном смысле, главным образом, интересуют те регулируемые законами процессы, которые характеризуют нормальное поведение нормально воспринимающих организмов. Кроме того, разграничение можно провести по линии национальностей, так как именно Франции принадлежит главная роль в инициировании развития медицинской психологии, а Германии — в развитии физиологической психологии. Для придания смысла этому разграничению, следует вспомнить о том, что Генри Модслей был не экспериментатор или “ученый”, в обычном смысле этих слов, а практикующий врач, занимавшийся теми вопросами, которые обычно связываются с психиатрией. Следовательно, в той степени, в какой клиническая психология идентифицировала себя с естественными науками, она была экспериментально ориентированной дисциплиной, заявленной как своего рода альтернатива по отношению к интроспективной и психофизической школам Германии. Она рассматривала явление болезни сознания не просто как то обстоятельство, которое надлежало проанализировать, а как то, что заставляет задуматься о принципах, посредством которых можно понять сознание как таковое. Болезнь, в конце концов, есть один из экспериментов природы, и тонкий наблюдатель может узнать из экспериментов такого рода столько же (если не больше), чем можно собрать в любом количестве (неестественных, антисептических и т.д.) лейпцигских исследований. Такова была общая установка французской психологии, однако среди психологов убедительнее всего в ее пользу ратовал Альфред Бине (1857–1911). Бине родился в Ницце, учёная степень ему была присвоена в Сорбонне, где он работал под руководством профессора Бони (Beaunis), который, уйдя в отставку, передал свою лабораторию Бине. В течение своей быстрой карьеры Бине стал одним из со-основателей самого престижного французского психологического журнала L'Annee Psychologue, написал имевшие влияние тексты по гипнотизму, множественности личности и экспериментальной психологии и положил начало тем методам тестирования интеллекта, которые стали определяющими в области тестирования и измерения ума. Он был близким другом Пьера Жане, переписывался с Уильямом Джемсом, регулярно публиковал статьи в международных журналах и, возможно, был фигурой наиболее ответственной за то, что клиническая психология удержалась в рамках естественной науки в то время, когда круговорот теорий грозил ей изгнанием. Психологам Бине более всего известен как один из со-изобретателей теста Бине-Симона для оценивания умственных способностей — того теста, который в Америке всплывет на поверхность под названием “тест Стенфорда-Бине”. У самого теста интересная история. Он возник после того, как министерство образования потребовало изобрести средство, с помощью которого можно было бы выявлять отстающих детей для специального обучения их в парижской системе школьного образования (1904 г.). Спустя довольно небольшое число лет, этот тест, подготовленный Бине и Симоном, стал использоваться во всем мире, а в ряде американских штатов он даже являлся обязателным42. Однако, уделяя столь большое внимание этому этапу работы Бине в области психологии, современный психолог зачастую пренебрегает не только более значительным вкладом Бине, но и самим основанием, обусловившим то, что он стал изобретать интеллектуальные тесты. Бине интересовался динамикой ума, его развитием, расстройствами и практическими функциями. Даже тогда, когда он применял гипноз в клинических условиях, доминирующим мотивом было использование гипноза как экспериментального средства для стимулирования состояний ума. В одной из своих ранних работ "Психология воображения" (“Mental Imagery”, 1892) он обсуждает гипноз как метод “интеллектуального или нравственного анатомирования”43, позволяющего внедрить мысли и идеи в сознание, не полагаясь на функции восприятия и ощущения человека. Он также дает ученому возможность создавать когнитивные состояния в нормальной психике, а не томиться ожиданим интересных клинических случаев. В его широко известной работе О раздвоенном сознании (On Double Consciousness) он выражает недовольство тем, что университеты продолжают учить “устаревшей науке, единственным методом которой является метод интроспекции”, в то время, когда французская психология прочно связана с естественными науками и “оставила исследования психофизики для немцев”.44 Обращаясь к его работе по тестированию ума, мы обнаруживаем те же базовые соображения. Как в Интеллекте слабоумных (The Intelligence of Imbeciles)45, так и в Развитии интеллекта у детей (The Development of Intelligence in Children)46 Бине говорит об умственных тестах как о неотъемлемой части “психогенетического метода”. Его интерес к проблеме умственной отсталости возник в первую очередь вследствие того, что он считал, что отсталый индивид — независимо от его хронологического возраста — имеет психику, которая зафиксировалась на определённой стадии развития и, следовательно, свойственную этой стадии. Другими словами, отставание становится патологией не в силу того, что происходящие в этом случае процессы не похожи на обнаруживаемые у нормальных людей, а в силу того, что эти процессы обнаруживаются лишь у людей, гораздо более молодых. Соответственно, тщательное тестирование задержек умственного развития дают ключ к нашему пониманию нормального развития (генезиса) психики per se. Тем не менее, Бине обнаружил, что для этой эволюции характерно огромное разнообразие и что научной психологии необходимо обращаться к фактам индивидуальных различий. В его работе Психология воображения мы видим, как он хвалит Фрэнсиса Гальтона за применение им статистических методов, позволяющих сравнивать индивидуумов. В конце этой работы Бине замечает:
В этом отрывке неявно содержится критика всей эпохи философской психологии и ее следа — интроспективного метода. Экспериментальный гипноз, напротив, допускал исследование индивидуальных различий и разрешал исследователям создавать, повторять и изменять психические состояния. Аналогичным образом, тестирование работы ума представляло собой разновидность косвенного эксперимента, в котором умственный возраст был зависимой переменной, а хронологический возраст — независимой переменной. В работе Интеллект слабоумных Бине подчеркивает роль абстрактного мышления во всех подлинно умственных операциях и обращает внимание на функциональную природу такого мышления. В отличие от интроспекционистов, столь неутомимо трудившихся над тем, чтобы выделить структурные элементы и атомы опыта, он заявляет:
Благодаря попыткам Бине во Франции и Уильяма Джемса в Америке, нарождающейся науке психологии была предоставлена широкая междисциплинарная область, расположенная между психологическими исследованиями Германии и все более сужающимися психологическими исследованиями ранних нейропсихологов. Здесь часто возникало внимание к психопатологии, но чаще — по крайней мере, у Бине и Джемса — исследования и теории, посвященные нормальным познавательным функциям. Практический и “прагматический” тон их трудов не обменивался на устранение ментальности, однако он, по крайней мере косвенно, способствовал бихевиористской (ориентированной на действия) науке. Специальности, взращенные теми, кого мы обсуждали в этом разделе, уже нельзя подходящим образом разместить под заголовком “клиническая психология”. Несходные во всех прочих отношениях теоретические и практические изыскания Фрейда, Жане, Бине, Джемса, Юнга и Адлера объединяет, во-первых, то, что они увидели в уме сущность, обладающую прошлым и будущим, динамическую сущность, принципы работы которой вряд ли может раскрыть анализ (интроспективный или психофизический) кратковременных ощущений. Во-вторых, все они были убеждены — хотя и по разным основаниям — в том, что подлинно психологические явления следует рассматривать, скорее, на уровне психологии, чем на уровне нейрофизиологии (в значительной степени неизвестном). Жане и Фрейд оба приняли “цереброгенетическую” теорию истерии, но оба настаивали на том, что эту болезнь следует описывать и лечить на психологическом уровне. Вместе они, следовательно, противостояли как интроспективному, так и биологическому редукционизму. Наконец, все они ратовали за практически полезную научную психологию; психологию, способную объяснить психические явления такими, какими они встречаются в реальном мире и у реальных людей. Согласно современным стандартам, Уильям Джемс вряд ли назвал бы себя клиническим психологом, даже несмотря на то, что он обучался медицине и часто писал о клинических случаях. Бине также был опытным клиницистом, часто сосредоточивающимся в своих статьях и книгах на психопатологических аспектах, но Бине уже более не называют клиническим психологом. Не допускается ли тогда в этой главе, где они обсуждаются под таким заголовком, ошибка в употреблении языка? Я думаю — нет. Я бы, напротив, указал на еще большую степень специализации, имевшую место в минувшей половине столетия, и на существующую тенденцию прослеживать только одну из линий исследования, вместо тех многих, которые преследует каждый из этих людей в своей собственной профессиональной жизни. Бине, однако, полагал, что для психолога заниматься одним лишь тестированием интеллекта было бы не более осмысленно, чем для врача заниматься одним лишь измерением температуры. Тестирования ума рассматривались как средство, а не как цель научной деятельности. То же происходило и в случае Жане, Фрейда и Юнга: цель психоанализа — не просто лечить пациента (хотя это, возможно, и похвально), а приближаться к пониманию законов умственной жизни. В этой главе мы увидели, что в конце восемнадцатого и начале девятнадцатого столетия произошло обновление общих понятий. Это обновление привело к специализации как в выборе проблем, так и в выборе методов. Между 1870 и 1920 годами были установлены определенные области исследования для психологии личности, для клинической психологии, для сравнительной психологии, для эволюционной психологии. Образовалась также и социологическая точка зрения, на которой настаивал Льюис, которую развивал Вундт и которая получила распространение во всей науке позднего Викторианского периода — эта точка зрения вскоре оформилась как социальная психология. Таким образом, мы видим мост между до некоторой степени свободной и многообещающей “научной психологией” и более знакомыми областями и школами современной психологии. В этом описании, однако, отсутствует именно та дальнейшая дифференциация, которая придает сегодняшней психологии очень специфический характер. Поэтому в следующей главе мы исследуем три характерных — доминирующих — ориентации в современной психологии: бихевиоризм, гештальт-психологию и физиологическую психологию. В Главе 10 девятнадцатое столетие виделось через широкоугольный объектив; в Главе 11 — более узко и в самой его поздней части. В последней главе нас будет интересовать более короткий период, приблизительно с 1920 до 1950, когда психологии было придано направление, самое близкое к сегодняшнему. Изобретение девятнадцатого столетия Именно Альфред Норс Уайтхед приписал девятнадцатому столетию “изобретение метода изобретения”. Это был первый период истории, когда почти каждый значительный философ понял важность функции экспериментирования для поиска истины. Это было также первое столетие, во время которого большинство, громадное большинство, серьезных научных работ было полностью лишено теологической окраски. Письменные свидетельства этого столетия особенно похвальны в отношении психологии. Исследуя темы, заполняющие сегодняшнюю литературу по профессиональной психологии, нам трудно найти такую, которая еще не была пущена в ход — часто в форме, которую все еще надлежит улучшить — теми, чьи достижения мы исследовали в этой главе. Физиологическая психология, представлявшая собой нечто большее, чем плод полемики восемнадцатого столетия, стала наукой благодаря Флурансу, Галлю, Беллу, Мажанди, Гельмгольцу и Вундту. Сравнительная психология была создана Спенсером, Дарвиным, Романесом и Морганом. Психология индивидуальных различий — творение Бине и Фрэнсиса Гальтона, так же, как и некоторые статистические процедуры, необходимые для подобных исследований. Когнитивная и гештальт психологии столь тесно связаны с феноменологией, что лишь пурист мог бы отказать Гегелю и неогегельянцам в титуле “основателей”. “Фрейд”, “Жане”, “Юнг” и “бессознательное” — почти синонимы. Наше понимание того, что такое экспериментальная наука и какой ей надлежит быть, воспринято нами лишь с незначительными модификациями от Дж.С.Милля, общее же отношение к статусу науки остается во многом тем самым, что отстаивали Огюст Конт и его ученики-позитивисты. Наша зачарованность гедонистической этикой, позволяющей формировать мир посредством поощрений и наказаний, непосредственно восходит к Иеремии Бентаму и утилитаристскому движению. Даже наши превозносимые “гуманистические” психологии с их упором на “само-актуализацию”, развитие личности, индивидуальную свободу, так и не улучшили исходные формулировки немецких романтиков. Современная психология, следовательно, является, в значительной степени, примечанием к девятнадцатому столетию. 1 Обратитесь к статье “Rorarius”, приведенной Бейлем в своем Dictionary. Эту работу можно найти в: Historical and Critical Dictionary (Selections), translated by Richard H. Popkin, Bobbs-Merrill, Indianopolis, 1965. 2 Английская традиция интерпретации работы Галля On the Functions of the Brain and Each of Its Parts содержится в шеститомном издании, вышедшем в Бостоне в 1835 году. Я поместил это без сокращений в Vol XVI, XVII, XVIII (Series A) Significant Contributions to the History of Psychology, edited by D.N.Robinson, University Publications of America, Washington, D.C., 1978. В отдельных предисловиях, написанных мною к каждому из томов, я пытаюсь определить, в чем состояли приоритет и влияние Галля в сферах физиологической психологии, сравнительной нейроанатомии и анатомии зародышевого и неонатального периодов. 3 Показательны рецензии, переизданные в “Darvinism”: Significant Contributions to the History of Psychology, Series D, Vol.IV. 4 Romanes, George, Animal Intelligence. Публикация 1883 года переиздана в Significant Contributions to the History of Psychology, Series A, Vol.VII. 5 Там же, р.4–6. 6 Там же, р.13. 7 Там же, р.12–13. 8 William L.Lindsay, Mind in the Lower Animals in Health and Disease, 2 vols., London, 1879. Эти два тома переизданы в Significant Contributions to the History of Psychology, Series D, Vols. VI,VII. 9 C.Lloyd,Morgan, Introduction to the Comparative Psychology, London, 1894. Эта работа переиздана в Significant Contributions to the History of Psychology, Series D, Vol.II. 10 См. в особенности последнюю (XV) главу из его Darvinism: An Exposition of the Theory of Natural Selection with Some of Its Applications, Macmillan, London, 1889. В этой главе Уоллес утверждает, что “Невозможно усмотреть какую-либо связь между (музыкальной способностью) и выживанием в борьбе за существование”, и предлагает “независимое доказательство того, что математические, музыкальные и артистические способности образовались не в соответствии с законом о естественном отборе” (стр. 468–469 издания 1897 года). 11 Это взято из: Ernst Haeckel. Last Words on Evolution, translated by Joseph McCabe, London, 1906. Переиздано в: Significant Contributions to the History of Psychology, Series D,Vol.III, p.111. 12 Эта работа Энджела появилась в виде журнальной статьи (“The influence of Darwin on Psychology”) в 1909 и была переиздана в Significant Contributions to the History of Psychology, Series D, Vol.IV. Процитированный отрывок взят со стр.169. 13 Краткий обзор истории этого вопроса см. в Главе 2 моей Psychology and Low: Can Justice Survive in the Social Sciences, Oxford, New York, 1980. 14 Эта история с Хедфилдом и связанные с ней случаи, происшедшие в Англии, приведены в Series F (“Insanity and Jurisprudence”), Vol.VI, Significant Contributions to the History of Psychology. 15 Текст Модслея переиздан в Series C, Vol.IV, Significant Contributions to the History of Psychology. 16 Относительно этой защиты см. его работу Responsibility in Mental Disease (1876), которая вместе с работой Phillipe Pinel. Treatise on Insanity (London, 1806) была переиздана в Series C, Vol.III, Significant Contributions to the History of Psychology. 17 Там же, р.37. 18 Там же, р.187. 19 Там же, р.197. 20 Несокращенный двухтомный перевод работы Вундта Elenehts of Folk Psychology: Outlines of a Psychological History of the Development of Mankind, London, 1916 переиздан в Series A, Vol.XV, Significant Contributions to the History of Psychology. 21 W.Wundt. Lectures on Human and Animal Psychology, translated by Janet Creigton, London, 1894. Переиздана в Series D, Vol.I, Significant Contributions to the History of Psychology. 22 Там же, р.446. 23 Там же, р.432–433. 24 W.James, Text Book of Psychology, Macmillan, New York, 1892,p.5. Цит. по: В.Джемс. Научные основы психологии. СПб, 1902. С.6. 25 Там же, р.6. Русский перевод: с.7. 26 Там же, р.462–464, в сокращении. Русский перевод: с.365–367. 27 C.S.Pierce, “The Architecture of Theories”, The Monist, January 1891, pp.161–176. 28 Отдельная работа — The Study of Psychology была опубликована в Лондоне (1879) и переиздана в Series A, Vol.VI Significant Contributions to the History of Psychology. 29 В созванную экспертную комиссию входил стареющий Бенджамен Франклин, со стороны которого Месмер ожидал встретить более терпимый и компетентный разбор. 30 Wundt, Lectures, p.308. Здесь, в примечании, Вундт ссылается на работу Фрейда “Zur Auffassing der Aphasien (1891). 31 S.Freid, “The Origins and Development of Psychoanalysis”, American Journal of Psychology, 21 (1910). 32 E.G.Boring, A History of Experimental Psychology, Appleton-Century-Crofts, New York, 1951,p.709. 33 Freud, Origins. 34 Ближайшим источником этих взглядов является работа Psychological Reflections, selected and dited by J.Jacobi, New York, 1953. 35 Двумя показательными работами являются Inferiority and Its Psychical Compensation (translated by S.E.Jellife, New York, 1917), и Practice and Theory of Individual Psychology (translated by P.Radin, New York, 1927). Отклонение Адлером (фрейдовского) детермнизма наиболее ясно изложено в его работе The Neurotic Constitution, 1912. 36 P.Janet, The Mental State of Hystericals, translated by Caroline Corson, New York, 1901. Этот перевод переиздан в Series C, Vol.II Significant Contributions to the History of Psychology. 37 Там же, р.35. 38 Там же, р.xiv. 39 Там же, р.280–281. 40 Там же, р.412. 41 Там же, р.215. 42 Одно из проявлений иронии истории — в том, что эти тесты, применение которых шестьдесят лет тому назад было сделано обязательным ради соблюдения справедливости и беспристрастия, сейчас подвергаются законодательным и судебным нападкам. 43 Работа “Mental Imagery” первоначально вышла в виде статьи в Fortnightly Review (1892) и была переиздана в Series B, Vol.IV, Significant Contributions to the History of Psychology. 44 Binet. Alterations of Personslity (English translation 1896) и его же On Double Consciousness (English translation 1890) обе приведены в Series C, Vol.V, Significant Contributions to the History of Psychology. Цитата взята со страницы 12 последнего издания. 45 A.Binet, The Intelligence of Imbeciles (English translation, 1909). Эта работа была переиздана в Series B, Vol.IV, Significant Contributions to the History of Psychology. 46 A.Binet and T.Simon, The Development of Intelligence in Children (English translation, 1911). Эта работа переиздана в Series B, Vol.IV, Significant Contributions to the History of Psychology. 47 Там же, р.104. 48 Там же, р.153–154. Глава 12. Современные формулировки Описывать современную психологию, прибегая к размытому термину “примечание”, это значит впасть в ошибку scholastica successions civitatium, которую мы торжественно обещали избегать в самой первой главе. Никто из современных психологов не обращается, благоговея, к анналам учений девятнадцатого столетия, пытаясь обнаружить там собственно психологические проблемы и методы. При самом внимательном взгляде на курсы и тексты по психологии как студенческого, так и профессионального уровня станет очевидно, что сознательно признаются лишь очень немногие достижения девятнадцатого столетия. Какой-нибудь честолюбивый психолог, конечно, может что-то знать о “методе Милля” или о том, что Вундт основал первую в мире лабораторию, посвященную исключительно психологическим исследованиям. Профессиональные преподаватели также ожидают от своих студентов знакомства с основными чертами дарвиновской биологии и с сенсорно-физиологическими теориями Гельмгольца. Однако никого уже более не просят вчитываться в работы Спенсера и Бэна, Фихте и Шеллинга, Канта и Гегеля. Даже Уильям Джемс изображается как музейный экспонат, а Э.Л.Торндайк — как автор известного закона и пророк метода, причём, и то, и другое измененны до неузнаваемости. Ни один вводный курс психологии и, конечно, ни одно средоточие “наиглавнейших” психологических исследований не считается полным или хотя бы приемлемым, если там периодически не упоминают великие старые имена, не стирают с них пыль, не поздравляют себя с тем, что увидели более, чем большинство, осторожно возвращая потом эти имена в их склепы и перемещая тем временем психологию к более насущным вопросам. Обычно, и это увидит всякий, готовый потратить время на просмотр более популярных общих и исторических текстов, список великих старых имен быстро сжимается. “Греками”, конечно, не пренебрегают никогда. Возможно, несколько строк будет посвящено тому факту (хотя может быть это и не есть факт) что не очень много интеллектуальных результатов получено в период между падением Рима и эпохой Возрождения, за исключением, быть может, св. Августина и Фомы Аквинского. То, что было после, провозглашается “современной эрой”, здесь воздается должное Локку и Декарту, после чего можно, оставив в стороне философию, начинать изучение психологии. Именно такой подход к основаниям науки более или менее гарантирует каждому поколению психологов привилегию переоткрытия некоторых из самых примечательных идей в истории мысли. Это также присваивает психологии тот статус вечно молодой науки, который провозглашается большинством ее представителей в течение всего времени ее существования. Титченер, следовательно, мог написать в своем очень читаемом Учебнике психологии (Primer): “Психология — это очень старая наука; у нас есть полный трактат, написанный рукой Аристотеля (384–322 до н.э.). Однако экспериментальный метод был принят психологами лишь недавно”1. Из этого можно было бы сделать вывод, что наука приняла экспериментальный метод в античные времена, а наука психология — нет. Факт, однако, состоит в том, что эксперименты в большинстве областей науки стали реально доминировать над чистым размышлением лишь в восемнадцатом столетии и тогда же, одновременно, начались и эксперименты по восприятию. По всем приемлемым в данном случае стандартам, первая психологическая лаборатория была создана позже, но не более, чем на 50–75 лет. Действительно, университетские лаборатории, подобные той скромной, которую создал Вундт, до девятнадцатого столетия были крайне редки и появились в Германии относительно поздно2. Правительство Французской революции в 1793 казнило Лавуазье и разрешило Французской Академии наук возобновить свою деятельность только в 1795, когда все убедились в том, что либертарианская риторика не решит проблем, стоящих перед Францией. Французские университеты, однако, стали выдающимися центрами экспериментальной науки лишь после проведения Наполеоном реформ образования. В Германии такие попытки начались еще позже, но когда Фехнер искал данные в поддержку своей науки психофизики, ему достаточно было найти работу Вебера Der Tastsinn und das Gemeingefuhl (1846), уже напечатанную в популярном учебнике3. Еще раз повторяясь, скажем, что психология приняла экспериментальную точку зрения очень близко к тому времени, когда данную точку зрения разделило все нучное сообщество, и этим временем был девятнадцатый век. Поэтому неправильно настаивать даже на том, что психология молода как экспериментальное предприятие. Психология молода в том смысле, что она все еще решает свои вопросы при отсутствии унифицирующей теории, подобной теориям, выдвинутым Коперником, Галилеем или Ньютоном. В той степени, в которой это верно, мы должны быть готовы принять определенную, хотя и вызывающую беспокойство, возможность — возможность того, что психология не только молода как наука, но что она вообще еще не наука. Характер науки определяется не механическим применением того или иного метода, а тем гораздо большим контекстом, в котором основанием для выбора методов служит их очевидная приемлемость для решения широко понимаемой проблемы. На уровне описания очень мало общего между методами, принятыми Архимедом в античной Греции, Ньютоном — в Англии семнадцатого столетия, Дарвином — в середине девятнадцатого столетия и Эйнштейном — в начале двадцатого столетия. Одним словом, здесь нет единого научного метода вообще. Здесь, однако, есть достаточно систематическое отношение между идентификацией значимой научной проблемы и последующим выбором одного из доступных методов наблюдения и измерения. Это отношение устанавливается посредством теории, богатой онтологическими или объяснительными возможностями. Теория, богатая онтологическими возможностями, — это такая теория, которая, если она оказывается достоверной, проясняет, а возможно даже уменьшает, область реально имеющихся сущностей. Мы уже более не верим в то, что причина увеличения объема предметов при нагревании — это то, что они в результате нагревания присоединяют некоторую субстанцию, называемую “летучим веществом”. Мы более не объясняем явления, ссылаясь на свойства флогистона. История экспериментальной психологии не следовала образцу развитых наук, а по прошествии времени ее границы отдалились от этого образца еще более. Какая же охватывающая теория экспериментально проверена современной психологией? Какая проблема решена? Как повлияли психологические гипотезы или открытия на объем и природу той онтологической области, в которой следует искать все истинно психологические явления? Характерная черта экспериментальной психологии — то, что она выбрала довольно прозаическое множество экспериментальных “проверок” и парадигму повторяющихся измерений. Этот метод работы, если его применять в широко различающихся ситуациях, позволял устанавлвать довольно устойчивые функциональные соотношения между зависимыми и независимыми переменными, но в условиях, обычно настолько отличающихся от области интереса, что обобщения делались неинтересными. Заслуга психологов девятнадцатого столетия — в том, что они храбро попытались применить такие методы к психологическим явлениям, поскольку лишь пытаясь развивать психологию таким образом и можно было оценить границы этого метода. Меньшая заслуга — у тех легионов, которые, исполнившись сознанием долга, подражали этим усилиям в течение большей части столетия. Мы допускаем ошибку scholastica succesionis civitatium, если, при отсутствии ясного основания, допускаем, что повторное появление некоторой идеи в более позднее время и в ином культурном контексте должно быть результатом ее заимствования из более ранней культуры. Мы вступили бы на этот путь, если бы предположили, например, что современный ученый-бихевиорист, изучающий реакции на удары током или пищевые подкрепления при обучении поведению, является учеником Иеремии Бентама. Даже если бы можно было показать, что создатели бихевиоризма в начале двадцатого столетия черпали вдохновение непосредственно из произведений утилитаристов, то и из этого не следовало бы, что люди, занимающиеся этой работой сейчас, являются учениками в любом полезном смысле этого термина. Скорее, говорить здесь следует о совершенно другом. Дело не в том, что девятнадцатое столетие оставило современной психологии непреодолимое наследие, а в том, что современная психология как раз и есть, в своих самых глобальных отношениях, психология девятнадцатого столетия, и что ее современные отступления от взглядов девятнадцатого столетия произошли не под давлением научных фактов или теорий. Это определенное отступление современных психологов от методов и терминологии непосредственного прошлого, объясняется причинами, отличными от причин, породивших аналогичные решения со стороны физиков, биологов и химиков. Современные физики не тратят силы на поиски флогистона, поскольку они показали, что такой вещи не существует. Они не работают над созданием вечного двигателя, поскольку закон сохранения энергии свидетельствует против него. Генетики не планируют экспериментов по проверке наследуемости приобретенных характеристик, поскольку в пределах любых не фатальных изменений среды молекулярная биология гена стабильна и, следовательно, не изменится в результате обучения или практики. В психологии сдвиги акцентов базируются не на таких соображениях. В первых двух десятилетиях нашего столетия самыми влиятельными фигурами в американской психологии были Джемс и Титченер. Титченер в своем Primer предложил психологию, не слишком отличающуюся от психологической концепции своего учителя Вундта. Психология должна заниматься экспериментальным анализом сознания.
Уильям Джемс в очень похожем духе начинает свой Учебник психологии, определяя предмет психологии как “описание и истолкование состояний сознания”5. Сейчас ни один служитель современной психологической сцены не сомневается в том, что вряд ли сохранился хоть какой-то след той программы, которой занимались Титченер и Джемс. “Правила интроспекции”, описанные первым, не применяются ни в одной лаборатории, не используются ни в одном продвинутом исследовании в рамках этой дисциплины, не составляют никакой части современного психологического образования. То же можно сказать о проводимом Джемсом подразделении этой дисциплины на ощущения, мозговую деятельность и тенденцию к действию6. Но посмотрим, какова разница между этим смещением или полным изменением интересов и теми изменениями, которые происходили в физике и биологии. Мы действительно обладаем сознаниями, мы являемся сознательными, мы можем размышлять о нашем индивидуальном опыте, поскольку мы имеем его. В отличие от эфира или наследования приобретенных свойств, эти явления существуют и являются наиболее общими для человеческого опыта. Следовательно, отсутствие ортодоксальных последователей Вундта, Титченера или Джемса нельзя объяснить исчезновением предметов их исследования. Скорее, это следует понимать как результат невозможности применения принятого метода психологического исследования к этим предметам. Современный психолог, быть может не осознанно, связал себя метафизическим обязательством относительно метода и исключил, per force i, из области значимых вопросов те, которые не могут быть охвачены этим методом.
Данный метод, сам по себе, — это не просто некоторый вариант экспериментального метода. Так считали и Титченер, и Джемс. Метод, о котором здесь идет речь, — это не только множество действий и процедур. Он включает в себя способ размышления о проблемах и способ их обсуждения. Этот метод нуждается в названии и чаще всего его называют эмпирическим, однако всякое соблюдение обычаев возможно лишь с оговорками. Применение этого термина к данному метафизическому обязательству почти наверняка ввело бы в заблуждение таких исторических эмпириков, как Локк, Беркли, Юм, Милль и Джемс. Они вряд ли смогли бы понять психологию, старающуюся освободиться от менталистических предикатов. Мы можем лишь подозревать, что их реакция на представление о психологии как о “бихевиористской науке” будет варьировать от недоверчивой до эксцентричной. Термин эмпирический, если рассматривается его современное употребление, должен также означать измерение, практическую направленность, беспристрастность, этическую нейтральность и (иронически говоря) антиметафизичность. Современные журналы, посвященные нейропсихологии, клинической практике, обучению животных или помощи семье, стараются отражать эти “эмпирические” свойства. До какой степени этот всепроникающий аспект современной психологии также является “примечанием” к девятнадцатому столетию? Для ответа на этот вопрос нам следует еще раз задержаться и рассмотреть, каковы были влияние немецкого идеализма и реакция на него. Философия Просвещения серьезно перекроила то, что некогда считалось рациональным обоснованием истинности. В Англии и Франции наука решительно повернулась в сторону светского направления, откуда впоследствии уже никогда не отступала. Неудачная попытка французской революции изменить общие условия жизни французов, а также крайности этой революции способствовали развитию политического консерватизма по обе стороны Ла Манша. Приход Наполеона к власти и происшедшие в результате этого войны привели к появлению разнообразных, не связанных друг с другом религиозных, социальных и политических движений. В Англии произошла определенная концентрация традиционных классовых различий и возросла враждебность по отношению к либеральным философиям, обвиняемым многими за имеющиеся в мире проблемы. Объективная и ультрарациональная философия британских эмпириков, как считалось, увела людей прочь от религии и вбила клин между повседневной жизнью и областью трансцендентного, придающего смысл повседневной жизни. Некоторые считали, что единственное разрешение этого кризиса веры следует искать в философиях идеалистического направления, в то время охвативших Германию. “Натурфилософию” Шеллинга британская аудитория встретила столь же сочувственно, как и любая аудитория в его собственной стране. Наиболее красноречивыми и сильными лидерами британского идеалистического движения были поэты “озерной школы”, в особенности, Кольридж (1772–1834) и Вордсворт (1770–1850). Они с большей проницательностью, чем прочие, ощущали ослабление исторических ценностей, подкрадывающийся релятивизм в этике и морали. Послушайте воззвание Вордсворта, призывающего из до-Юмовских времен героя, утерянного Англией:
В его Ode to Duty и Character of the Happy Warrior также утверждаются традиционные идеалы — звучит призыв к высшим целям. Далее он заключает свою мольбу пятой строфой из Intimations:
Кольридж, имевший еще большее число последователей, вселил это послание в души несметных тысяч, сочинив своего Старого морехода, герой которого считал “лучше свадебного праздника /... Идти вместе к церкви / С приятными собеседниками”. Эти поэты воспевали природу, требовали возвращения к естественным чувствам, в том числе — к таким как долг, нравственность, любовь невидимого, но известного Бога, доступного лишь тому, что Байрон в “Шильонском узнике” назовет “Бессмертный Дух свободного Ума“i.
Для того, чтобы почувствовать дух викторианской Англии, надо постараться объединить явно противоречивые силы романтизма и индустрии, натурализма и экспериментализма, свободы и долга, пуританской нравственной простоты и имперского социального изобилия, предприятий с потогонной системой и филантропии. Эти полярности не только постоянно присутствовали, каждая из них встречалась в поистине громадных масштабах. В то время как шахтеры задыхались до смерти за несколько пенни в день, Джон Констебль рисовал пейзажи, которые вряд ли кто-либо мог посетить. Пока Чарльз Белл воздействовал на спинномозговые нервы, пока Галль и Шпурцгейм пытались трансформировать мораль в неврологию, Теннисон описывал исковерканную судьбу всех материалистов в своем Лукреции, где основной герой, убежденный в своей собственной незначительности, раздавленный своей “бедной короткой жизнью, влачащейся полчаса”, убивает себя. В некотором смысле, который имеет свои основания, революция Дарвина сама создавала напряженность между натурализмом, романтизмом и материализмом: человек, эволюционировавший из природной слизи и развающийся, благодаря инстинктивной обязанности выживать, до положения временного господства над всем живым; человек, “избранный” природой для того, чтобы выполнять свою теперешнюю роль. Но даже сам Дарвин, чьи работы станут авторитетным возражением против романтического идеализма, не смог избежать влияния со стороны поэтов “озерной школы”. Он завершает свою работу Выражение эмоций у человека и животных гипотезой о том, что эмоции, получая своё выражение (в поведении), усиливаются, и эта тенденция к само-интенсификации очень ценна для адаптации животного. Таким образом, в конце объемного трактата, в котором он изучает строение лицевых мускулов и костей челюсти, Дарвин находит поддержку со стороны судьи, обладающего “удивительным знанием человеческого ума”7...
В романтической поэзии Вордсворта и Кольриджа, в литературных аллюзиях Дарвина мы обнаруживаем признаки внутренних конфликтов, бушевавших в Викторианской Англии. Для того, чтобы понять их действительную суть, нам следует обратиться к авторам середины и конца девятнадцатого столетия — к Метью Арнольду, который в работе Культура и анархия стремился внедрить в индустриальную и жестко экономическую систему “свежесть и свет”, хорошие манеры, вкус, разум и чувство жилища8, и к Дж.С.Миллю, чья работа О свободе провозглашала, что каждый человек, по существу, обладает интеллектуальной свободой, и имеет право не встречать никаких ограничений со стороны государства за исключением тех случаев, когда он может причинить зло другим. Был еще и Джон Раскин, о чьем стиле и проницательности кратко говорилось в Главе 6, и который написал историю искусств, превращавшую архитектуру в урок нравственности — Раскин, при изучении зданий и картин этого периода снова утверждавший идеалы Возрождения или, по крайней мере, то, что он принимал за такие идеалы. Никакая отдельная глава, не говоря уже о нескольких страницах, не может отдать должное неустанно живому и стойкому уму викторианцев. Следует обрисовать этот период, хотя бы кратко, для того, чтобы мы увидели те популярные установки, с которыми сражался разум учёного. На самом общем уровне можно сказать, что он сражался с гегельянством, но одновременно в этом же гегельянстве он находил самую горячую защиту свободы и прогресса. Романтические умы того же периода сражались с наукой и материализмом, однако целями самих этих движений по-прежнему были идеалы свободы, безопасности, достойного дела и отсутствия нужды. Особенность современной психологии следует искать в том, что эти две силы девятнадцатого столетия не смогли найти средства примирения. Лишь их разъединение могло разрешить этот диспут. Гельмгольц подытожил ситуацию наиболее ясно:
Все, кто стал заниматься психологией во время этого беспорядка, и все, кто пришел после того, как он (временно) утих, должны были выбирать между некоторой версией гегельянства и индуктивной наукой Милля. Даже феноменология Брентано и Гуссерля10, cтоль радикально отличавшаяся от того, что имел ввиду Гегель, была переделана в “описательную психологию”, являвшуюся скорее философией, чем психологией, но никак не “эмпирической” наукой. Таким образом, в Европе, где идеалистическая традиция была самой глубокой, психологи могли стать либо приверженцами Вундта, либо неогегельянцами, либо физиологами в обличье психологов. В Англии и Америке эти альтернативы были более упрощенными. Можно было стать либо философом, либо экспериментатором. Не оказаться в числе последних, означало не оказаться в числе психологов. Заметим, что историческое развитие именно таковым и было: историческое и не научное. Не было найдено никакого логического доказательства для демонстрации несостоятельности рационалистической психологии. Никакое экспериментальное открытие не выявило отсутствие у нас нравственного чувства, соединенности с Богом или любви к красоте. Никакая хирургическая процедура не установила, что психологические измерения человеческой жизни легко свести к нервным механизмам. Даже “методы Милля”, являющиеся сейчас основными средствами новой науки, не могли претендовать ни на истинность, подтвержденную логикой, ни на достоверность, требуемую наукой, — по крайней мере, в том виде, в каком эти методы применялись в психологической лаборатории. Скорее, действительно была принята метафизическая установка, причем не в отношении природы истины, а в отношении природы психологии. Было принято решение, что психология — это не более, чем определенный вид метода, “экспериментальный” метод, и предмет ее исследования должен охватывать лишь те данные, которые поддаются этому методу. Послушайте, как другой выпускник Лейпцига Теодор Зийен (Theodor Zeihen) в 1895 году определяет психологию:
Э.У.Скрипчер (E.W.Scripture), другой лейпцигский профессор, писал из Йельса в 1897 году, излагая это таким образом:
Зийен говорит о “методе мышления”, свойственном ученым-естественникам, и Скрипчер провозглашает введение усовершенствованного метода наблюдения. Но каков этот “метод мышления” и как этот метод наблюдения был улучшен? За ответом мы можем обратиться к Титченеру:
Именно посредством этих “методов” Титченер надеялся выявить структуру сознания: то есть построить структурализм как тот раздел психологической науки, роль которого совпадает с ролью анатомии в биологической науке. Эта “наука” долго не просуществовала и, конечно, не могла просуществовать. Самое большее, что структурализм мог вообще надеяться совершить, это переоткрытие того, что каждый человек — мужчина, женщина и ребенок — принимает за истину в любой сознательный момент повседневной жизни. Настояв на разрыве с философской традицией и утвердив это новое предприятие в статусе “естественной науки”, основатели экспериментальной психологии вынуждены были сузить область проблем до ... запаха воска. Законы ассоциации, в конечном итоге, позволяют каким-то образом объединить такие результаты в полное описание “элементов сознания”. До некоторых пор высказывалась претензия на то, что эта цель достижима: что упорное наблюдение, осуществляемое “непредвзятыми, внимательными, спокойными, бодрыми” людьми приведет к естественной науке об уме, что само наблюдение безусловно и есть естественная наука об уме. Но здесь не было никакого “обобщающего закона”, никакой теории, заслуживающей этого названия, никакого независимого множества измерений, относительно которых можно оценивать психофизические методы. Факты, полученные в исследованиях Вундта и передававшиеся снова в Лейпциг либо в титченеровскую лабораторию в Корнелле, не вели себя так, как предположительно подобает вести себя фактам. Даже самым спокойным людям, при всем их старании, в отдельных случаях трудно было иметь одинаковую “интроспекцию”. Несмотря на крайне очевидные обязательства, принятые в исследованиях Вундта-Титченера, экспериментальный метод остался в центре психологии и пребывает там до сих пор. В известном смысле это — метод, ищущий свой предмет, и в оставшейся части данной главы мы рассмотрим некоторые из извлекаемых при этом возможностей. Мы назовем Джона Б. Уотсона (1878–1958) “отцом” бихевиоризма, но лишь после того, как признаем, что отцовство влечет за собой наличие дедушки и бабушки, хотя бы одного супруга и потомка. К этому нам следует добавить тот факт, что дети не обязаны платить за грехи родителей и что приобретенные характеристики не наследуются. Но, поскольку исторический анализ охватывает область, намного большую, чем генеалогия, мы оставляем метафору “отцовства”, заметив, что для бихевиоризма значим не факт его авторства, а факт его принятия. Когда Курт Коффка (1886–1941) представил свои Принципы гештальт-психологии (1935) в качестве, помимо прочего, опровержения бихевиоризма, он отметил, что американцы обладают очень сильной предрасположенностью к науке, к науке “точной и земной”; что касается метафизики, то она вызывает у них
Он, без сомнения, думал об американской психологии, которая стала отходить от проблемы сознания к объективному измерению поведения. Однако в 1935 эта тенденция только начиналась. В конце концов, Америка была страной Уильяма Джемса и Джона Дьюи, страной, которой Титченер предоставил возможность стать родиной структурализма. Однако не Джемс, не Дьюи и, без сомнения, не Титченер были теми, кто вызвал к жизни критику Коффки. Нам следует также заметить, что эта критика не была обусловлена самим по себе фактом превращения поведения в предмет возрастающего интереса. И, конечно, она не была обусловлена тем, что психология животных занимала в Америке значительное место, поскольку Вундт никогда и не пытался узаконить безразличие к таким вопросам. Фактически он в своих Лекциях по психологии человека и животных (1894) явно рекомендовал это:
Однако, американский бихевиоризм не просто изучал психологию животных, не ограничивал он себя также и эстетическим решением исследовать поведение, а не что-либо еще. Бихевиоризм Джона Б.Уотсона настаивал всего лишь на том, что научная психология должна заниматься исключительно поведением и совершенно не интересоваться сознанием, психическими состояниями, интроспекцией, бессознательными процессами и прочими “призраками”. Он провозгласил этот -изм с безупречной ясностью в 1913:
Структурализм, с точки зрения Уотсона, неопределенен, замкнут по своим методам, безнадежно не контролирует свои данные и принял на себя миссию, которую нельзя успешно выполнить, поскольку ее никогда нельзя завершить. Число возможных “переживаний” никак не ограничено, это обусловлено, в особенности, тем, что каждое из них можно испытать, находясь в любом из “от трех до девяти состояний ясности внимания”. Уотсон, несмотря на свои поиски, так никогда и не нашел такого врача, юриста или бизнесмена, который когда-либо, хотя бы однажды, нашел применение методам или открытиям структуралистов. Ясно (для Уотсона), что предприятие, настолько неспособное внести вклад в практические дела жизни, может иметь лишь короткое будущее. Распорядившись таким образом с Титченером и со всей вундтовской традицией, Уотсон обратил свое внимание — пребывавшее, как минимум, на девятой ступени ясности — на то, что функционалистская школа отождествляла с Джемсом и Дьюи. Уотсон искренне допускает, как и достаточно многие психологи, что он так и не сумел понять, чем именно предполагал заниматься функционализм в отличие от психологической концепции Титченера. Джемс в своем Учебнике психологии высказался против эмпирического ассоцианизма и против тех, кто описывает реку в терминах “стаканов, кварт, ведер, бочек и иных мер емкости.”17 Он утверждал, что нельзя произвольно делить “поток сознания” ради удовлетворения потребности экспериментальных психологов, и что, следовательно, любое разделение сознания на структуры могло бы привести лишь к искажению понимания сущности сознания. Постигая природу сознания, надо понять, для чего оно предназначено в дарвиновском смысле. Надо, таким образом, выявить его функцию; его роль в адаптации человека к требованиям среды. Такова была позиция Джемса в 1882 г., еще до появления структурализма Титченера, и Титченер, цитируя Джемса в своем Primer, делает это всегда либо в поддержку одного из своих собственных утверждений, либо заимствуя остроты у мастера красноречия. Джон Дьюи (1859–1952) тоже нападал на элементаризм, утверждая, что понятие рефлекторных “единиц” не может объяснить согласованную природу успешного (то есть функционального) поведения18. Однако ни Титченера19, ни Вундта20 нельзя назвать наивными в этом вопросе. Уотсона беспокоило не то, что функционалисты находили в структурализме некий недостаток, а то, что они, тем не менее, рекомендовали плодотворный метод его исправления. Уотсон, в суматохе бурной критики и революционной риторики, не нашел никакого компромисса ни с кем из своих непосредственных предшественников. Независимо от того, что считалось предметом: воспитание детей21, природа сравнительной психологии22 или предписания для всякого психологического исследования23 — миссия была всегда одинакова: каждая ветвь естественной науки должна быть посвящена предсказанию естественных событий; наука должна изучать лишь то, что можно наблюдать; психические состояния и личный опыт не существуют в мире общедоступной верифицируемости; одно лишь поведение составляет предмет подлинно научного исследования. Вундт и Титченер, следовательно, с самого начала выбрали неверный путь, предположив, что для утверждения научности их предприятия достаточно принять экспериментальную точку зрения. Они произвели правильное методологическое решение, но выбрали для своего изучения такой предмет, который никогда не сможет достичь научного статуса. Как полагает Уотсон, неверный акцент устанавливается в психологических концепциях Вундта и Титченера по каждому ключевому вопросу: человеку уделяется больше внимания, чем всему животному царству вообще; опыту уделяется больше внимания, чем действию; экзистенциальным соображениям — больше, чем эволюционным; теоретическим — больше, чем практическим. Бихевиоризм, как его определил Уотсон и как его с тех пор понимают, посвящен переориентации каждого из этих акцентов. Трудно объединить вместе те разные факторы, которые привели Уотсона к его манифесту. Еще труднее выделить факторы, ответственные за быстрый успех бихевиоризма и за возрастание интереса к нему в последние полстолетия24. Высшее образование Уотсон получил в Чикаго во время работы там Дьюи, но его последующие атаки на функционализм чикагской школы наводят на мысль о том, что роль Дьюи не была позитивной. Дьюи критиковал то самое понятие “рефлекторной дуги”, на которое будут существенно опираться последующие работы Уотсона. Философский прагматизм Джемса и Пирса был в то время почти официальной американской философией, и выдвигаемое им требование использовать только “наблюдаемые” научные термины поддерживало растущую неудовлетворенность Уотсона традиционными формулировками. Главный принцип прагматизма Пирса гласил, что значение каждого понятия как применимого к какой-либо вещи естественного мира, не может быть чем-то большим, чем поведением этой вещи в разных ясно определенных условиях. Джемс привлек внимание многих американских философов и психологов к идеям Пирсаi, или, по крайней мере, к своей, джемсовой, реконструкции этих идей. Мы могли бы и не проводить эту линию преемственности, а просто отметить сильный прагматический дух определений Уотсона и его критериев научного рассуждения.
Однако гораздо большую значимость по сравнению с работами Дьюи и Джемса имели опубликованные работы Торндайка (1874–1949) — он был учеником Джемса и его работа Интеллект животных25 составила веху в истории так называемого бихевиористского анализа. Эта работа появилась в 1898 году, в ней описана серия экспериментов, посвященных обучаемости и организации памяти кошек. Торндайк, пользуясь самодельным, но вполне пригодным оборудованием, вычертил кривую скорости, с которой животные выскакивали из коробки для получения еды, помещенной снаружи. Он построил последовательности “кривых обучения”, которые показали, что оно систематически совершенствуется при увеличении числа опытов. На основе этих и связанных с ними результатов Торндайк вывел знаменитый “закон эффекта”, согласно которому поведение определяется своими следствиями. Поведение, ведущее к “удовлетворительным” состояниям дел, более желательно; поведение, ведущее к неудовлетворительным состояниям дел, менее желательно. Уотсон не одобрил торндайковский выбор терминов, сочтя закон эффекта слишком менталистическим, но одобрил объективные методы измерения и общую демистификацию данной дисциплины. Торндайковские “условные” законы обучения, которые, как он полагает, проявляются “явным образом в любой серии экспериментов по обучению животных и во всей истории управления делами человека26”, — это такие законы, каких мы не встречаем более нигде в психологии:
В каждом из этих законов лишь немногое нельзя было бы собрать по частицам из работ Локка, Юма, Бентама или, коли на то пошло, Аристотеля. Это — классические законы ассоциации, дополненные принципами Дарвина или Бентама. Различие, безусловно, в том, что Торндайк обосновывает эти законы экспериментальными результатами. Тем не менее, если бы даже не было экспериментальных данных, вряд ли кто-то стал бы возражать против любого из этих законов. Практика, как гласит изречение, совершенствует, и мы действительно склонны совершать то, что приносит удовлетворение. В том виде, в каком эти законы были сформулированы, они в большой степени менталистичны и, следовательно, не представляют угрозы для тех, кто верит, что психология — наука о сознании. Позиция Торндайка не была такова, но два его закона допускают данное истолкование. При формулировке закона эффекта он использует термины вроде “та же ситуация”, “удовлетворение”, при формулировке закона упражнения — “некоторая ситуация”. Это — психологические термины и они вполне подходят для интроспективной традиции, неважно, хотел того Торндайк или нет. Именно этот факт вызвал несогласие Уотсона:
Вместо этого Уотсон предпочитает использовать язык физиологических рефлексов, недавно разработанный Иваном Павловым (1849–1936). Английские переводы павловских работ начали появляться после того, как Уотсон в 1912 году стал читать лекции о бихевиоризме, но ко времени издания Бихевиоризма в 1930 система Павлова была полностью переведена на английский язык29. Нам не следует слишком преувеличивать влияние Павлова на размышления Уотсона. Основы психологической концепции последнего были заложены до того, как он узнал о русских теориях, и даже после разработки Павловым своих теорий обусловливания Уотсон сможет все же заметить:
Согласно его собственным взглядам, в частности, условный рефлекс является “единицей” поведения, а все более сложные формы поведения состоят из таких единиц. Он благоразумно сопротивляется попытке заставить крохотных слуг работать в мозгу. По его мнению, объяснение психологического процесса (то есть детерминант поведения) должно представлять собой многоаспектное описание, которое относительно нейтрально в отношении физиологических деталей и относительно враждебно к вопросам его умственных референций. Психология должна определять, как из объединения простейших условных рефлексов формируются сложные навыки. Наши реакции на мир следует трактовать в терминах этих рефлексов. Даже наша наиболее превозносимая способность — язык — не более, чем продукт условных рефлексов, управляющих работой гортанных мышц31. Посредством обуславливания (также и в юмовском смысле) установить произвольную заданную реакцию можно использовать все, что угодно может стать агентом, вызывающим определённую реакцию, если оно будет предявлено в сочетании с безусловным стимулом. Благодаря ассоциации, стимул, первоначально нейтральный, становится заместителем безусловного стимула32.
Поскольку таким образом можно обеспечить любое желаемое поведение, Уотсон готов отказаться даже от понятия инстинкта, отмечая, что мы были наделены большим их числом, но всякое изложение этого списка даст нам лишь немногое. Он приводит в качестве примера бумеранг, возвращающийся туда, откуда он был брошен. Его поведение — результат его устройства. Организмы тоже составлены из биологических систем, сконструированных так, чтобы отвечать стереотипным образом на определенные свойства окружения34. Нам, однако, не надо изобретать новый инстинкт при встрече с каждой новой моделью поведения или новой связью между стимулом и реакцией. В действительности, лишь изучая маленького ребенка, не имеющего истории обусловливания, мы попадаем в ситуацию, когда надо говорить о врожденных предрасположениях. Уотсон, изучая маленьких детей, убедился в том, что их единственные естественные психологические аппараты — это примитивные формы эмоций гнева, страха и любви35. Об этом можно говорить потому, что у ребёнка эти эмоции имеют поведенческие проявления. Он полностью отвергает интроспективный метод изучения эмоций, предлагавшийся Джемсом, и смеется над тем длинным списком инстинктов, который сделал столь популярным Уильяма Мак-Дугалла. Уотсон начал свой крестовый поход еще в 1912 году, к 1913 он подготовил свою первую программную статью, а учебник — к 1924. Во введении к изданию Бихевиоризма 1930 года он так размышлял над эволюцией бихевиористских перспектив:
Уотсон был прав. К 1930 эти признаки несомненно присутствовали. Психологи разделилась на два лагеря — и здесь уместно употребить именно слово “лагерь”. В одном из них находились те, кто провозгласили сами себя учеными в этой профессии, в другом лагере — все остальные! Эти “ученые” еще не были бихевиористами, но они изучали поведение животных, условные рефлексы, отношения между поведением и мозгом. Метод интроспекции отходил на задний план. Влияние Фрейда становилось международным, но психоанализ был все еще таким менталистичным, таким терминологически бестолковым, что не представлял никакой угрозы для новой науки “подлинной” психологии. Конечно, все еще сохранялись и некоторые проблемы. Система Уотсона базировалась на представлении о том, что полный спектр так называемого произвольного поведения можно объяснить в терминах разрастания рефлекторных связей. Это казалось крайне неправдоподобным для всех, не посвященных в данный -изм. Психология Уотсона также оставляла за бортом тот вопрос, с которым не хотели расставаться даже “ученые”: восприятие. Факты, рассматривавшиеся Уотсоном в контексте его претенциозной системы, были поразительно разбросанными, а предложенные им методы — вызывающе неопределенными. Например, его обещание создать “дантистов” посредством павловского обусловливания у многих членов психологического сообщества вызвало скептическое настроение, других — сбило с толку, третьих же — поймало в ловушку. Попросту выражаясь, бихевиоризм не мог выжить в форме, завещанной Уотсоном. Ревизионизм витал в воздухе и нашел свое ясное выражение в работе Б.Ф.Скиннера Поведение организмов37 (1938). Этот текст, будучи опубликованным, повлиял на американскую психологию так сильно, как никакая другая отдельная работа в истории данной дисциплины. Строя свою концепцию бихевиоризма, профессор Скиннер (1904–1989) пересмотрел начальные формулировки этой системы и расширил ее так, чтобы она охватывала вопросы общего социального характера38. Несмотря на эти изменения, бихевиоризм в трактовке Скиннера сохранил следующие свойства. Психология — это естественная наука, предмет которой ограничен наблюдаемым поведением организмов. Цель этой науки — предсказание и контролирование поведения. Она не старается дополнить биологические науки, и истинность ее принципов не зависит от открытий в биологии или нейрофизиологии. “Неврология не может доказать ошибочность (бихевиористских) законов, если они обоснованны на уровне поведения. Законы поведения не только не зависят от поддержки со стороны неврологии, они в действительности создают определенные ограничительные условия для всякой науки, берущейся за изучение внутреннего строения организмов39.” Как описательная наука, посвященная рассмотрению регулярных (юмовских) связей между предшествующей ситуацией и поведенческими следствиями, психология не стремится к теоретической систематизации. Ее закон — это закон эффекта, выраженный в чисто операциональных терминах. Согласно операциональному определению, положительное подкрепление — это то, что увеличивает вероятность предшествующего ему поведения. То, что уменьшает вероятность предшествующего поведения, есть отрицательное подкрепление. Психология интересуется тем поведением, которое воздействует на среду и таким образом влияет на выживание организма. Павловские рефлексы, будучи условными, имеют тенденцию затрагивать подсистемы организмов. Они, безусловно, тесно связаны с балансом адаптивных способностей организма, но они не дают таких прямых и быстрых результатов в приспособлениях к окружающей среде, как оперантное поведение. Если возможность создания дантиста посредством павловского обусловливания и кажется неправдоподобной, то само появление дантиста есть prima facei доказательство успеха оперантного обусловливания. Для научного анализа детерминант поведения не надо рассматривать сознание, свободу воли, намерения и тому подобное. Сам язык — это всего лишь “вербальные операнты”, которые изобрело общество в поисках менталистских интерпретаций подкрепления.
Высказанная выше позиция не находится в интеллектуальном вакууме. То же самое можно сказать и об ее принятии — как о позитивном, так и о враждебном. Основы “скиннеровской” психологии были заложены на годы и даже на столетия ранее, возможно уже тогда, когда Оккам отверг универсалии. Более точно можно сказать, что она возникла во времена Юма и достигла первого большого плато в функциональной биологии Дарвина, утилитаризма Милля и прагматизме Джемса. Для Джемса знание есть полезность. Тогда же, когда Джемс открыл Ч.С.Пирса, Эрнст Мах (1838–1916) способствовал распространению похожего движения в Вене — это было движение от метафизики (особенно кантовской) к практике. Пирс уже написал свою небольшую классическую работу Как сделать наши идеи ясными (1900), предложив в ней антиметафизические утверждения вроде: “назвать тело тяжелым означает попросту сказать, что оно упадет”. Вызов, брошенный Эйнштейном самоуверенности ньютонианцев, также держал физиков в страхе перед метафизическими следами “натурфилософии”. Кроме этого, произошла первая мировая война, с ее сильными национализмом и шовинизмом. Научная беспристрастность не могла сохраниться в этой войне, так усилившей давно существующую трещину между континентальной и англоязычной философией, психологией, этикой. Вспомним, что Коффка отмечал увлечение американцев “земной наукой” и их отвращение к “идеям и идеалам”. Мы не собираемся оценивать научный статус бихевиоризма ни в терминах его истоков, ни в терминах тех социальных факторов, которые могли привести его к популярности. Но для того, чтобы его можно было оценить как науку, он должен был возникнуть, и мы проявим невнимательность, если не взглянем на атмосферу начала двадцатого столетия — времени особенно благоприятного для бихевиористского способа мышления. Книги и статьи Уотсона имеют такое же анти-гегельянское звучание (даже без обращения к Гегелю), как статьи и книги, появившиеся в то же время в философской литературе англоязычного мира40. Современный бихевиоризм: Б.Ф.Скиннер Мечте или надежде Уотсона не суждено было реализоваться в его собственных трудах и еще менее — в сомнительных открытиях и бессистемных методах, перемежающих его полемические трактаты. Но после того, как он заложил основу своей концепции, началась опустошительная мировая война, в ходе которой злодейский враг возвел принцип наследственности до уровня политической идеологии. Во время Второй мировой войны и после нее страны-союзники не проявляли радушия по отношению к генетическим или инстинктивным теориям психологии. Даже если отбросить в сторону технические или научные заслуги того времени, к 1940–м годам люди в значительно большей степени были готовы принять энвайронменталистскую психологию, чем в те более ранние времена, когда Уотсон защищал свои взгляды. Нужный человек появился как раз в подходящее время — им был Б.Ф.Скинер, предложивший в своих книгах и статьях гораздо более сложную и многообещающую версию бихевиористской психологии. Бихевиоризм многим казался привлекательным еще со времен Уотсона, это объяснялось отчасти его свободой от тех трудностей, которыми страдают различные формы психологического материализма. Бихевиоризм не считает себя каким-то образом обязанным говорить о мозге и разуме. Уже в 1938, в своей самой первой книге (The Behavior of Organisms), Б.Ф.Скиннер провозгласил независимость своей психологии от неврологии, и те, кто принял так называемую скиннеровскую версию бихевиоризма, нейтрально или безразлично отнеслись к разговорам о роли мозговых функций в психологии. Это не противоречит тому факту, что каноны бихевиоризма защищают независимость психологии как исторически уникальной дисциплины лучше, чем какая-либо другая альтернативная теория. Бихевиоризм уступил (без сожалений) разум философии, тело — биологии, а личность — клиницистам. В определенных отношениях, в трактовке Скиннера бихевиоризм освободил себя от целей и методов науки девятнадцатого столетия более успешно, чем это сделала какая-либо другая ветвь данной дисциплины. Скиннер и его ученики выступили против того, чтобы пытаться изобрести грандиозные теории, произвести удовлетворительные объяснения, объединить психологию со всеми другими науками, раскрыть “механизмы”, постичь “разум”. Вместо этих исторических и все более меркнущих миссий бихевиористы предложили развивать описательную науку о поведении, позволяющую предсказывать и контролировать действия организмов. Принципом, направляющим бихевиористское исследование, служит та или иная форма “закона эффекта”, и чем дальше отходят исследователи от теоретизирования, тем ближе они находятся к этому закону. Он излагается уже не на том богатом психологическом языке, который использовал Торндайк в конце девятнадцатого столетия. Современные версии этого закона, будучи лишенными всех менталистских свойств, провозглашают лишь то, что определенные стимулы (“подкрепления”) изменяют вероятность той реакции, которая им предшествуетi. Пользуясь неприкрашенной этикой утилитаризма, бихевиористы просят, чтобы о них судили по тому, что они могут делать, а не по тому, что им удается или не удается сказать об уме или психической жизни. В этом вопросе наследие Уотсона выражается наиболее резко. Уотсона могло бы обрадовать также замечание о том, что бихевиористы внедрили методы оперантного обусловливания в школьные классы, в психиатрические клиники, в ремесленные училища, в программы производственного обучения, в адвокатские конторы и даже на игровые площадки. Технические приемы модификации поведения уместны как в уголовных обществах, так и в лабораториях по изучению животных или в любом замкнутом сообществе. Эти приемы с одинаковой уверенностью, рекомендуется применять как по отношению к “организмам” белых крыс, осужденного преступника, аутистического ребенка, дрессированного тюленя, шизофреника, так и по отношению к трудному студенту.
В критике скиннеровского бихевиоризма не было недостатка. Атаки на него были обширны, зачастую дельфийского характера, редко бесстрастны. Гуманисты осудили его за “дегуманизирующую” психологию, теологи — за безбожную, этики — за аморальную. Философы, примыкающие к традиции Британского эмпиризма, сочли его совершенно неотразимым; гегельянцы — совершенно абсурдным. Теоретики из области политики, относящиеся к линии, начинающейся с Бентама, нашли его вполне здравым, последователи Канта — явно фашистским. Даже Фрейд не привлек столь разнообразного множества друзей и врагов. Все эти проявления внимания и осуждения, далекие от того, чтобы сдерживать защитников бихевиоризма, спровоцировали смелое решение, совсем недавно появившееся в работе Скиннера По ту сторону свободы и достоинства (Beyond Freedom and Dignity), предназначавшаяся для научного оправдания его утопической схемы41. Самую сильную неудовлетворенность бихевиоризмом вызывает его неспособность распознавать рациональные, волевые и интенциональные элементы человеческого поведения. Иначе говоря, увлекаясь раскрытием причин поведения, коренящихся в окружении, он игнорирует основания и мотивы поведения человека. Предлагаемые им объяснения поведения ограничиваются, таким образом, ответами на вопросы “когда” и “где”, оставаясь ошеломляющее безмолвными по отношению к вопросам “почему”. Отказываясь открыто взглянуть на основания, побудившие Смита совершить действие Х, бихевиорист пренебрегает тем, что некоторые считают самой важной психологической детерминантой, — мотивацией. Ответ, даваемый бихевиоризмом, обманчиво прост. Что, спрашивает он, добавляется к описанию общенаблюдаемых отношений между реакциями и подкреплениями в случае введения понятия “мотивация”? Что может означать термин “мотив”, кроме действенности силы стимула в отношении контроля поведения, вызывающего или избегающего его? Подытоживая то, что говорилось о прототипе бихевиористского описания самого объяснения, мы могли бы прийти к более полному пониманию всей бихевиористской системы в целом. Следующие рассуждения представляют собой синтез многих бихевиористских работ, имеющих отношение к вопросу об основаниях-объяснениях versus причинах-объяснениях. Ни похвала, ни проклятия не следуют из описания причин поведения. Если мы полагаем хождение, разговор и работу Смита результатами воздействия подкрепляющего стимула, мы тем самым исключаем такое поведение из области мнения и размещаем его в области естественных явлений. Приписывая же Смиту основания, мы приобретаем право оценивать намерения Смита как нечто, находящееся за пределами его явных действий и за пределами явных следствий этих действий. Мы, например, можем сказать, что Смит намеревался убить Джона, даже несмотря на то, что пуля не попала в “свою мишень”. Мы можем сказать, далее, что Смит “плохой”, злой, достоин нашего гнева и заслуживает наказания. Следствием нашей собственной истории получения подкреплений является наше стремление контролировать поведение других, а право судить как раз и есть такого рода контроль. Мы можем возвышаться до благородных целей до тех пор, пока мы низводим Смита до статуса подчиненного. Таким образом, одна из причин нашего поиска “оснований” — это — не более, чем способность контролировать других. Существует также компонент социальной желательности разговора об “основаниях”. Он коренится в религиозных традициях, согласно которым считается, что священникам и знахарям присущи сверхъестественные силы и возможности разума. В современном обществе след этой традиции проявляется в форме аплодирования тем, кто способен “более глубоко видеть” и “более полно понимать” “истинные” основания поведения Смита. Сохранение этих представлений позволяет нам наделять себя “восприимчивостью”, “проницательностью” и другими признаками отличия. Не довольствуясь лицезрением одного только Смита, мы сообщаем, что обнаружили ВНУТРЕННЕЕ Я Смита, которое на самом деле ответственно за действия Смита. Такая сила интуиции, конечно, дарована не каждому. Особый статус теперь приобретают те из нас, которые, отличаясь от общего движения человечества, способны видеть дальше, раскрывая якобы тайные, вынашиваемые в уме и загадочные мотивы этой скрытой под покровом “я” личности. Природа особого статуса такова, что люди, приобретающие его, более полно распоряжаются распределением “доступных ресурсов”, то есть подкреплений. Причинные же объяснения, по крайней мере в принципе, доступны каждому. В обществе, которое ограничивает изучение психологии личности общенаблюдаемыми и проверяемыми отношениями между событиями окружения и поведенческими следствиями, каждая личность обладает одинаковой способностью судить и решать. Точно так же, как поиск и раскрытие “оснований” дают наблюдателю в привилегированное положение, убежденность в основаниях, в отличие от убежденности в причинах, придает тому, кто действует, особую силу. Основания, будучи личными, и, следовательно, “чьими-то собственными”, ставят действующего под контроль, тогда как причины ставят под контроль природу. Индустриальные общества особенно сильно поощряют соревнование. Вторичные подкрепления распределяются таким образом, чтобы усилить поведение работающего сообщества. Титулы и специальные знаки отличия способны столь же сильно влиять на контроль поведения (включая вербальное поведение), как в более примитивных обществах это делают пища и убежище. Соответственно, способ контролирования современных граждан таков, что распространение получают те способы поведения, которые будто бы выводят его из под непосредственного контроля остальных. Для них становится все более значимым обращение к “свободе” и “достоинству”, так как вменение таких свойств влечёт за собой возможность определенного социального статуса. Такие люди уже не являются просто животными, старающимися добыть пищу, теперь они — само-мотивирующиеся, само-актуализирующиеся рациональные создания; и все это можно доказать, если мы заявляем об основаниях действий, а не об их естественных причинах. Те же, кто критикует причинное описание путем внедрения “оснований” в “сознание” Смита, на самом деле просто вводят в словарь Смита определенные слова, причем вводятся эти слова в точности таким же способом, каким нажатие рычага вводится в поведенческий словарь лабораторной крысы. С другой стороны, чисто описательное причинное объяснение позволяет составить спецификацию имеющихся в среде источников контроля поведения. Эта спецификация, в принципе, является полной, обладает прогнозирующей силой, прагматически успешна. Она не станет более совершенной, если в неё включить внутреннее “я”, мотивы, основания, мнения, желания, верования и даже нейроны. Объяснить поведение — это значит предложить описание случайностей, наблюдаемых в мире, а не ссылки на ненаблюдаемые, неуловимые цели, предрасположения или намерения. Цели, если они вообще имеются в виду, понимаются как объекты, находящиеся в среде, а не в личности, и могут быть описаны только исходя из фактов. О них можно сказать, что они достигнуты, но нельзя сказать, что они найдены. Пока общество не признает неотъемлемую истинность упомянутого выше, оно будет продолжать хвалить и порицать, создавать героев и злодеев, столетиями подвергаться разрушительным войнам и радоваться лишь случайному миру. Еще хуже: оно будет рассчитывать на создание генетиками и нейрохирургами “хорошего фонда” или “здоровых мозгов”, не понимая того, что все социальные проблемы никогда не являются чем-то большим, чем поведенческими проблемами, и что большинство из них можно решить теми методами, которыми мы сейчас обладаем.
У читателя, который знакомится с этим тезисом впервые, возникает подозрение, что что-то было упущено, но при этом он может не найти в аргументации никакого фатально слабого места. При дальнейшем исследовании он, однако, начинает подозревать, что эта кажущаяся неуязвимость данного тезиса может быть следствием того, что посредством него вообще ничего не удалось сказать! Мы подступаем к такой возможности с осторожностью. Мы начинаем с того, что признаем дарвиновские основания бихевиоризма. Подобно всем концепциям психологии, начиная с вундтовской (включая также и фрейдовские формулировки), эта система разделяет убеждение в том, что психологические свойства человека эволюционировали, что они присутствуют в более низких формах жизни и являются результатами взаимодействий между организмом и средой. Не используя менталистских терминов, она подписывается под той или иной формой “принципа удовольствия”, полагая его ответственным за достоверность закона эффекта. Из ранних формулировок Уотсона здесь сохраняется упор на практическую применимость и объективность, антиментализм и нейтральность по отношению к философии. Из павловской теории сохраняются принципы обобщения, подкрепления и угасания. В отличие от большинства более ранних эмпирических психологий, здесь имеются лишь неопределенные связи с материализмом и, природа этих связей, скорее, концептуальная, нежели операциональная или прагматическая. Каждое из этих свойств бихевиоризма делает его объектом многих более или менее основательных возражений. Называя психологическую систему или тезис дарвиновскими по своему виду, важно понимать, что тем самым мы не демонстрируем их обоснованность, а призываем к прояснению. Нам требуется прояснение, так как то, что является “дарвиновским”, не сводится к небольшому множеству описаний или утверждений. Эволюционная теория сама находится в процессе развития и далека от адекватной научной теории. В самом деле, отдаляясь от исследований и работ молекулярных биологов, мы обнаруживаем, что эволюционные принципы размещаются в рамках того направления, которое можно охарактеризовать лишь выражением “вольная беседа”. В мире не существует такой “вещи” как “отбор”, точно так же, как мы не объясняем фенотипические последствия, связывая их причины с “естественным отбором”. Термин “среда”, который психологи имеют тенденцию использовать так, как если бы это было электрическое напряжение или вес, означает постоянно изменяющийся, необычайно большой и сложный набор переменных, неизбежно описываемых в терминах, несущих на себе печать обычаев и предубеждений изучаемой культуры. Для организма, способного к передвижению, “среда” никогда реально не бывает постоянна. Для организмов с памятью она никогда реально не исчезает. Более того, как только бихевиористы связывают себя с любой версией эволюционной теории, так им сразу же необходимо признать факт и следствия генетической гетерогенности, в силу которой нельзя определить фатальные факторы отбора, не определяя одновременно и наследственные нюансы изучаемых организмов. Ультрафиолетовая радиация, являющаяся основным свойством среды для рабочей пчелы, не объясняет мир человека. Таким образом, действующая среда — это не то, что вольным образом называется “среда”, а бихевиористы, обещающие подвести поведение под контроль “среды” путем изменения последней, могут обнаружить, что всякий раз, когда генотип действующего организма отличается от того, который они только что изучали, им следует побеспокоится о новом множестве условий. Этот факт становится значительным как раз в силу традиционного безразличия психологов-бихевиористов к рассуждениям из области генетики. То, что системе психологии под названием “эволюционная” пришлось проявить такое безупречное равнодушие по отношению к наследственным факторам, выглядит, безусловно, откровенной иронией. Всем, кто подвергает сомнению такое пренебрежение к генетике, принято отвечать, что закон эффекта применим ко всем организмам, вне зависимости от наследственных особенностей, поскольку организмы, не способные обеспечить получение подкреплений и избегание неприятных стимулов, не способны к выживанию. Но так же как и термин “дарвиновский”, выражение “закон эффекта” однозначно не соотносится с множеством утверждений или демонстрируемых фактов. В формулировке Торндайка он столь богат менталистскими терминами и столь тавтологичен по своей логической структуре, что, возможно, ни один из современных бихевиористов не сможет его принять43. Тот факт, что мы и некоторые другие животные стремимся делать вещи, доставляющие нам удовольствие, не заставит нас усомниться ни в одном из философских или психологических положений относительно природы человека. Но если мы скажем, что подкреплением является всякий “Х”, изменяющий вероятность предшествующих ему реакций, то мы настолько детально распишем всю область подкреплений, что станет невозможно или, по крайней мере, бесполезно помещать воздействующий стимул в эту среду, заполненную теперь воистину бесконечным числом “подкреплений”. В числе многих важных открытий Скиннера — влияние режима подкрепления. Было обнаружено, что поведение, контролируемое подкреплениями, которые в течение периода приобретения реакции давались нерегулярно, крайне устойчиво и сопротивляется угасанию. Способность случайных подкреплений давать фактически неугасаемую реакцию — это одно из самых поразительных доказательств во всей психологии. Тем не менее, не существует ни одной формулировки закона эффекта, позволяющей его предсказать; этот результат не является также логическим следствием закона, более общим по отношению к нему. Таким образом, даже если мы примем модифицированную нейрофизиологическую версию закона эффекта — то есть версию, предоставляющую научный статус, — мы не сможем использовать этот закон для построения объяснений интересующих нас событий поведения. Мы вынуждены заключить, что либо бихевиористский тезис не имеет включающего его закона, либо этот включающий закон на самом деле ничего не включает. Этот недостаток, хотя он и имеет мало отношения к практической полезности бихевиористского тезиса, в то же время гарантирует, что данный тезис никогда не сможет научно объяснить те явления, которые он призван охватывать. Для исправления этого недостатка Скиннер продемонстрировал некое неожиданное заигрывание с биологией44. В своих более поздних работах он пытался представить поведение как что-то близкое “пищеварению”, но чистым результатом этой аналогии должно стать перемещение его психологической системы обратно в девятнадцатое столетие — в то время, когда метафора машины служила господствующим теоретическим средством. В целом, бихевиоризм от Уотсона до Скиннера предложил больше, чем провозгласил, и вынудил психологов отбросить слишком многое из того, что вдохновляло развитие этого предмета с древних времен. Отброшены были именно те когнитивные, ориентированные на решение проблем способности, те подвиги творчества и самовыражения, которые являются признаками психического. Задача всегда состояла в том, чтобы сохранить предмет, развивая далее научные методы и теории. Одна из альтернатив бихевиористского подхода, предназначенная для компенсации его явных недостатков, — гештальт-психология, предтеча сегодняшней нейрокогнитивной перспективы. Гештальт-психология (ответ континента) Образование гештальт-психологии ассоциируется с именами Макса Вертгеймера (1880–1943), Курта Коффки (1886–1941), Вольфганга Келера (1897–1967). Все трое несколько лет, начиная с 1909, работали вместе в Психологическом институте во Франкфурте. Всем психологам известен “фи-феномен”, “открытый” Вертгеймером: видимость непрерывного движения, возникающая вследствие воздействия двух разных, пространственно разделенных стимулов при их последовательной экспозиции с короткими интервалами. Поскольку к 1910 году стробоскопы уже использовались в детских игрушках, а самые ранние движущиеся картинки были засняты примерно на 20 лет раньше, нам следует проявить осторожность по отношению к тому смыслу, в котором мы используем термин “открытие”. Франкфуртская группа открыла не факт видимого движения, а новый подход к психологии — подход, базирующийся на таком феномене восприятия как фи. Общий дух гештальт-психологии, так же как и ее философскую ориентацию, мы можем уловить, прочитав работу Ивана Павлова Критика идеалистических понятий Келера (1935)45. Дело не в том, что в гештальт-движении имеется что-то особенно “идеалистическое”. Ни в каком из основных трудов по гештальт-психологии не содержится подтверждение влияния на них Гегеля или Беркли. Ни один гештальт-психолог никогда не отрицал существования материи и не предполагал, что психическое образует основное вещество вселенной. Но к 1935 г. физиология, как и психология, декларировала свою враждебность по отношению к метафизическим решениям. Павлов был как раз один из наиболее известных деятелей той материалистической и ассоцианистской школы, которая считала, что любой отход от ортодоксальной интерпретации есть “идеализм”. Если уж надо вольным образом, объединить гешальт-психологов с немецкой идеалистической традицией Канта, Гегеля и неогегельянцев, то это следует делать на основе представления об категориях разума, превращающих чувственные данные в организованные восприятия. С риском упрощения, мы могли бы провести параллель между экспериментами Торндайка и экспериментами Вертгеймера, Коффки и Келера. Она такова: Торндайк заимствовал ассоцианистские философские принципы, объединив их с утилитаристским акцентом на “принципе удовольствия”, и создал экспериментальную среду, в которой можно демонстрировать эти принципы. Гештальт-психологи, приняв принцип чистых категорий рассудка Канта-Гегеля, связали их со стадиями зрительного восприятия, и тем самым обеспечили лабораторную демонстрацию роли разума в организации и трансформации сырых фактов опыта. Таким образом, фи-феномен был как раз средством демонстрации основной посылки гештальт-психологии: восприятие есть результат взаимодействия между физическими характеристиками стимула и психическими законами, управляющими переживаниями наблюдателя. Условия для демонстрации фи — это темная комната, в которой можно расположить две подсвечиваемые прорези, отстоящие на несколько дюймов друг от друга. Интервал между подсвечиванием одной щели и другой можно подобрать таким образом, чтобы наблюдатель видел не две щели, а движение одной слева направо или справа налево, в зависимости от порядка освещения. Важный момент здесь таков: ничто в экспериментальном окружении, за исключением собственно самого феномена, не приводит к предсказанию видимого движения. Иначе говоря, не существует никакого физического свойства окружения, позволяющего предсказать этот эффект. Если лабораторные условия описать на чистом языке стимулов, то не будет никакого намека на движение. Движение создано наблюдателем. Движение воспринимается, но это не есть реакция на движение изучаемого объекта. Короче говоря, предмет изучения — психическое, а не сенсорное или поведенческое состояние. Гештальт-психология — далеко не идеалистическая: она всегда подчеркивала значимость деятельности мозга для объяснения многочисленных и разнообразных гештальт-феноменов. Келер настаивал на том, что перцепция и нейрофизиология изоморфны друг другу, имея в виду соответствие структурных свойств результата перцепции структурным свойствам функциональной организации мозга:
Критика гештальт-психологами бихевиоризма бескомпромиссна47. То, что бихевиористы опираются на физиологические рефлексы, не просто считается упрощением: в этом видится противоречие с чисто физиологическими фактами. Бихевиоризм, который предполагалось построить по модели физики, не смог взять из физики ее самые знаменитые открытия — те, которые позволяют понять динамические процессы. Даже наиболее современные формы бихевиоризма, столь тщательно старающиеся не связываться ни с какой теорией или комплексом знаний из области физиологии, все же, на взгляд Келера, сочетаются со старым ассоцианистским принципом обучения и его гединистскими слествиями. Именно поэтому те способности, которые животные проявляют в обстановке, не упрощенной в соответствии с бихевиористскими требованиями, всегда должны приводить последний в замещательство. Последнее положение Келер иллюстрирует результатами изучения шимпанзе, проводившимися им в 1913–1917 на Станции человекообразных обезьян в Тенерифе48. Эти эксперименты больше говорят о гештальтистском видении психологии, чем многое из написанного об этой системе. Если крыса в коробке — это образ, созданный термином “бихевиоризм”, то шимпанзе с двумя палками в руках — символ гештальт-лаборатории. Утверждение о том, что о способностях животного можно узнать лишь столько, сколько позволяет ему продемонстрировать тестовая ситуация, уже превратилось в аксиому. Обезьянам Келера предлагалось разрешать проблемные ситуации. Их, например, ставили в условия, при которых еда была подвешена над ними настолько высоко, что ее нельзя было достать. Затем по клетке разбрасывали коробки. Шимпанзе быстро решает задачу, складывая коробки и взбираясь по ним, чтобы достать еду. Здесь же производятся и самые известные исследования инсайта: животному дают две палки, каждая из которых недостаточно длинна для того, чтобы достать еду, подвешенную на расстоянии от клетки. После нескольких случайных действий и длительного разглядывания палок, шимпанзе неожиданно соединяет их вместе, сооружая одну палку двойной длины, и успешно подтягивает ею к себе награду. Животное также может отодрать и ветки для того, чтобы добиться аналогичного результата. Иначе говоря, они будут подражать поведению человека, занятого решением подобных проблем. И из таких результатов Келер заключает, что эти процессы,
Более поздние формулировки гештальтистской позиции, особенно формулировки Е.Ч.Толмена (1886–1962)50 сохранили исходный акцент на когнитивных аспектах обучения, а не на тех аспектах психологии обучения, которые описываются на языке “стимулов-реакций”. В работе Толмена Когнитивные карты у крыс и у человека51 (1948) подытоживаются и интерпретируются те многообразные гештальт-подобные эксперименты по осваиванию лабиринта и разрешению проблемных ситуаций, в которых поведение подопытных животных вроде бы скорее основывается на “умственном образе” или “карте” экспериментальной ситуации, чем на чисто ассоцианистских законах поведения в этой ситуации. Здесь, как и везде, Толмен проводит различие между действием, находящимся под контролем подкреплений и наказаний, и обучением, происходящим всякий раз, когда сложный организм перцептивно взаимодействует с непосредственным окружением. Крысы, которым разрешалось свободно бегать по лабиринту, впоследствии, в ситуациях появления пищевого подкрепления стали находить выход из лабиринта быстрее, чем животные, не имевшие исходного “не относящегося к делу” опыта. Было сделано предположение, что так называемое “латентное обучение” нарушает закон эффекта, согласно которому при обучении требуется подкрепление. Аналогичным образом, если животное получает подкрепление, реагируя, к примеру, на круг размером пять дюймов в диаметре, и не получает подкрепления за реакцию на круг размером два с половиной дюйма, то впоследствии оно будет выбирать круг размером десять дюймов, если ему предложить круги в десять и пять дюймов. Таким образом, после исходного обучения на кругах в “5” vs “2,5” дюймов животное, которому предлагают новый выбор между “10” vs “5” дюймами, вместо того, чтобы выбрать “5” (с которым были ассоциированы все предыдущие подкрепления), выбирает больший круг. Это, согласно гештальт-психологии, вынуждает нас предположить, что изначально было усвоено отношение, а не просто чисто физическая величина. Тем самым приводится пример транспозиции, при которой абстрагируются относительные свойства стимулирующих элементов. Более общий случай транспозиции встречается в музыке, когда слушатель узнает мелодию при ее исполнении в разных музыкальных тональностях, хотя при переходе от одной тональности к другой, частоты реальных нот совершенно разные. С точки зрения гештальт-психологии латентное и транспозициональное обучение вносят фатальную трещину в традиционную бихевиористскую концепцию. Первое рассматривается как очевидное свидетельство против закона эффекта, второе — против ассоцианизма. Гештальт-психолог, хотя он и уподобляется любому бихевиористу в своей оппозиции против интроспективной психологии, не находит в бихевиоризме ничего оправдывающего его претензии на превосходство. Одно дело — объявлять психологию Вундта-Титченера “субъективной”, но совсем другое дело — отрицать уместность изучения непосредственного опыта человека и всех других сложных организмов. Одно дело допускать, что условный рефлекс возникает благодаря формированию рефлекторных связей между корковыми нейронами, но совсем другое дело — предполагать, что в мозгу могут возникать только такие “связи”. Одно дело демонстрировать, как упражнение и подкрепление влияют на действия, но совсем другое дело — согласиться с тем, что упражнение и подкрепление являются единственными детерминантами обучения. В свете этих оговорок, теоретик гештальт-психологии предлагает свои собственные решения и гипотезы:
Подобно бихевиоризму, гештальт-психология раскололась на большое число производных направлений. Не всякий современный “когнитивный” психолог выражает лояльность по отношению к формулировкам Келера, так же как многие “ученые-бихевиористы” спешат отказаться от своего родства с Уотсоном и даже со Скиннером. Кларк Халл (1884–1952), например, предложил бихевиоризм, богатый математическими обозначениями и тесно связанный с физиологией и эволюционной биологией, но ни одна из этих особенностей не свойственна повседневной деятельности современного “оперантного” психолога. В рамках гештальтистской традиции многие исследователи тщательно изучают нюансы организации восприятия, законы обработки информации и т.д., не заботясь при этом о психофизическом изоморфизме или гештальт-качестве (Gestalt-qualitat). Везде, и все в большей степени лаборатории занимаются по существу описательной работой, предназначенной для того, чтобы установить, в какой степени модификации окружения приводят к изменениям измеримых свойств поведения. Теоретическое напряжение, по крайней мере, на время, ослабло, и это следует воспринимать как некого рода победу современных бихевиористских предписаний, направленных против теоретизирования, физиологизирования и математизирования53. Основы гештальт-психологии еще живы и активно разрабатываются в трудах европейских психологов, например, Жаном Пиаже, чьи теории когнитивного и нравственного развития прибегают к помощи неогегельянских представлений о стадиях развития и гештальтистских представлений о когнитивной организации и нейро-перцептивном изоморфизме. Психолингвистика тоже получила импульс от когнитивных элементов гештальт-психологии, но многие бихевиористские психологи считают, что она, как и психология Пиаже, имеет мало общего с собственно психологией. Для этих психологов идея о некоей “заданности” языковой структуры звучит очень похоже на теории инстинкта 1920–х и 1930–х. Хотя бихевиоризм действительно отчасти почерпнул вдохновение из работ И.Павлова, важно заметить, что Павлова вряд ли можно назвать “бихевиористом” в том смысле, в котором этот термин принято использовать. Павлов был физиолог и по образованию, и по роду занятий. Он стремился четко сформулировать законы функционирования центральной нервной системы, отвечающие за так называемые физиологические измерения жизни. Обучаясь в Германии, он познакомился со школой Гельмгольца — преимущественно с одним из коллег Гельмгольца, Карлом Людвигом, — но он был признанным физиологом еще до того, как покинул Россию. В своей речи при получении Нобелевской премии (1909) за пионерские исследования физиологии желудочной деятельности, Павлов ввел в употребление в научном сообществе понятие условного рефлекса. Его важные труды по обусловливанию рефлексов не переводились на английский в течение нескольких лет, но получение Нобелевской премии тогда, как и сейчас, привлекало широкое внимание. То, что он посвятит оставшуюся часть жизни этому вновь открытому феномену, можно предвидеть по сказанным им тогда заключительным словам:
Психология Павлова, некоторые тривиальные аспекты которой недавно были переоткрыты и возведены в ранг “науки” под именем "биофидбэк" (“biofeedback”i), за пределами России составляет очень малую часть современной бихевиористский психологии. Как метод обусловливания активности вегетативной нервной системы она оказала большое влияние на область психосоматической медицины. Но реальные процедуры обусловливания, сами по себе, редко встречаются в современных исследованиях, разве что в тех случаях, когда они являются составляющими более сложных вопросов. Обычно выражают согласие с тем, что автономноеii обусловливание происходит, что оно протекает так, как впервые описал Павлов и что оно нуждается в подтверждении не более, чем открытие Галилея. Даже в своей речи 1909 года Павлов поспешил заметить, что “издавна было известно, что вид вкусной пищи приводит к выделению слюны во рту голодного человека”55. Таким образом, с самого начала, эффект обусловливания вряд ли можно назвать революционным. Именно поэтому непсихологу при чтении современных учебников трудно понять, как психология была “революционизирована” Павловым. Дело, конечно, в том, что Павлов стал вызывать споры вовсе не из-за исследования им условного рефлекса, а из-за теории, развитой на базе этих исследований. Хотя Уотсон никогда и не был тонким знатоком системы Павлова, его бихевиоризм, как отмечалось выше, закладывает такие основы. Мы не будем анализировать детали. Грубо говоря, теория Павлова требует сводимости всех так называемых психических функций к рефлекторным механизмам мозга. Благодаря тому, что нейтральные стимулы часто ассоциируются со стимулами, имеющими безусловное биологическое значение, первые приобретают способность вызывать те реакции, которые первоначально вызывались только посредством последних. Ассоциированные таким образом стимулы теперь становятся условными (или обусловленными) стимулами. Если их предъявлять повторно, не применяя при этом безусловных стимулов, то они утратят свою способность вызывать реакции, то есть произойдет “угасание”. Определенные условные стимулы не просто приобретают свойства безусловных стимулов; те стимулы, которые физически подобны условным стимулам, также приобретают эти свойства благодаря “генерализации”. Таким образом, если тон в 1000гц совмещается с поднесением измельченной пищи ко рту, то этот тон в 1000гц приобретет способность вызывать выделение слюны. То же произойдет и с тоном в 900гц, 1100гц и т.д. Сила условной реакции будет уменьшаться пропорционально разнице между начальным условным стимулом и тестовым стимулом. Генерализация стимулов объясняется “иррадиацией” корковых реакций на стимул. Заданный стимул (например, тон в 1000гц) максимально активирует определённый участок коры, и эта активность распространяется по смежным участкам коры, уменьшаясь с расстоянием. Соответственно устанавливается та рефлекторная ассоциация, которая сильнее всего связывает “еду” и 1000гц, а более слабо — “еду” и тон, отличающийся от 1000гц. Наряду с условным возбуждением мозговой коры может происходить условное торможение, например, когда во всех пробах применяется второй стимул без подкрепления. Реакции на пару “S+” и “S°” (где “+” обозначает применение подкрепления, а “°” — его отсутствие) будет слабее, чем реакции только лишь на “S+”.
Эти принципы — обусловливание, угасание, иррадиация, торможение — центральные элементы биологической психологии Павлова. Концептуально она вряд ли отличается от ассоциации рефлексов у Гартли или, коли на то пошло, от концепции Декарта, лишенной дуалистической составляющей. Однако, по методике она полностью отличается от всех своих философских предшественников из-за доверия к лабораторным исследованиям и количественному измерению. Поскольку статус этой психологии устанавливался на основе фактов, критика вынуждена была принять экспериментальную форму, источником же ее, в основном, был Карл Лешли (Karl Lashley) (1890–1950). Во времена Джона Хопкинса Лешли и Уотсон были коллегами и даже написали в соавторстве статью о детерминантах поведения птиц при их возвращении домой (1915)56. Лешли обучался анатомии, но посвятил свою жизнь физиологической психологии. Он не был ни “менталистом”, ни “идеалистом”, но быстро заметил недостатки того биологического ассоцианизма, который пестовали Павлов, и — в менее зрелой форме — его американские ученики. Если бы нам надо было подытожить его роль в достижениях физиологической психологии двадцатого века, то мы могли бы сказать, что он находится в таком же отношении с последователями Павлова, в каком Флуранс — с френологами. Мы склонны называть его гештальт-психологом — этот термин не должен был бы его обидеть ни в малейшей степени, — однако его работе свойственны строгость и систематичность, редко обнаруживаемые в ортодоксальной традиции гештальт-психологии. Более того, он не просто рассуждал о нервной системе, он непосредственно ее исследовал. Что же касается других продуктивных экспериментов, то мы не будем анализировать их детали. Самые важные положения Лешли собраны его бывшими учениками, с их публикацией можно ознакомиться57. Для исторических целей достаточен очень короткий обзор. Лешли, как и Флуранс, достаточно знакомый с клиническими открытиями неврологии и нейрохирургии, знал, что не существует никакого простого соотношения между определенными частями мозга и сложными психическими процессами вроде восприятия, обучения, памяти. Как и Келер, он допустил, что это соотношение представляет собой некоторую форму изоморфизма. Его собственные исследования последствий хирургического разрушения областей мозга у животных, обученных различать набор некоторых признаков, доказали, что после удаления или истощения даже значительных объемов корковой ткани сложные способности сохраняются. Однако другие исследования показывали, что последствия разрушения или удаления ограниченных областей мозга были весьма существенными. Лешли сформулировал два общих принципа, объясняющих столько фактов, сколько общее положение, вероятно, и должно охватывать, это — принципы “действия массы” и “эквипотенциальности”. Посредством принципа “действия массы” Лешли намеревался передать такую идею: когда дело доходит до сложных психологических процессов, мозг функционирует как целое, и его следует понимать как целое. Принцип эквипотенциальности был изобретен для объяснения факта, во всех прочих отношениях запутанного, согласно которому произведенные хирургическим вмешательством дефекты со временем исчезают. Эти дефекты свидетельствуют о том, что конкретные области мозга действительно выполняют особые специфические функции, однако, как показывает послеоперационное выздоровление, другие области мозга способны принять эти функции на себя в случае разрушения или удаления первичной области. Если исследования Павлова были тщательны, то исследования Лешли — искусны и даже театральны. Кошке накладывали на глаз повязку и предлагали обучиться визуально различать некоторые вещи: например, перепрыгивать с платформы на круг, а не на треугольник. Когда животное научалось выполнять это действие достаточно хорошо, наклейку убирали с правого глаза и помещали на левый. Первое тестовое испытание кошка проходила так же успешно, как и последнее. Поскольку оптический нерв, задействованный при первоначальном обучении, не был задействован в тесте, проводившемся после перемещения наклейки, нам следует проявить осторожность при установлении тех типов “ассоциаций” в нервной системе, которые требуются для объяснения обучения. Ясно, что не импульсы оптического нерва стали ассоциироваться с определенными моторными действиями. Последние Лешли предложил объяснять по-другому. Если передние корешки спинного мозга пережаты, то конечность, располагающаяся на рассматриваемой стороне, парализуется, а импульс, идущий от спинного мозга к периферическим мышцам, блокируется. Со временем конечность восстанавливаетсяi. Таких подопытных животных можно научить производить подходящие реакции посредством нормальной конечности, пока обработанная конечность неподвижна. Затем у подопытных животных пережимают моторные корешки на нормальной стороне; таким образом конечность, выполнявшая задание, теперь более не может это делать. Вскоре после этого изначально обработанная конечность восстанавливается. Каковы достижения животного? Ответ таков: превосходные. Та конечность, которая не была и не могла быть вовлечена в реальное научение, используется столь же эффективно, как и в данный момент неподвижная конечность, которая до этого "тренировалась" в движении. Повторим еще раз: если согласно ассоцианистской теории для того, чтобы произошло обучение, необходимо объединение конкретных сенсорных и конкретных моторных элементов, то эта теория ошибочна.
Что же касается генерализации и “гипотезы иррадиации”, предназначенной для объяснения этого эффекта, то Лешли представил результаты исследования транспозиций, намереваясь продемонстрировать, что воздействующий стимул вовсе необязательно точно отображается в мозге. Более того, в некоторых сенсорных системах сенсорная реакция вообще топографически не представима. Переживание громкости, например, не основывается на анатомическом сопоставлении центров постепенно возрастающей громкости. Возможно, наиболее значительны открытия Лешли в области обучения и памяти. В большом числе разных экспериментальных ситуаций он продемонстрировал, что способность животных усваивать сложный поведенческий репертуар и воспроизводить его после длительного периода сохранения не связаны систематическим образом с определенной локализацией в мозговой коре. Он эксцентрично заявил, что после многолетнего поиска “энграммы” памяти он был вынужден заключить, что обучение попросту невозможно! За этим противоречивым замечанием скрывалось предостережение о том, что мозг — это не часы Ламетри, так же, как человек — это не чувствующая статуя Кондильяка. Более современные открытия физиологической психологии показали, что позиция Лешли относительно локализации функций была, возможно, чересчур пессимистична и что он, конечно, был введен в заблуждение своей сосредоточенностью на мозговой коре и игнорированием подкорковых механизмов. Эти открытия, однако, нисколько не умалили его главную миссию. Актив и пассив той или иной из многочисленных школ и систем психологии интересуют нас лишь в той мере, в какой они нечто сообщают нам об интеллектуальной истории, в том числе и об истории, пишущейся сейчас нашим текущим веком. Основы бихевиористского тезиса можно найти в учениях всех предыдущих веков. Его механистический дух — это чистейший гоббизм. Его единственный “закон” можно найти в работах Эпикура, Марка Аврелия, Оккама, Гассенди, Ламетри, Локка, Юма, Бентама, Милля и многочисленных других известных учёных. Методы обусловливания развились до уровня, никогда не достигавшегося ранее, но это — один из тех фактов, которые историк должен попытаться объяснить, а не просто отметить. Эти методы развивались, поскольку их старались усовершенствовать многие психологи нашего столетия и поскольку современное общество оказало поддержку их развитию. В семнадцатом и восемнадцатом столетиях такие старания могли заинтересовать только дрессировщиков диких или ручных животных, теперь же их можно встретить в университетских лабораториях всего мира. Промышленники сконструировали подходящие приспособления, посредством которых можно модифицировать поведение детей на игровых площадках, ручных животных в загонах, пациентов в психиатрических палатах, передавая электрошоковые импульсы с большого расстояния. Эти средства новы, но сама идея — доисторическая. Нам следовало бы задаться вопросом: почему современный мир так стремится контролировать поведение настолько тщательно и точно?. Ясно, что у разных культур имеются методы установления “истин”. Научная риторика двадцатого столетия претендовала на то, чтобы наука обладала тем же авторитетом, каким некогда обладали боги и который раскрывается в их действиях и речах. Сегодня говорить “авторитетно” означает заимствовать (а, возможно, и иметь) дискурсивные свойства научной речи. Психологов это поветрие охватило, как минимум, с середины предыдущего столетия, хотя сначала они хотя бы осознавали наличие определенных ограничений. Если “научные” психологии разных направлений имеют общую основу, то это — та, которая всегда служила базой для неприятия “автономного человека”. Нейрокогнитивные психологии вместо этого говорили о совокупности процессов, не подвластных личностному, сознательному контролю. Бихевиоризм очень рано поставил своей целью избавиться от “автономного человека”, считая, что сам этот термин обременен мистицизмом. Согласно общепринятым взглядам, представление о наличии “свободной воли” в детерминированной вселенной нарушает все законы экономии, единство науки, объективность и даже законы термодинамики! Кантовский категорический императив кажется мучительно причудливым миру, менее чем за столетие дважды ввергавшемуся в войну; миру, в настоящий момент привыкшему к идее о нашей детерминированной, материальной и временной биологии, являющейся, подобно населяемым нами планетам, случайностью бессмысленного творения. Современные люди обращаются назад — к романтическим видениям Вордсворта, к простой вере средневекового крестьянина и к захватывающему эксперименту, начатому в Афинах, — так же, как они вспоминают свое собственное детство. Но каждая стадия индивидуального развития, точно так же, как и каждый период интеллектуальной истории, обнаруживает людей, верящих в то, что они раскрыли истины, неизвестные во все более ранние времена. Коперник — это отец Птолемея, Эйнштейн — это более зрелый Ньютон. Наша современная приверженность научным методам и взглядам не сильнее средневековой приверженности силлогизму или убежденности эпохи Возрождения в натуральной магии. Каждая эпоха находит идею, которая ей кажется раскрывающей некую общую составляющую основных событий, заполняющих эту эпоху. Наука одновременно и направляет ту эпоху, в которой она находит пристанище, и следует за ней. Психологи античности, взирая на свою эпоху, обнаружили в ней закон, иллюзию, разнообразие культур, мужество, хитрость и судьбу. Их психологии предоставляли достаточно пространства для всего этого. Авторы средневековья верили в личного Бога спасения и справедливости, творца неизменных, рациональных и неизбежных законов. Средневековая психология вполне естественным образом находила божественное в сознании людей, чье понимание рациональных несомненных фактов и универсалий спасало теологию, объяснявшую истоки такого понимания. Так продолжалось и дальше, вплоть до нашего времени: создаваемый нами мир вначале предназначен для того, чтобы использоваться в качестве метафоры нас самих, но вскоре становится реальностью, по отношению к которой мы выступаем лишь в качестве моделей или копий. Если нам не удается найти назначение или замысел нашего собственного мира, то мы подвергаем сомнению существование назначения или замысла нас самих. Оглядываясь вокруг и находя только материю в движении, мы начинаем видеть то же самое в зеркале. Один из скрытых триумфов человеческого сознания состоит в том, что оно может свести себя на нет, пытаясь опровергнуть свое собственное существование. С полной, так сказать, непринужденностью мы намереваемся доказать вымышленность нашей автономии, доказывая ее тем самым еще более. Нередко научно настроенные психологи выражают недоверие в адрес ученых, придерживающихся других взглядов и настаивающих на том, что сейчас так же далеко до научной оценки действий и переживаний человека, как и в досократовские времена. Вместе с этим недоверием часто высказывается убеждение в том, что не принимающие научный взгляд, хватаются за соломинку метафизического дуализма и религиозного мистицизма. Создается впечатление, что такая реакция на сохранение данной позиции учеными внушена боязнью того, что в основе этого должно лежать их отрицание законности самой науки. Верить, например, в то, что изучение поведения организмов, отличных от человека, вряд ли прольет свет на факторы, ответственные за человеческое поведение, означает, как нам следует догадаться, отрицание теории Дарвина. Сомневаться в том, имеют ли нейрофизиологические открытия непосредственное отношение к вопросу о психологической причинности, означает подвергать сомнению детерминизм. В таком взгляде содержится опасность, и опасность эта в большей степени угрожает науке, нежели тем направлениям, которые, как предполагается, враждебны современным задачам науки. Это — опасность застоя, так как если существует верная дорога, ведущая к интеллектуальной атрофии, то такая дорога вымощена самодовольной уверенностью в том, что те, кто критикуют, обманываются. Защитники научной психологии последовательно стремились отделаться почти от всех конкурирующих направлений, относя их к “идеализму”. Так же огульно они объявляли физику конечным арбитром, эволюционные понятия — безупречными, а практический успех — конечным критерием достоверности. Но это не могло принести успеха. Принципиальные дебаты о возможности научного понимания вещей нельзя разрешить посредством апелляций к науке, поскольку тем самым спорный вопрос решается бездоказательно. Если бы (что неверно) умственные события, способные повлиять на поведение, нарушали второй закон термодинамики, то так бы это и было — в точности в тех случаях, когда имеются такие события, и в точности тогда, когда они на самом деле имеют поведенческие следствия. Факт опыта не может быть уничтожен посредством теории, издающей против него законы. Что же касается эволюционной теории, то это, в первую очередь, — изложение фактов, разновидность естественной истории жизни, и мы имеем полное основание включать в нее себя. Но ничто в этой теории не накладывает ограничений на те фенотипы, которые могли бы возникнуть под давлением эволюции, ничто здесь не требует (как раз наоборот!) и того, чтобы эти фенотипы были бы одними и теми же на всем протяжении филогенеза. Единообразность не должна быть ожидаемой и, если возникают исключения, то их следует не отбрасывать, а объяснять. Испытанию подвергается теория, а не факты. Задержимся еще ненадолго на эволюционной теории: обратим внимание на склонность психологов (ошибочно) полагать, что эта теория требует производить межвидовые сопоставления в числовом континууме. Принявший такое допущение оказывается в ловушке привлекательного, но ошибочного предположения о том, что структурные аналогии влекут за собой функциональную эквивалентность. Никто не отрицает, что такие гомологические структуры как руки, крылья и плавники функционируют эквивалентным образом, предоставляя возможность перемещения; однако, научные принципы, необходимые для построения полного описания детерминант плавающих, летающих и ходячих, не идентичны. Локомоции имеют место на каждом уровне биологической организации в животном мире, а также и в некоторой части царства растений. Следовательно, указание на очень существенные качественные различия между всеми видами, означает не отрицание дарвиновских принципов, а их утверждение. Дарвиновская концепция может, например, требовать, чтобы все успешно реализовавшиеся виды адаптировали свое поведение к запросам среды. Здесь не требуется, чтобы такая адаптация поведения достигалась в точности одним и тем же способом или хотя бы в согласии с одинаковыми принципами. Адаптация одного вида может предусматривать изменения цвета шерсти или кожи, другого — сезонную миграцию, третьего — зимнюю спячку. Все это — поведенческие способы адаптации, и все они могут быть охвачены посредством дарвиновской системы. Тем не менее, если исключить тот факт, что все это — способы адаптации поведения, едва ли можно найти какое-либо качественное подобие между окраской, миграцией и зимней спячкой. Одно дело настаивать на том, что поведение должно приспосабливаться к требованиям среды, но совсем другое дело говорить, что такое приспособление должно проявляться инвариантным образом. Мы обнаруживаем, таким образом, что возражать против возможности сравнения видов при рассмотрении вопроса о контроле поведения, это — не то же самое, что усомниться в обоснованности эволюционных принципов. Тем самым не утверждается, однако, что не позволено ставить такой вопрос. Если, например, можно было бы показать, что некоторое конкретное свойство человеческой жизни нигде более в природе не наблюдается в форме, хотя бы приближающейся к способу проявления этого свойства у человека, то мы должны были бы заключить, что либо за этот факт отвечает давление отбора неизвестного типа, любо дарвиновская модель просто не располагает средствами рассмотрения этого факта. Некоторые предположили, что таковы человеческие система морали и язык; другие — что таково наше сознание. Здесь не место для оценки таких предположений, хотя есть смысл указать на то, что, как оказалось, способ освоения речи ребенком удивительно стойко не поддается бихевиористскому анализу. Стоит также отметить, что наличие у какого-либо существа потребности избегать боли и страдания зависит от его способности таковые испытывать, а не от какой-то другой способности. Скиннер некогда сетовал на то, что “ни один современный биолог или медик не будет обращаться за помощью к Аристотелю ... но студентам все еще предлагают читать диалоги Платона, ссылаясь на них так, как будто бы они проливают свет на человеческое поведение”58. Где-то в другом месте он провозгласил, что “Методы науки более не нуждаются в словесной защите; никто не может посредством диалектики заставить Луну вращаться вокруг Земли”59. Подобные отрывки проясняют ту установку современной психологии, которая вдохновляет эту дисциплину безразличием позитивизма конца девятнадцатого и начала двадцатого столетия. Однако, если бы этот -изм был принят, то его первой жертвой стала бы сама психология. Единственные отношения, связывающие законы физики с принципами психологической жизни, по крайней мере до сих пор, — это метафорические отношения. Человек, безусловно, подчиняется законам физики: когда он прыгает с высоты, он падает; когда он гребет в лодке, он работает против сил торможения; когда он расхаживает по Луне, он весит меньше, чем на Земле. Однако, значимость законов физики не имеет никакого отношения к вопросу о значимости бихевиористского тезиса, который в любой из своих форм не может быть уподоблен какому-либо физическому закону. Масса и плотность человеческого тела и вязкость земной атмосферы таковы, что никто никогда не сможет избежать гравитационного притяжения посредством махания руками вверх и вниз, — это неопровержимый закон природы. Мы признали этот закон и приступили к изобретению аэроплана. Наш разум не завербован против попыток нарушать те самые законы природы, которые этот разум раскрыл. Скорее, он использует эти законы, придавая методам и инструментам форму, позволяющую нам более успешно адаптироваться к требованиям среды. Теория Дарвина, современная генетика, нейфизиология, биохимия и экспериментальный анализ поведения, очевидным образом связаны с любой дисциплиной, признавшей человеческую психологию своим предметом. Изучающие такую дисциплину, кстати, могут достаточно обоснованно принять в качестве рабочей гипотезы любое число метафор, заимствованных из науки и искусства. История, однако, учит, что прогресс тормозится тогда, когда ученые оказываются неспособными отличать метафору от того факта, который эта метафора предназначена представлять. Чувствующая статуя Кондильяка, часы Ламетри и телефонные переключатели начала этого столетия почти не использовались ни при развитии нейрофизиологической науки, ни при совершенствовании понимания нами самих себя. Конечно, современные психологи отлично могут вполне успешно игнорировать эти уроки истории и продолжать оперировать со своим предметом любым образом, который они считают подходящим. Они, в конце концов, автономны. Упрощения живучи. Логический бихевиоризм 1930–х не является исключением. Однако все в большей степени уменьшается число серьезных философов, готовых поспорить с тем, что любые психологические предикаты, в конечном итоге, сводятся к утверждениям о действиях или о “предрасположениях к действиям60”. А психофизическая проблема, оказавшаяся неподвластной лабораторным методам и устройствам, не в большей степени отступает и перед лицом философского позитивизма — логического или какого бы то ни было. Прошлое обращается к современному миру. Оно говорит нам не о том, что наука оказалась несостоятельной, а о том, что она имеет ограничения; не о том, что психология бесцельна или незрела, а о том, что, подобно всем интеллектуальным предприятиям, она неполна и развивается. История цивилизации оказывается запутанной и вызывает сожаления, но не будь цивилизация такова, не появилось бы никакого стандарта ясности и никакого базиса для сожаления. История науки тоже изобилует неудачами и банальностями, но не будь эта самая история такова, у нас не было бы и возможности расценить ее таким образом. История психологии — это лишь один из срезов более обширной истории цивилизации. Как творение человеческого интеллекта, она учит посредством своих ошибок так же хорошо, как и посредством удач. Создаваемые нами психологические системы, даже если они пропитаны грубыми ошибками и противоречиями, являются нашими творениями и, следовательно, сообщают нам что-то о нас самих. Бихевиоризм и психоаналитическая теория, нейропсихология и френология, утилитаризм и прагматизм — все они раскрывают качества ума, предметы надежды, множества ценностей или восприятий, уникальных для нашего биологического вида, одного из несметного числа видов. Это сочинение началось как попытка разместить психологию в истории идей. Заключается же оно очевидным признанием того, что психология есть история идей. 1 E.B.Titchener, A Primer of Psychology, Macmillan, New York, 1914, p.32. 2 Краткую, но блестящую дискуссию по этому вопросу можно найти в: W.C.Dampier, A History of Science (Cambridge University Press, 1966), pp.288–290. 3 Фехнер в своей работе Elemente der Psychophysik ссылается на книгу R.Wagner, Handworterbuch der Psychologie, Vol.III, Sec.II, pp.481–588 как на источник, содержащий открытия и законы Вебера (Gustav Fechner, Elements of Psychophysik, translated by Helmut Adler, Holt, New York, 1966, p.15). 4 Titchener, Primer of Psychology, p.32. 5 Wiliam James, A Text Book of Psychology, Macmillan, New York, 1892, p.1. Цит. по: В.Джемс. Научные основы психологии. СПб., 1902. С.3. 6 Там же, рр.6–8. Русский перевод: с.8. 7 Charles Darwin, The Expression of the Emotions in Man and Animals, Appleton-Century-Crofts, New York, 1896,p.366. 8 Работа Matthew Arnold, Culture and Anarchy была впервые опубликована в 1869 и ее можно найти в любой антологии Арнольда. Особенно хорошее обсуждение приведено в: J.Dover Wilson, Arnold's “Culture and Anarchy” (Cambridge University Press, 1932). 9 Эта цитата взята из W.C.Dampier, A History of Science (Cambridge University Press), pp.291–292. Гельмгольц редко обращался к философии науки. Его ближайшие сподвижники (например, DuBois-Reymond, Brucke, Ludwig) знали его как противника всех форм витализма. Даже свою статью о сохранении энергии он написал с позиции осознанной антивиталистской перспективы. Однако, среди физикалистов девятнадцатого столетия он — последний участник полемики, чей выдающийся вклад в науку говорит сам за себя. 10 Феноменологические системы, построенные Брентано и Гуссерлем, мало похожи на то, что Гегель называл феноменологией. Вспомним, что Гегель использовал этот термин применительно к науке, посвященной “многообразию сознания”. Для Гегеля феноменология была наукой, порожденной философией Абсолюта. Франц Брентано (1838–1917) был в большей степени великим учителем, чем философом или психологом. Его учениками были Гуссерль, Мейонг, Карл Штумпф и Христиан Эренфельс. Штумпф был учителем Коффки и Келера, кроме того он и сам по себе был очень продуктивным психологом. Эренфельс первым заговорил о гештальтах (Gestaltqualitt). Именно работа Брентано Psychologie vom Empirischen Standpunkt (1874) (Русский перевод: Психология с эмпирической точки зрения. — Франц Брентано. Избранные работы. Дом интеллектуальной книги. М., 1996.) обещала, что “описательная психология” сможет раскрыть универсальные законы познающего разума. Эдмунд Гуссерль учился у Брентано. Его феноменологические теории с течением времени претерпели несколько ревизий, но никогда далеко не уходили от настояния на том, что научная или экспериментальная психология сможет прийти лишь к случайным (интенциональным) и подверженным ошибкам аспектам восприятия. Он подчеркнул роль мышления в опыте — в противоположность простому описанию опыта — как средства, с помощью которого можно было бы развивать науку о сознании. Сильнее всего Гуссерль повлиял на ту сторону феноменологической психологии, которая отказывается от экспериментального исследования в пользу интуитивного и логического анализа. Обсуждение феноменологии Гуссерля см. Herbert Spiegelbertg, The Phenomenological movement, Vol.I (Mouton, The Hague, 1960), pp.73–167. 11 Theodor Ziehen, Introduction to Physiological Psychology, /Macmillan, New York, 1895, p.1. 12 E.W.Scripture, The New Psychology, Scribner, New York, 1910, p.2. 13 Titchener, Primer of Psychology, pp.33–34. 14 Kurt Koffka, Principles of Gestalt Psychology, Harcourt Brace, Jovanovich, New York, 1935, p.18. 15 Wilhelm Wundt, Lectures on Human and Animal Psychology, translated from the second German edition by J.E.Creiton and E.B Titchener, Macmillan, New York, 1907, pp.340–341. 16 John B. Watson, “Psychology as the Behaviorist Views It”, Psychological Review 20 (1913): 158–177. 17 James, A Text Book of Psychology, p.165. Русский перевод: (название?) с.126. 18 John Dewey, “The Reflex Arc Concept in Psychology”, Psychological Review 3 (1896), 357–370. 19 Титченер здесь проводит различие между рефлекторными движениями, инстинктами и более сложными составными движениями. Он утверждает, что даже рефлекторные движения далеко не просты и филогенетически вовсе не являются самыми ранними элементами движения (E.B.Titchener, A Primer of Psychology, pp. 171–182.). 20 В главе “Рефлекторные функции” (Ch.VI) из Principles of Physiological Psychology Вундт тщательно отделяет рефлекторные движения от произвольных или волевых действий. Он предостерегает (стр. 240–251) против столь сильного расширения понятия рефлекса, когда он становится непригодным для объяснения чего-либо вообще. Здесь приведены ссылки на издание Principles в переводе Титченера (published bu Macmillan, New York, 1904). 21 John B. Watson, Psychological Care of Infant and Child, Norton, New York, 1928. 22 John B. Watson, Behavior: An Introduction to Comparative Psychology, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1914. 23 См. также его Psychology from the Standpoint of a Behaviorist (Lippincott, Philadelphia, 1919) and J.B.Watson and W.McDougall, The Battle of Behaviorism (Norton, New York, 1929). 24 О склонности американцев к прагматизму проницательно высказался Alexis de Tocqueville. В своей классической работе Democracy of America он отмечает, что “в Америке великолепно развивается чисто практическая сторона науки, беспокоятся также и о теоретической стороне, имеющей непосредственное применение... Однако едва ли кто-либо в США обрекает себя на исследование действительно теоретических и абстрактных сторон человеческого знания.” (Из издания 1848 г., Volume II, Part I, Chapter 10.) 25 В 1911 Э.Л.Торндайк опубликовал описание серии экспериментов под наименованием “Animal Intelligence: Experimental Studies”. Эта же плодотворная подборка экспериментов была переиздана факсимильным образом (Hafner Publishing Co., Darien, Conn., 1970). 26 E.L.Thorndike, Animal Intelligence, p.244. 27 Там же. 28 John B.Watson, Behaviorism, University of Chicago Press, 1924, p.296. 29 Ivan Pavlov, Conditioned Reflexes: An Investigation of the Phisiological Activity of the Cerebral Cortex, translated and edited by G.V.Anger, Oxford University Press, London, 1927. 30 Watson, Behaviorism, p.206. 31 Там же, р.225. 32 Там же, р.22–39. 33 Там же, p.24. 34 Там же, pp.111–113. 35 Там же, Ch.VII. 36 Там же, Introduction, p.vii. 37 B.F.Skinner, The Behavior of Organisms, Appleton-Century-Crofts, New York, 1938. 38 Профессор Скиннер опубликовал множество работ по социальной философии, методам бихевиоризма, философии науки, новеллистике, лабораторным исследованиям. Эти разнообразные таланты свободно соединены в Science and Human Behavior (Macmillan, New York, 1956). Его предписания и проскрипции для бихевиористской науки появились в “Are Theories of Learning Necessary?” (Psychological Review 57 [1950]: 193–216) и в “The Science of Learning and the Art of Teaching” (Harward Educational Review [Spring 1954]: 86–97). Его утопическое видение содержится в Walden II (Macmillan, New York, 1948) и защищается в Beyond Freedom and Dignity (New York: Knopf, 1972). 39 Skinner, The Behavior of Organisms, p.432. 40 Если требуется датировка философской реакции на гегельянство, то мы можем сослаться на Основы этики Дж.Мура как на неоспоримую отправную точку. В этой работе гегелевское разграничение “целого” и “суммы их частей” рассматривается как неоднозначное и даже бессмысленное (pp.30ff). Дарвиновские понятия включаются в этику, а “естественный язык” и “здравый смысл”, следуя Томасу Риду, снова начинают использоваться при обсуждении принципов человеческого поведения.(G.E.Moore, Principia Ethica, Cambridge University Press, 1903.) 41 Skinner, Beyond Freedom and Dignity. 42 Там же, р.205. 43 Thorndike, Animal Intelligence, Ch.XI. 44 B.F.Skinner, “The Steep and Thorny Way to a Science of Behavior”, American Psychologist 30 (1975): 42–49. 45 Перевод обширного собрания лекций и статей Павлова содержится в книге под названием Experimental Psychology and Other Essays (Philosophical Library, New York, 1957). Цитата взята со стр.599 этой работы, где дан перевод лекции, прочитанной в 1935. 46 Wolfgang Kohler, Gestalt Psychology, Liveright, New York, 1947, p.177. 47 Там же, pp.7–41. 48 Wolfgang Köhler, The Mentality of Apes, translated by Ella Winter, Vintage Books, New York, 1959. Первое английское издание было опубликовано Routledge and Kegan Paul, London, 1925. 49 Там же, р.97. 50 Толмен всегда отвергал имя “гештальт-психолог” хотя он и принимал имя “криптофеноменолог”. Обсуждать Толмена в связи с “поздними формулировками позиции гештальт-психологии” означает просто признать поразительное согласие между основными открытиями и заключениями Толмена, с одной стороны, и с позицией гештальт-психологии относительно обучения и восприятия, с другой стороны. В той степени, в какой был “бихевиористом” Толмен, таковым же был и Келер. Их обоих можно назвать так, если обозначать этим термином лишь то, что оба потратили много сил на дело объективного оценивания поведения. Но если этот термин использовать таким образом, он теряет способность быть концептуально информативным или исторически значимым. 51 E.C.Tolman, “Cognitive Maps in Rats and Man”, Psychological Review 55 (1948): 189–208. 52 Köhler, Gestalt Psychology, p.94. 53 См. работу Скиннера “The Science of Learning and Art of Teaching”. 54 Pavlov, Experimental Psychology, p.103. 55 Там же. Р.141. 56 J.B.Watson and K.S.Lashley, Homing and Related Activities of Birds, Canegie Institution, Department of Marine Biology, New York, 1915, Vol.VII. 57 Karl Lashley, The Neuropsychology of Lashley: Selected Papers of K.S.Lashley, edited by F.A.Beach, McGraw-Hill, New York, 1960. 58 Skinner, Beyond Freedom and Dignity, p.3. 59 Skinner, “The Science of Learning and The Art of Teaching”, p.97. 60 Блестящее обсуждение этого вопроса см. в работе профессора Хиллари Патнема (Hillary Putnam) Brains and Behavior (in Analitical Philosophy, edited by R.J.Butler, Barnes and Noble, New York, 1965). ФОРУМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОКОЛЕНИЙ Выдающиеся психологи, как правило, жили в разные времена и поэтому не могли общаться друг с другом. В этой книге произошло то, чего не может быть на самом деле: встретились психологи разных поколений, чтобы выслушать суд современности. Эту встречу организовал Дэниел Робинсон. По прочтении его книги вспоминается высказывание О.Фрейденберг по поводу культуры: история науки – это летопись не давно прошедшего, а бессмертного настоящего. Ей вторил и Б.Пастернак: история науки содержит расписки мысли; время от времени приходится напоминать, что наука начинается не с нас, а её история – это не поле брани, усеянное телами умственно отсталых предшественников. Эти мысли особенно актуальны сегодня, когда неудержимый рост числа психологов в нашей стране превышает все разумные пределы, и это приводит к тому, что профессиональные психологи начинают ощущать себя маргиналами. Именно таким маргиналам адресован перевод этой книги. Круг рассматриваемых в книге тем — классический: от эллинской эпохи до..., нет, к сожалению, не до наших дней. Всё заканчивается на 30-х годах 20-го века. Но зато взгляд на всю эту историю — не только современный, но и чрезвычайно широкий, охватывающий достаточно разнообразный контекст всей гуманитарной сферы человеческой деятельности. Что же это за история о прошлом, но с современным на него взглядом? У истории, написанной историком, и у человеческого восприятия есть нечто общее. В восприятии психологи различают сенсорный материал ("чувственную ткань") и психический образ. Последний есть сплав чувственного и рационального содержаний; именно рациональная составляющая отличает образ от представления, которое её не содержит. В произведении историка также есть аналогичные две составляющие: исторический материал (реальные события, свидетельства очевидцев, мемуары, хроники и т.п.) и исторический образ, или лучше сказать — образ истории, подчиняющейся собственной логике или концептуальной схеме автора. Совпадает ли авторский образ с логикой истории, — всегда проблема. Подобно психическому образу (не только перцептивному, но и в более широком значении — как смысло-образу), образ истории находится в неоднозначных, очень подвижных и свободных отношениях к историческому материалу. Повидимому, это имеет в виду Д.Робинсон, когда говорит: "Здесь существует огромное разнообразие в акцентах и интерпретациях, в авторских оценках важности, значения, зрелости тех или иных взглядов и методов." (С. 23). Обычно в этом случае психологи говорят о субъективности, пристрастности, активности, продуктивности образа. Естествоиспытатели и некоторые философы относятся к этому с большим подозрением и скепсисом, полагая, что всякое субъективное (даже если оно настолько уважаемо, что признаётся первичным) искажает объективную истину — ту, которая не сводится к содержанию индивидуального сознания. Сейчас среди психологов, философов и даже некоторых физиологов наметилась, точнее, начинает возрождаться тенденция рассматривать субъективное как объективное, снимая характерное для радикально противоположных философских подходов — идеалистического и материалистического — их противопоставление при решении вопроса о достоверности и особенно происхождении нашего знания. Об этом приходится напоминать, так как психологов слишком часто упрекали в субъективности, даже в субъективизме их науки. Настолько часто, что они поверили в это и устремились на поиски так называемых объективных методов психологического исследования в разных сферах естественных и точных наук. Это само по себе не так плохо, если психика не редуцируется к тому, что таковой не является. Но психология преуспела в редукционизме, породив неведомое другим наукам разнообразие его видов и форм (ассоциации, реакции, рефлексы, нейроны, логико-математические структуры, социальные отношения, поведение, деятельность и т.п.). Конечно, философские и психологические аспекты субъективного и объективного не тождественны. Странно, но об этом не говорят ни философы, ни психологи, а если иногда и говорят, то на разных языках, каждый думая о своём. Филосософ смотрит на соотношение субъективного и объективного как на проблему яйца и курицы, решая вопрос о том, что первично, а что вторично. И то, и другое существуют, они есть разные формы бытия или даже материи, но есть бытие первичное, а есть вторичное. Далее следуют вопросы о познаваемости (у одних — объективного, у других — субективного) и истинности нашего знания. Для психолога, имеющего дело с живым разумом, все эти проблемы имеют чисто мировоззренческое значение, они не существуют для него как предмет исследования. Богу — богово, а Кесарю — кесарево. В индивидуальном опыте субъективное и объективное неразделимы, они взаимодействуют, и одно невозможно без другого. Здесь не уместен вопрос о первичности, главным является то, как происходит это взаимодействие. Точно так же и в других вопросах: психолога интересует, что познаётся и какая именно истина открывается конкретному субъекту, а не принципиальная возможность и достоверность человеческого познания, которые для него очевидны. Ведь психолог в своей работе постоянно сталкивается с субъективацией объективного и объективацией субъективного. Объективность идей и смыслов, пусть даже самых невероятных, опасно недооценивать. Слишком часто история подтверждает тезис К.Маркса о том, что когда идея овладевает массами, она становится материальной силой (то есть, как мрачновато заметил И.Губерман, в полном соответствии с диалектикой она превращается в свою противоположность). Саркастично аргументировал объективность идей Г.Г. Шпет: “Идея, смысл, сюжет — объективны. Их бытие не зависит от нашего существования. Идея может влезть или не влезть в голову философствующего персонажа, ее можно вбить в его голову или невозможно, но она есть, и ее бытие нимало не определяется емкостью его черепа. Даже то обстоятельство, что идея не влезает в его голову, можно принять за особо убедительное свидетельство ее независимого от философствующих особ бытия. Головы, в которых отверстие для проникновения идеи забито прочною втулкою, воображают, что они “в самих себе” “образуют” представления, которые как будто бы и составляют содержание понимаемого. Если бы так и было, то это, конечно, хорошо объясняло бы возможность взаимного непонимания беседующих субъектов.” (Шпет, 1989, с.422). Издевательский тон доказательства объективности существования идей, смыслов, аффективно-смысловых образований, и, если угодно, самых разных идеальных форм, говорит о том, что их объективность была для Г.Г. Шпета, С.Л. Франка, как и позднее для М.М. Бахтина, Л.С. Выготского, само собой разумеющейся. Субъективный мир стоит наравне с объективным миром. А в каких отношениях окажутся оба мира — вопрос личной судьбы и обстоятельств. Для психологии — это искомое, проблема, при решении которой возможны разные варианты. Конечно, человек так или иначе отражает объективный мир, с большим или меньшим успехом ориентируется и действует в нем. Носитель субъективного мира может дистанцироваться от объективного мира, порождать иной мир, погружаться в него или объективировать; быть его хозяином или заложником, а то и жертвой. Испытывать внутреннюю клаустрофобию, бежать от себя. Ориентироваться в своем собственном мире (мирах!), а тем более овладевать им, жить в нем, и с ним в мире никак не проще, чем жить в так называемом объективном мире. Разговор об объективности субъективного имеет непосредственное отношение к книге Д.Робинсона. Его экспозиция интеллектуальной истории психологии есть история идей, то есть вполне объективных достижений, — не менее объективных, чем научный метод или полученный с его помощью факт, эффект, феномен. История, написанная Д.Робинсоном, — не хронология, не воспоминания очевидцев, не перечень "мировых проблем" и не критические, или, не дай Бог, идеологические оценки. Это история, вовсе не похожая на отечественные монографии по истории психологии, в которых всего этого предостаточно. Д.Робинсон строит свой образ истории психологии, и в этом образе есть то, что в большей или меньшей степени свойственно любому психическому образу, — его симультанность, в которой многовековая сукцессивность событий интеллектуальной истории выражена всего в нескольких идеях. Уходя своими колатералями в глубины столетий и в труды многих поколений учёных, теперь эти идеи вполне могут разместиться в индивидном сознании. Не это ли прорастание общечеловеческого опыта в интеллект индивида образует смысл познания истории, смысл не только личностный, но и общественный? Остановимся на некоторых из основных идей книги Д.Робинсона. 1. "Мы рассматриваем историю как совокупность понятий и законов и убеждены в том, что значимые исторические события можно объяснить только посредством такого рода рационально-когнитивного анализа". (С.34). В этом тезисе сформулирован авторский подход к истории, в том числе к истории психологии. Достоинства такого подхода, по сравнению с хронологическим или проблемным, несомненны. Но они не абсолютны. История несводима к одним только понятиям и законам. В ней происходят события, которые не укладываются в рамки тех или иных закономерностей или даже противоречат им. История столь же рациональна, сколько и иррациональна, и едва ли здесь можно установить какие-то определённые соотношения. Рациональность истории прослеживается лишь на сравнительно коротких периодах времени. Что касается больших временных масштабов, то здесь мы видим немало разрывов, которыми отмечены смены одних закономерностей другими, часто совершенно противоположными. Психология Фрейда логически невыводима из предшествующей ему рационалистической психологии сознания; гештальт-психология с самого начала была заявлена как контральтернатива ассоцианизму, который был отвергнут не столько по теоретическим основаниям, сколько в силу самоочевидности противоречащих ему фактов, появившихся как-то совершенно неожиданно; такой же непредсказуемой оказалась идея внешнего опосредования формирования психических функций; здесь можно найти много примеров. Подобные разрывы или скачки могут иметь место и в одном и том же временном периоде, даже коротком, когда сосуществуют не просто различные, но и противоположные теории или концепции. Это особенно характерно для психологий начала 20-го века. Так что монистический взгляд на историю психологии, как, впрочем, и на всеобщую историю (это пытался в своё время сделать Г.В.Плеханов), едва ли оправдан, так же как неоправданными оказались попытки создать универсальную систему психологии. Размерности психического мира многократно превышают размерности мира физического, а его динамика по своей быстротечности и глобальности не идёт ни в какое сравнение даже с самыми бурными физическими процессами макрокосма. Видеть во всём этом только один движущий принцип, пусть даже самый когнитивный или рациональный, — значит редуцировать живую историю к мёртвой абстракции. Но Д.Робинсон (в отличие от некоторых наших отечественных историков-психологов) избежал рационалистического редукционизма, потому что он не во всём следовал им же сформулированной идее. В его образе истории психологии мы видим не только понятия и закономерности, но и достаточно богатую эмпирию, которая таинственным и, повидимому, до конца не постижимым образом объединяет все эти разношерстные элементы в единое и развивающееся целое, которое "стремится стать научной" дисциплиной. Сам автор замечает эту свою "непоследовательность", выражая её заключительными словами книги: "Это сочинение началось как попытка разместить психологию в истории идей. Заключается же оно очевидным признанием того, что психология есть история идей." (С. 428). К этому хочется добавить: не только идей. На историю влияют, например, человеческие, этические ценности той или иной эпохи, возникновение и, соответственно, обсуждение которых, как и предупреждал в своё время Макс Борн, основываются не только на научном мышлении. 2. На протяжении всей книги автор развивает следующую мысль: "... мне уже очень давно казалось, а сейчас стало ещё более очевидным то, что общие контуры систематической психологии были очерчены во времена эллинской и эллинистической Греции. Если признать, что Уайтхед был в определённом смысле прав, называя всю философию примечанием к Платону, то большая часть истории психологии представляет собой примечание к Аристотелю." (С. 23). На первый взгляд, здесь идёт речь об исторической преемственности научных идей. Но термин "примечание" и то, как раскрывается его смысл на последующих страницах, заставляет отнестись к этому положению не как к остроумной аналогии, а как к оригинальной и серьёзной позиции, которую, на наш взгляд, нельзя оценить однозначно. С одной стороны, если говорить об общих психологических категориях, то некоторые из них и, пожалуй, главные (душа, разум, идея, восприятие, движение тела, память, эмоции, потребности) разрабатывались учёными испокон веков. С другой стороны, нельзя отрицать как принципиальных изменений содержания этих категорий, происходивших на протяжении всей истории психологических идей, так и появления новых, неизвестных древним, понятий, законов, концепций. Мы не можем согласиться с тем, что "общие контуры систематической психологии" М.М.Бахтина, Г.Г.Шпета, Л.С.Выготского, Н.А.Бернштейна, А.Р.Лурия, А.Н.Леонтьева, П.Я.Гальперина тождественны или хотя бы частично совпадают с платоновскими или аристотелевскими; то же самое можно сказать о более известных Д.Робинсону именах У.Джемса, Дж.Дьюи, К.Юнга, Ж.Пиаже, и многих других, в том числе и более ранних авторах. Терминологические совпадения не тождественны концептуальным, а преемственность не исключает качественных новообразований. Позиция автора ориентирована на установление сходства, которое действительно имеет место и на которое мало кто из историков обращал внимание в силу очевидных, но поверхностных различий; но есть различия и существенные, игнорирование которых превращает историю в бессмысленное топтание на месте. Их "рационально-когнитивный" анализ в духе Д.Робинсона служил бы хорошим продолжением и дополнением к безусловно интересной и актуальной мысли автора об исторической общности психологических идей. 3. Взаимоотношения психологии с другими науками, место психологии в системе наук и квалификация психологии как науки (или не науки) всегда были предметом дискуссий в разных научных кругах, — как психологических, так и непсихологических. Д.Робинсон очень деликатно затрагивает эту непростую тему. В отличие от общепринятого, особенно среди психологов, мнения об относительной молодости психологии, он считает, что она не менее взрослая, чем большинство других наук — гуманитарных и естественных. У Д.Робинсона есть единомышленники по этому вопросу, хотя их высказывания не так категоричны. Например, в своей "Истории экспериментальной психологии" Э.Боринг приводит слова Г.Эббингауза: "психология имеет давнее прошлое, но такую короткую историю." С древних времён психологические знания были вплетены в традиционные формы духовной деятельности человека — философию, религию, естествознание, литературу, искусство. Может быть, это и удивит некоторых психологов-профессионалов, отстаивающих чистоту своих рядов, но так было, есть и будет. Д.Робинсон очень тонко заметил, что за тем, как определяется возраст психологии, стоит то или иное понимание её предмета. И здесь он приводит своё понимание: "Предмет психологии так же древен, как и способность размышлять. Ее широкие практические устремления датируются тем же временем, что и человеческие общества. Во все времена людям была небезразлична достоверность их знания, они не были равнодушны к причинам своего поведения или причинам поведения своей жертвы и хищников. Наши отдаленные предшественники не менее, чем мы, сталкивались с проблемами общественной организации, воспитания детей, соперничества, власти, индивидуальных различий и личной безопасности. Решение этих проблем требовало проникновений, пусть даже по-разному наивных, в психологические измерения жизни." (С.35). Понимание предмета психологии, точнее, её предметной области, имеет свою историю. Это особая тема, в которой мы затронем здесь лишь малую её часть. Одним из критериев самостоятельного статуса той или иной науки считается чёткая определённость её предмета. С его определения традиционно начинается знакомство с любой научной дисциплиной — естественной и гуманитарной. Спецификой предмета психологии, как свидетельствует вся истори дискуссий по этому вопросу, является его неопределимость в том формате, в котором обычно даётся то или иное формальное определение: в нём или чего-то слишком много, или чего-то недостаёт, или оно просто логически несостоятельно. Многие усматривали в этом основание для отрицания научного статуса психологии. Заметим в связи с этим, что незавершённость или, как сказал Дж.Рескин по поводу искусства, — недосказанность, характеризует любую живую науку, в особенности гуманитарную. Завершёнными бывают лишь мёртвые науки и догмы. Отказ психологии в научной самостоятельности связывают также с другим критерием научности — методом исследования. В учёном мире, в том числе и среди некоторых профессиональных психологов, давно бытует мнение, что психологические методы в основном заимствованы из других наук. В особой степени это относится к экспериментальной психологии. Если учесть к тому же крайнюю раздробленность психологии на множество автономных направлений, широкое использование в ней поверхностных аналогий (человек как машина, человек как система переработки информации, человек как совершенный компьютер и т.д.), то ни о какой её научности речи быть не может. Д.Робинсон занимает более мягкую позицию: "...в той степени, в какой современная психология стремится войти в семейство наук, нам полезно изучать развитие тех наук, от которых зависела психология." (С. 32).Иными словами, психологии, зависящей от других наук, ещё предстоит стать наукой. А вот его более решительное заявление: "...мы должны быть готовы принять определенную, хотя и вызывающую беспокойство, возможность — возможность того, что психология не только молода как наука, но что она вообще ещё не наука." (С. 392). Нам представляется, что настало время вопрос о праве психологии называться наукой поставить в инверсной форме: в какой степени современная наука психологична? Не должна ли наука "стремиться войти в психологическое семейство"? Речь идёт не о содержательном сближении естественных и гуманитарных наук с психологией, а о сближении методологическом, которое затрагивает как предмет, так и метод исследования в каждой из отдельных дисциплин. Действительно, с начала двадцатого века дифференциация предмета происходила с положительным ускорением почти во всех естественных науках, особенно в физике, химии, биологии, математике; из некогда единого предмета образовалось множество других предметов, которые довольно быстро обрели суверенный статус в пределах одной и той же науки, коренное название которой снабжалось теперь различными прилагательными, или же возникали новые названия. Повидимому, не случайно в научном словаре появился термин "предметная область" вместо старого "предмет" науки. И не разрастутся ли эти области в будущем до таких размеров и до такой степени дифференциации, что в каждой дисциплине возникнет та же "предметная" проблема, с которой психология столкнулась почти с самого её зарождения? Теперь — о методе. Упрёки в заимствовании или даже отсутствии "самостоятельных" методов в психологии, её зависимости от других наук свидетельствуют скорее о личных амбициях их авторов, чем о действительном положении дел. Во-первых, почему-то замалчивается тот факт, что психология не только что-то берёт у естественных наук, но и многое дарит им (см., например, разделы "Биолого-психологические перспективы", завершающие все главы 12-го издания учебника "Введение в психологию" под ред. Р.Аткинсон и др.). Во-вторых, всякий научный метод, как и любая человеческая деятельность, имеет, по крайней мере, две составляющие — эксплицитную и имплицитную, внешнюю и внутреннюю формы. Первая определяет предметное содержание метода, вторая — его смысл, который связан с контекстом, конкретными условиями применения метода (включая цели, задачи). Здесь — то же различие, что на философском языке называется явлением и сущностью. Психолог проводит измерения, в том числе и с использованием физических приборов и приёмов, не ради измерений, а для решения специфически психологических задач. Да и естественники, деятельность которых не ограничивается исключительно правилами рассудка, часто обращаются к психологии для решения своих научных задач. "Физик, — говорил Эйнштейн, — не может продвигаться вперёд, если в критические моменты, возникающие при решении наиболее трудных проблем, он не займётся изучением самого мышления." (Цит. по А.В.Ахутин, 1976, с.7). А "Математическое мышление" выдающегося математика 20-го века Г.Вейля (в русском переводе — 1989г.)? А не поддающиеся исчислению экскурсы философов в психологическую проблематику, как и экскурсы психологов в философию? Разве это не конкретная иллюстрация вундтовского принципа гетерогении целей? И разве не характерным для всех современных наук является не только заглядывание в "чужие владения", но и заимствование методов друг у друга? Напрашивается один вывод: все науки рано или поздно придут к тому методологическому концу, с которого начиналась психология. 4. Книга Д.Робинсона имеет четкую структуру. Первая часть называется "Философская психология", вторая — "От философии к психологии", третья — "Научная психология". У читателя может возникнуть впечатление, что философская психология, трансформировавшись в психологию, исчезла. На самом деле подобное впечатление будет ложным. Философская психология продолжала и продолжает существовать и развиваться. Ее существенной частью является, в отличие от классической экспериментальной психологии, продолжение дискурса о целостном человеке, не синтезированном из экспериментальных данных, о душе и духе, о взаимоотношениях души и тела, об одушевлении тела и овнешнении души. Реконструируются традиции православной патристики, где развивались представления об энергийной проекции человека. С последними, видимо, связаны размышления А.А. Ухтомского об анатомии и физиологии человеческого духа, о доминанте души. Дальнейшая эволюция философской психологии, рассказ о которой Д. Робинсон прервал практически на полуслове, и ее современное состояние не только до середины 20-го века, но и нынешнее — заслуживает специальной книги. В нашей отечественной традиции представляют огромный интерес психологические воззрения С.Л. Франка, А.А. Ухтомского, П.А. Флоренского, Г.Г. Шпета, А.Ф. Лосева, М.М. Бахтина, Э.В. Ильенкова, Э.Г. Юдина, М.К. Мамардашвили. Не менее интересны психологические взгляды Ф. Ницше, Х. Оргтега—Гассета, Ж.П. Сартра, М. Мерло-Понти, М. Фуко, Ж. Батая, М. Бланшо и др. Здесь можно лишь с сожалением констатировать, что подавляющее большинство психологов мира не считают философскую психологию психологией. И мешает этому негласное отождествление всей психологии с экспериментальным методом, его фетишизация. История и теория психологии — это кажется естественным, по крайней мере, привычным. А философская психология — это уже чересчур и воспринимается чем-то вроде возврата к античности и патристике. В то же время, только через философскую рефлексию психология может осознать себя и своё место в системе наук. Более того, сейчас уже для многих очевидно, что ориентация общей и экспериментальной психологи на естественно-научный метод при изучении многообразных явлений душевной жизни человека несостоятельна, о чём, кстати, предупреждал ещё В.Вундт. Может возникнуть ещё одно впечатление при последовательном прочтении названий частей книги. Оно состоит в том, что вначале была донаучная психология, а потом она стала научной или, по крайней мере, устремилась к научному статусу. Вообще-то, такова общепринятая точка зрения, которую, как нам показалось, разделяет и Д.Робинсон. Но написанная им интеллектуальная история позволяет думать иначе: какова была наука, такова была и психология. По крайней мере, в лице её виднейших создателей психология всегда находилась на передовых рубежах научной мысли, вбирая в себя все её последние достижения. Начиная с Платона и Аристотеля, психология была составной частью общенаучного мировоззрения, ещё не разделённого на естественную и гуманитарную части. Представляется очень странным, когда "донаучную" психологию приписывают выдающимся учёным с безупречной научной репутацией. "Научность" психологии обычно связывают с появлением экспериментальной психологии, предмет и методы которой вполне отвечали и отвечают традиционным стандартам естественно-научной методологии. К таким стандартам, в частности, относятся принцип восхождения от простого к сложному и объективность метода. Что касается анализа "сложного", то его расчленение на отдельные элементы успешно осуществлялось на протяжении многих веков всё той же философской психологией с её чисто спекулятивным методом исследования. Экспериментальная психология просто продолжила эту традицию, дополнив её инструментальным методом анализа. Последний давал возможность производить более или менее точные измерения и математически обрабатывать получаемые данные, что считалось (да и сейчас считается) главным атрибутом объективности. Именно экспериментальная психология в максимальной степени отвечала архетипу научности. Смена спекулятивной доминанты на экспериментальную сопровождалась целым рядом поистине революционных сдвигов в содержании и динамике развития психологии. Изменилась предметная область психологии за счёт изгнания из неё тех категорий, которые не поддавались лабораторному эксперименту. Довольно быстро почти все классические проблемы психологии были объявлены неудобными для научного (= экспериментального) исследования. Потом предлагались различные компромиссы: например, сознание редуцировали к перцепту, к схемам кратковременной памяти, нашли нейрофизиологические корреляты последних и объявили о решении психофизической проблемы, о том, что, наконец, найдены нейроны сознания. Так ли безобидна эта простота, которая иногда бывает хуже воровства? И теперь, время от времени, кто с сожалением, а кто с гордостью заявляет, что раньше психология была наукой о душе, а теперь она стала наукой об ее отсутствии. С другой стороны, предметная область психологии буквально катастрофически разрасталась за счёт включения в неё нового материала, в избытке поставляемого многочисленными экспериментами. Некогда единый предмет исследования распался на тысячи разрозненных осколков, многие из которых предлагались в качестве замены этой утерянной целостности. Д.Робинсон обозначает финал этого периода как движение "От систем к специальностям". Это не совсем обычная для любой научной дисциплины дифференциация. Скорее это та психологическая ситуация, в которой происходит инверсия субъект-объектных отношений, когда не экспериментатор управляет экспериментом, а господин эксперимент становится властелином дум экспериментатора. Последний начинает создавать контролируемые ситуации, мало или вовсе не похожие на жизненные ситуации, но очень удобные для эксперимента. В этих искусственных условиях обнаруживаются такие свойства исследуемого человека, которые редко или даже никогда не встречаются в обычной его жизни, но они чрезвычайно интересны в научном отношении. Одна экспериментальная ситуация влечёт за собой другую, делаются всё новые открытия, и в результате n-летнего опыта создаётся ещё одна оригинальная психология статистического подопытного субъекта. К этой банальной специфике экспериментального метода следовало бы добавить ещё одну банальность относительно его необходимости и достоинств. Действительно, современная и будущая психология, увы, немыслимы без эксперимента. Но вся история экспериментальной психологии, если смотреть на неё в контексте робинсоновской интеллектуальной истории, со всей очевидностью обнаруживает весьма узкие возможности и полную бесперспективность ограничения естественно-научным методом в исследовании всего спектра проблем, стоящих перед современной психологией. Возможно, что следующий этап развития психологии будет называться "От эксперимента к психологической практике" (см., например, Василюк, 2003, с.173-197). При этом, разумеется, и философская психология, и эксперимент, и психологическая практика будут тремя составными частями, образующими новую методологию психологической науки. А может быть, этих составляющих будет больше, потому что человек сам по себе — это многообразный мир, и в человеке пересекаются множество измерений других миров — индивидных, социальных и физических. В заключение отметим особое значение книги Д.Робинсона для отечественного читателя. Дело в том, что в советское время психология, наряду с другими гуманитарными науками была настолько идеологизирована, что так называемая диалектико-материалистическая методология пронизывала всю теорию (теории) психологии, а то и вытесняла ее вовсе. Даже наиболее авторитетные теории, например, культурно-историческая психология Л.С. Выготского, психологическая теория деятельности С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтьева, были совсем не свободны от идеологических и методологических штампов. Родимые пятна социализма сохраняются на нашей научной и учебной литературе по психологии, в том числе и по истории психологии, до сих пор. Методологические принципы детерминизма, отражения, системности, рефлекторной природы психики, деятельности и, в дополнение к последнему — единства сознания и деятельности, вторичности, а по сути, — второсортности сознания — все это своего рода прокрустово ложе, в котором должна была укладываться теоретическая работа. Эти же принципы служили критериальной базой для оценки истории психологии и новых достижений в области теории психологии. Приходится только удивляться, что, несмотря на суровые ограничения свободы мысли, советское время ознаменовалось возникновением и развитием целого ряда продуктивных научных направлений и серьезными достижениями во многих областях психологии, в их числе — и в теории психологии. Возможно, секрет состоит в том, что такие психологи, как Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, и многие другие добровольно-принудительно взявшие на себя обязательства создавать и развивать "марксистскую" психологию, действительно погружались в философию (не только марксистскую) и интересно размышляли о предмете психологии, о единицах анализа психики, о сознании, деятельности, личности, о проблемах развития психики и сознания, предлагали свои варианты смыслового строения сознания, структуры предметной деятельности, развития произвольных движений, соотношения внешнего и внутреннего, формирования умственных действий и понятий, соотношения мысли и слова, эмпирического и теоретического мышления в обучении и развитии индивида и т.п. Их достижения постепенно перестают быть узконациональными, о чём свидетельствует рост интереса к ним в зарубежной психологии. Книга Д.Робинсона в значительной степени способствует наметившейся тенденции к встречному движению различных психологических направлений, ещё раз убеждая нас в том, что психология — неотъемлемая часть всей общечеловеческой культуры, и только в этом контексте заключена перспектива её развития. ЛИТЕРАТУРА 1. Ахутин А.В. История принципов физического эксперимента. Изд-во "Наука", М.1976. 2. Василюк Ф.Е. Методологический анализ в психологии. М.: МГППУ; Смысл, 2003. 3. Зинченко В.П. Преходящие и вечные проблемы психологии. Послесловие // Аткинсон Р.Л. и др. Введение в психологию. СПб–М. 2003. 4. Шпет Г.Г. Эстетические фрагменты//Сочинения. М. 1989. В. П. Зинченко, А. И. Назаров |
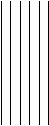 б)
б)