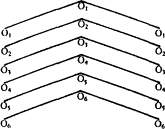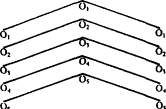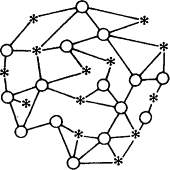СборникАнтология исследований культуры. Том 1. Интерпретации культуры.
Антропологическая традиция в исследовании культуры: вместо введения. Л. А. Мостова Фундаментальные характеристики культуры
Концепция науки о культуре
Типология культуры
Динамика культуры
Методы интерпритации культуры
Антропологическая традиция в исследовании культуры: вместо введения Культурология как интегративная наука формируется на стыке целого ряда научных направлений, создавших собственные традиции изучения культуры. Наиболее важными из них стали философия культуры, культурная антропология, сравнительное языкознание, история культуры, социология культуры и т.д. Специфику антропологической традиции точно подметил американский культурантрополог Л.Уайт. Определив культуру как специфический класс явлений, наделенных символическим значением и присущих только человеческому сообществу, он выявил принципиально важную черту антропологии как науки о человеке, дополнив свое определение соображениями о том, что мир человека — это мир его культуры. Таким образом, на протяжении более 150 лет антропология (особенно культурная), сохраняя целостный подход в изучении человека, как существа биологического и культурного одновременно, выделяла культуру как объект исследования, а мир человека рассматривала как совокупность тщательно изучаемых этнографически, археологически, исторически других культур. Антропологи XX в. добились больших успехов в изучении конкретных культур, собрали огромный эмпирический материал, создав базу для развития теории. Так, инициативной группой под руководством Дж. Мердока, был создан мировой корпус этнографических данных, известный как «Ареальная картотека человеческих отношений»(ХРАФ), изданный в 1967 г. в виде «Этнографического атласа». Это! атлас содержал сведения по 600 отдельным культурам, данные о которых сыграли свою роль для отработки метода кросс-культурного исследования, построения типологии культур, выработки концепции «универсальной культурной модели» и т. д. В течение XX в. в антропологии сложился ряд направлений, опиравшихся на собственную методологию и методику исследований и отчетливо образующих самостоятельные школы, — это несколько крупных национальных школ, при всем их разнообразии, обладающих внутренним традиционным единством, — североамериканская, британская, французская и др. Развиваясь в рамках общей науки, каждая национальная школа выработала свой подход к объекту изучения. Так, американская антропологическая школа выделяет культуру как основной и автономный феномен истории, называет свою традицию исследования культурной антропологией, в состав которой включает: этнографию, как уровень изучения и описания специфики отдельных культур; этнологию, как сравнительно-исторический анализ культур, теоретическую антропологию; археологию; лингвистику, некоторые направления психологии. Разногласия между культурантропологами США и социалантропологами Великобритании и Франции по соотношению наук исходят из разной оценки значимости понятий «культура» и «общество». Если в первом случае более широким считается понятие «культура», а социум рассматривается как ее подсистема, то во втором «общество» является всеобъемлющим понятием, а культура рассматривается как одна из функций социума. В итоге, в мировой науке сложилась традиция использования данных и культурной, и социальной антропологии как взаимодополняющие. Вклад каждой из названных школ в целостное исследование культуры и, следовательно, в формирование культурологии, огромен. В культурной и социальной антропологии был пройден путь от изучения примитивных культур к целостному исследованию современных (Л.Уайт, М.Салинс, М.Харрис и др.); от эмпирических описаний к анализу и антропологической теории, и, в итоге, к созданию мощного культурологического пласта, в котором, основываясь на конкретном материале, были тщательно разработаны следующие проблемы: 1) формирование понятия «культура» (Эд. Тайлор, А.Крёбер, К.Клакхон, Б.Малиновский, Л.Уайт, А.Радклиф-Браун, Д.Бидни, А.Кафанья и др.); 2) сформулировано понятие «культурной динамики», изучены культурные процессы разного уровня: от ассимиляции и аккультурации отдельных культурных черт до эволюции культуры (Ф.Боас, Р.Лоуи, Б.Малиновский, А.Крёбер, Л.Уайт, Дж. Стюард и др.) и т. д. В середине XX в. были сформулированы новые концепции эволюции культуры: 1) концепция общей (универсальной) эволюции Л.Уайта/Г. Чайлда; 2) концепция мультилинейной эволюции — Дж.Стюарда; 3) концепция специфической эволюции М.Салинса/Э.Сервиса; были разработаны основы типологиикультур; (А.Крёбер, Р.Бенедикт, Дж.Мёрдок, Дж.Стюард, Дж. Фейблман, Л.Уайт и др.); сформировались различные подходы к интерпретации культуры: исторический, структурный, структурно-функциональный, системный (Ф.Боас, К-Леви-Стросс, Б.Малиновский, А.Радклиф-Браун, Л.Уайт). Одной из ключевых тем для антропологии стала концепция культуры. Представления о том, что такое культура, были весьма разнообразными: от понимания ее как научаемого поведения или его абстракции, как механизма защиты, «совокупности социальных сигналов и ответов», до вариантов, в которых культура просто исчезала, как не обладающая онтологической реальностью. Анализируя ситуацию, Л.Уайт задает себе вопрос: а как бы повели себя физики, если бы у них существовала подобная путаница в представлениях об энергии? До сих пор трудно или просто невозможно говорить об общей концепции культуры, в лучшем случае можно опираться на два — три варианта-подхода, которые отражают основные тенденции в этом вопросе. Наиболее сформировавшимися являются два из них — культура, как вторая природа, созданная человеком и создавшая его и, культура как детерминированное поведение человека (воспроизведение или следование культурному образцу — паттерну). Выделение этих двух тенденций весьма условно, поскольку в рамках каждого направления можно найти бесчисленное количество вариаций. Поэтому смелые попытки собрать, проанализировать, классифицировать и т.д. определения культуры должны представляться читателю чем-то вроде профессионального подвига культуролога. Все эти концепции являются целостными и универсальными, каждая стремится объяснить все аспекты культуры в рамках общей теории, чтобы применять эту теорию к исследованию обществ и культур любого типа — от малых и примитивных до сложных цивилизаций. Вторая по своему значению тема — динамика культуры, способы ее функционирования, типы культурных процессов и методы их исследования. В течение XX в., отстаивая свой приоритет, а порой и просто право на существование, на научной арене сталкивались три основных способа объяснения культурных изменений — исторический, структурно-функциональный и эволюционный, каждый из которых отражает один из аспектов культурной динамики или один из уровней культурного процесса или подпроцесса. Однако в антропологии XX в. долгое время была распространена точка зрения, согласно которой существуют всего два способа интерпретации культуры: «исторический» и «научный». Согласно ей, исторические исследования занимаются описанием хронологической последовательности конкретных событий, а объяснение культурного феномена должно состоять в сравнении его с тем, что произошло ранее. «Научная интерпретация» не связана ни с временной последовательностью событий, ни с их уникальностью, но только с поиском универсалий и закономерностей. Такое разграничение временных и вневременных аспектов культурного процесса справедливо, но называть изучение одних «историей», а других «наукой» — значит вносить существенную путаницу. Используя три подхода в интерпретации культуры, исследователь может наиболее полно рассмотреть все процессы, свойственные ей: исторический (временной) — время, место и последовательность существования тех или иных культурных явлений; формально-функциональный (вневременной) — анализ структуры и функционирования культуры, процессы в их вневременном, повторяющемся и обратимом виде, осмысление интеграции и дезинтеграции; формально-временной процесс, который состоит в том, что обычно называют ростом или развитием культуры, — это изменение культурной системы (или подсистемы) во времени, когда одна форма вырастает из предшествующей и превращается в последующую. В рамках этого процесса изменения происходят не с единичными явлениями, но с классами культурных явлений. Культурный процесс рассматривается антропологами как единый поток, в котором взаимодействуют различные типы (или уровни) культурных процессов — от развития культуры в целом до развития или изменения отдельных явлений или культурных черт, от эволюции культурной системы до аккультурации, ассимиляции, инкультурации. Определение типа культуры, соотношение понятий «цивилизация» и «культура» в диахронном и синхронном аспекте — наиболее яркая, но и достаточно дискуссионная проблема. Методологическую основу классификации культур по типу составляют различные концепции культурного процесса: эволюционные, циклические, концепции культурных типов (исторических и «идеальных»). Существуют также типологические теории, в которых в качестве структурной основы того или иного типа культуры рассматривается культурно-детерминированное поведение человека («универсальная модель культуры», паттерны или конфигурации культуры и др.). Каждый из подходов имеет свою специфику. Концепция универсальной, общей эволюции, позволяет выявить основные закономерности культурно-исторического процесса, его общую тенденцию развития (культурной системы, подсистем и векторов культуры). В рамках общей концепции эволюции культуры Л.Уайт предлагает свои критерии для определения стадий культурного развития и сравнительного анализа культур. Таким критерием с его точки зрения является энергия. Энергия, степень ее использования человечеством могут служить определителем уровня развития культуры, поскольку цивилизация или культура есть форма организации энергии, а весь путь, пройденный человечеством, — это история овладения энергией. Уайт вводит своеобразную «энергетическую» типологию культуры в диахронном аспекте. Свои возможности для сравнительного анализа культуры и конкретного изучения ограниченной рамками отдельных регионов исторической повторяемости и параллелизмов, дает концепция мультилинейной эволюции Дж.Стюарда. Стюард предложил концепцию уровней социокультурной интеграции, которая, по его мысли, создает перспективу для сравнения социокультурных систем в ходе эволюции: различные стадии развития семьи, народа, государства и т.д. Один из вариантов классификации культур по типу дает цивилизационный подход. Понятия «цивилизация» и «культура», не являясь тождественными, одновременно тесно связаны между собой. Как правило, исследователи соглашаются с тем, что цивилизация — это, во-первых, определенный уровень развития культуры, во-вторых, определенный тип культуры, с присущими ему характерными чертами. А-Крёбер, проанализировав сложную «системную» типологию П.Сорокина, «морфолого-прасимволическую» типологию О.Шпенглера, «архетипическую» Н. Данилевского, вводит в уже известную систему типологий понятие «стиль культуры». Заимствовав этот термин из искусствоведения, он существенно расширяет его значение до рамок «типа культуры» или «типа цивилизации». Он рассматривает три взаимосвязанных между собой способа формирования культурных стилей (или общекультурного стиля). Стилистика культур может быть частной, она непостоянна и носит характер постепенно-последовательного развития с раскрытием уже имеющихся черт стиля и переходом на новый более высокий уровень созидания. Любой стиль в рамках целостной культуры будет обязательно не завершен, поскольку помимо внутренних конфликтов существует еще и влияние внешних факторов: окружающая среда, другие культуры. Эти влияния иногда бывают настолько сильными, что могут оказать разрушительное воздействие на более слабые культуры, вступившие с ними в контакт. Однако подобные взаимовлияния не всегда губительны, тем более что значительная часть содержания культуры, вошла в нее извне и, со временем, за счет ассимиляции, вступила во взамодействие с уже работающим стилем.Создание нового содержания культуры, медленное, трудное продвижение вперед, рост согласованности между различными элементами и частями — все это вместе составляет созидание окончательного стиля культуры. «Стилистическая» концеция Крёбера, будучи оригинальной в своей окончательной формулировке, вырастает из наблюдений автора за «конфигурациями культурного роста», которые в свою очередь являются своеобразной диахронной типологической концепцией и характеристикой «кривых» развития культур. Дж. Фейблман, обосновывая свой взгляд на существование культурных типов, полагает, что внутренняя специфика культуры определяется спецификой культурно-детерминированного поведения индивида. Рассматривая культуру как способ существования человека, Фейблман выделяет пять типов и оговаривает возможность существования еще двух. Это: до-первобытный, первобытный, военный, религиозный, цивилизованный, научный и пост-научный типы культуры. Из этих семи первые четыре являются ранними, а последние три — развитыми. Это распределение не связано с их хронологией. Культурные типы являются логическими системами ценностей, которые могут сменять друг друга в любой последовательности. Типы, выделенные Фейблманом, представляют собой идеальные модели, не соответствующие реальным культурам. Реальные культуры — это подвижные образования, включающие, как правило, более одного идеального типа, ломающие их границы и создающие переходный тип. Поэтому отнесение конкретной культуры к одному из идеальных типов может быть только условным. И все же, используя эти категории идеальных типов, можно объяснить некоторые особенности конкретных культур. При всем внешнем различии, концепции Фейблмана и Крёбера обладают неявным внутренним единством и логикой движения, и это неудивительно, поскольку оба исходят из понимания культуры как научаемого поведения. Еще один вариант типологии, построенный на основе модели поведения, — концепция единого плана построения культуры, или универсальная модель культуры, сформулированная в антропологии как результат разработки сравнительного метода. Широкие границы универсальной модели были намечены еще в XIX в. Л.Морганом и Г.Спенсером, однако целостное представление об этом феномене сформировалось в 30-е — 40-е годы XX в. на стыке антропологии и психологии. Изучение всеобщего культурного разнообразия позволило исследователям выбрать элементы, общие для всех известных культур, такие как: возрастное деление, календарь, организация общества, системы родства, приготовление пищи, совместный труд и разделение труда, декоративное искусство, образование, этика, праздники, фольклор, табу, похоронные ритуалы, игры, подарки, гостеприимство, жилищное строительство, запрет инцеста, закон, наказания, имена, религиозные культы и т.д. Количество, качественный состав и сочетания рубрик у каждого автора (К.Уисслер, Дж.Мёрдок, Б.Малиновский, Д.Аберле, М.Харрис и др.) было оригинальным, не совпадало с концепциями коллег, однако суть оставалась единой. При дальнейшем анализе каждой, отдельно взятой черты, эта общность усиливалась. Так, Мёрдок указывал на то, что каждая культура имеет язык и каждый язык состоит из одинаковых компонентов: фонем, слов, грамматики. Похоронные обряды во всех культурах, как правило, включают выражение скорби, способы обращения с телом, ритуалы, защищающие участников погребения от злых сил, и т.д. Однако, при всем сходстве (наличие общих черт и их компонентов) их конкретное культурное содержание различно. Мёрдок пришел к выводу, что действительные всеобщие черты (общий план построения культур) это не идентичность содержания, а сходство классификаций. Универсальная модель существует во всех культурах: простых и сложных, древних и современных, и ее основа может быть найдена в особенностях биологической природы человека и условиях человеческого существования. Первые попытки объяснить сходства и различия культур исходили из психического единства человека и строились на изучении реакций человеческого организма на разнообразные стимулы и условия жизни. Самнер и Келлер предложили свой вариант классификации основных побуждений и стимулов: самосохранение, увековечивание себя, самоудовлетворение и религия. Эта классификация строилась на четырех чувствах: голоде, любви, тщеславии и страхе. Классификация Малиновского основывалась на удовлетворении человеческих потребностей и соответствовала трем аспектам культурного процесса. Универсальная модель Уисслера включала девять компонентов: речь, материальные особенности, искусство, знание, религия, общество, собственность, правительство, война. Не отрицая иных подходов к поиску общего знаменателя культур, Мёрдок остановился на «культурной привычке» и факторах, управляющих формированием привычки как структуре, определяющей универсальную модель. Первый фактор — это научение или воспитание, второй — стимул или сигнал. Любые известные стимулы могут быть соотнесены с культурными реакциями во множестве обществ. Такие постоянные стимулы, как ночь и день, небесные светила, определенные виды животных и растений, религиозные культы и т.д., и устойчивые реакции на них, специфические для каждой, отдельно взятой культуры, создают основу для классификации всеобщих культурных черт. Третьим важным фактором является «базовая» культурная привычка (навык), которая несет особую нагрузку в структуре универсальной культурной модели Мёрдока, благодаря четвертому фактору психологического обобщения, под которым автор понимает свойство воспроизведения одинаковых реакций при одинаковых условиях и стимулах. Так, для общения со сверхъестественными силами им придаются человеческие формы, что делает возможным обращение к ним как к людям: просьба — молитва; подарок — жертва; лесть — восхваление; самоуничижение — аскетизм; этикет — ритуал и т.д. Сходства культур, исходящие из такого рода обобщений, бесчисленны. Пятый фактор — это ограничение числа возможных реакций. В любой ситуации число возможных реакций ограничено физиологическими и психологическими способностями человека и условиями его существования. Так, человеческая физиология и психология ограничивают способы лечения заболеваний и рождения ребенка и т.д. Культурная привычка и традиция, взятые в определенном социальном контексте, создают условия взаимодействия, которые вносят в культуру принцип ограниченных возможностей, существенно важных для определения универсальной культурной модели. Этот принцип создает вариативность, свойственную конкретной культуре. Когда вариативность действий отсутствует и сводится к единственно возможной реакции, тогда культурные сходства наблюдаются не только в структуре модели, но и в ее содержании, а несоответствия будут минимальными. Так, все известные общества имеют основную семейную форму: отец, мать, дети. Эта форма может быть изолированной, может включать других родственников, но основа остается неизменной, другой формы, адекватной семье, человечество не выработало. Модель культуры Мёрдока является своеобразным, построенном на огромном фактическом материале «универсальным» способом изучения сходства и различия культур, исходя из культурно-детерминированного поведения человека. Проблема единства человеческой культуры побуждала исследователей продолжать поиски совершенной модели, не только объясняющей сходства или различия, но и дающей представление о взаимодействии и взаимовлиянии культурных элементов. Система типологий культуры, созданная в XIX — XX вв., весьма разнообразна и позволяет современному исследователю использовать методологическую основу, принципы классификации и сравнительного анализа культур, как необходимый культурологический инструментарий. В 40 — 50-е годы в антропологии началась дискуссия, которая не завершена по сей день, — о необходимости выделения специальной науки о культуре. Фейблман называет ее «наукой о культуре», Бидни — «метаантропологией», а Уайт — «культурологией». В книге «Наука о культуре» (The Science of Culture. 1949) Уайт определяет предметное поле культурологии и методы ее исследования, полагая, что основной подход в интерпретации культуры как целостного автономного образования — системный подход. Многочисленные практические исследования привели Уайта к убеждению, что любой культурный феномен носит системный характер. В своих работах он впервые описывает культуру как интегрирующую, самоорганизующуюся систему, к которой так же, как и к другим материальным системам, применимы законы термодинамики. Теоретические основы концепции культурных систем базируются на интеллектуальной традиции Запада, которая с середины прошлого столетия начала рассматривать культуру в понятиях новации, развития и синтеза. Непосредственной предшественницей концепции культурных систем была «органическая» школа в социологии, результатом развития которой стала социологическая теория Г.Спенсера. Несмотря на неприемлемость для Уайта биологических аналогий, он высоко оценивал стремление мыслителей школы «социального организма» рассматривать общество в целом, во взаимосвязи его отдельных частей кзк систему. Собственная традиция развивалась и в американской этнологии. Особенно значимы были в этом отношении работы Рут Бенедикт, в том числе «Психологические типы в культурах Юго-Запада». Концепция психологических типов Бенедикт и концепция культурных систем, несмотря на очевидную отдаленность, обладали одной существенно важной общей чертой — они рассматривали культуру народа как целое. Еще одним импульсом, оказавшим влияние на формирование концепции культурных систем, явились исследования проблемы ценностей в культуре, особенно программа по изучению пяти поселений на юго-западе США (лаборатория социальных отношений Гарвардского университета). Значение этих работ заключалось не в том, что они описали различные системы культурных ценностей, функционирующие в этих пяти поселениях, а в том, что культура в них рассматривалась как организованное целое. Эти исследования вместе с работой Бенедикт прокладывали дорогу к концепции культурных систем. Большое влияние на развитие американской этнологии в этом смысле оказал европейский функционализм, особенно после приезда Б.Малиновского и А. Рад клифа-Брауна в США. В результате, американская этнология сблизилась с европейской, и даже Ф.Боас, испытав частичное влияние функционализма, в 1938 г. признал, что основной из задач антропологии является осмысление культуры в целом. Системный подход, предложенный Уайтом, преодолевая разнообразные мнения о возможности или невозможности существования единой науки о культуре, способствовал выявлению сущности культурологии как науки о целостном феномене культуры, специфики ее как гуманитарной науки XX в., и новом качестве исследования, которое она как инструмент познания мира человека дает изучающему культуру. «Антология исследований культуры» включает классические сюжеты и работы классиков антропологии по наиболее общим и ключевым темам и построена по принципу диалога авторов в каждом из разделов. Представить всю великую антропологическую традицию в одном томе — задача абсолютно нереальная, поэтому составитель попытался показать богатство накопленного научного опыта через мозаику мнений и взглядов по узкому кругу проблем теории культуры, с надеждой продолжить эту работу в дальнейшем*.
Основу книги составляют публикации ученых, принадлежащих к двум крупнейшим антропологическим школам: американской и английской, это представители первой и второй волны в антропологии XX века: Ф.Боас, Р.Бенедикт, А.Крёбер, Р.Билз, Л.Уайт, Дж.Мёрдок, Б. Малиновский,. А.Радклиф-Браун, Э.Эванс-Причард, Э.Лич, Д.Бидни и др. Все тексты впервые публикуются в широкой печати и впервые были переведены на русский язык специально для данного издания**, адресованного преподавателям, аспирантам, студентам и всем, интересующимся проблемами исследования культуры.
Огромную помощь при подготовке этой книги оказала ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Светлана Яковлевна Левит, без активной поддержки которой этот проект не был бы реализован. Л.А.Мостова ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЛЬТУРЫ Лесли А.Уайт. Понятие культуры*
Никто из занимающихся культурной антропологией не подвергает сомнению то обстоятельство, что центральным понятием этой отрасли знаний является «культура». Но данный термин каждый понимает по-своему. Для одних культура — научаемое поведение. Для других — не поведение как таковое, а его абстракция. Для одних антропологов каменные топоры и керамические сосуды — культура, для других ни один материальный предмет таковой не является. Одни полагают, что культура существует лишь в сознании людей, другие считают культурой лишь осязаемые предметы и явления внешнего мира. Некоторые антропологи представляют культуру совокупностью идей, но спорят друг с другом по поводу того, где эти идеи обитают: одни полагают, что в сознании изучаемых людей, другие — что в сознании самих этнологов. Далее следует понимание «культуры как защитного механизма физического мира», «культуры как совокупности составляющих «п» различных социальных сигналов, которым соответствуют «т» различных ответов», затем царит уже полная путаница и неразбериха. Интересно, как повели бы себя физики, если бы у них существовало столько же различных представлений об энергии! Были, однако, времена, когда ученые имели более или менее однозначное представление о сущности и употреблении этого термина. В последние десятилетия XIX в. и в самом начале XX в. культурные антропологи разделяли по преимуществу точку зрения Э.Б.Тайлора, выраженную в первых строках «Первобытной культуры»: «Культура ... слагается в своем целом из знания, верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых других способностей и привычек, усвоенных человеком как членом общества»*. Тайлор не делает здесь акцента на том, что культура присуща лишь человеку, хотя это и подразумевается; в других его работах данная мысль выражена более четко (так, в Tyior E.B. 1881:54, 123 говорится об огромной пропасти между интеллектом животных и человека). Следовательно, к культуре Тайлор относит всю совокупность предметов и явлений, свойственных человеку как виду. В «Первобытной культуре» он перечисляет верования, обычаи, материальные предметы и пр. (Tyior E.B. 1913:5-6).
Тайлоровская концепция культуры царила в антропологии в течение нескольких десятилетий. Еще в 1920 г. Роберт Лоуи открывал свой труд «Первобытное общество» цитатой «знаменитого тайлоровского определения». Однако в последние годы число концепций и определений культуры значительно возросло. Наибольшее распространение получили представления о культуре как об абстракции. Именно так в конечном счете определяют культуру Крёбер и Клакхон в их всеобъемлющем исследовании «Культура: критический обзор концепций и определений» (Kroeber A.L., Kluckhohn С. 1952: 155, 169). Аналогичным образом определяют культуру Билз и Хойджер в учебнике «Введение в антропологию» (Beals R.L., Hoijer H. 1953:210, 219, 507, 535). А в недавней работе «Культурная антропология» Феликс М.Кисинг характеризует культуру как «совокупность научаемого поведения, распространенного в обществе» (Keesing F. 1958: 16, 427). В последнее время дискуссия вокруг понятия культуры заострилась на проблеме различия между терминами «культура» и «человеческое поведение». Долгие годы антропологи совершенно спокойно определяли культуру как научаемое поведение, свойственное человеческому виду и передающееся от одного индивида, группы индивидов или поколения другим при помощи механизма социальной наследственности. Однако теперь на этот счет возникли сомнения, которые привели к утверждению, что культура есть не само поведение, а лишь его абстракция. Культура, утверждают Крёбер и Клакхон, «есть абстракция конкретного человеческого поведения, но не само поведение». Аналогичную точку зрения высказывают Билз, Хойджер и др.1
Однако те исследователи, которые определяют культуру как абстракцию, не поясняют, что именно они подразумевают под этим термином. Считается очевидным, (1) что сами они точно знают, что называют «абстракцией», и (2) что другие тоже способны это понять. На наш взгляд, ни одно из двух допущений достаточным образом не обосновано; далее мы еще вернемся к более детальному разбору данной концепции. Но какой бы смысл ни вкладывали антропологи в термин «абстракция», если культура — абстракция, то, следовательно, она непознаваема, неизмерима и в целом нереальна. По Линтону, «культура сама по себе неуловима и не может быть адекватно воспринята даже теми индивидами, которые участвуют в ней непосредственно» (Linton R. 1936: 288-289). «Неуловимой» называет культуру и Херсковиц (Herskovits M.J. 1945: 150). На воображаемом Клакхоном и Келли симпозиуме антропологи вопрошали: все видят человека, его действия и взаимодействия с другими людьми, но «кто хоть раз видел культуру?» (Kluckhohn С., Kelly W.H. 1945: 79,81). Билз и Хойджер также считают, что «антрополог не способен наблюдать культуру непосредственно» (Beals R.L, Hoijer H. 1953: 210). Итак, раз культура, будучи абстракцией, неуловима, непознаваема, существует ли она на самом деле? И Ральф Линтон вполне серьезно рассматривает этот вопрос: «... можно ли вообще сказать о ней (о культуре), что она существует» (Linton R. 1936: 363). Радклиф-Браун сообщает нам, что слово «культура» «обозначает не конкретную реальность, а абстракцию, и чаще всего весьма расплывчатую абстракцию» (Radcliffe-Brown A.R. 1940: 2). Спиро приходит к заключению, что, согласно господствующей «позиции современной антропологии... культура не имеет онтологической реальности» (SpiroM.E. 1951:24). Когда культура превращается в абстракцию, она не только становится невидимой и неуловимой, но и вообще перестает существовать как таковая. Трудно представить себе концепцию, менее соответствующую действительному положению вещей. Почему же тогда столь многие выдающиеся и пользующиеся безусловным уважением антропологи поддерживают «абстрактную» концепцию? Ключ к пониманию этого — а может, и просто объяснение данного явления — дают Крёбер и Клакхон: «Поведение для психологии — материал первостепенной важности, а культура — нет, она уже вещь второстепенная, интересная лишь постольку, поскольку влияет на поведение; и совершенно естественно, что психологи и социопсихологи считают своим предметом исследования в первую очередь поведение, а уже потом распространяют свои интересы и на культуру» (КгоеЬег A.L., KluckhohnC. 1952:155), Мотивировка проста и однозначна: если культура — это поведение, то (1) культура становится предметом изучения психологической науки: поскольку поведение изучается психологией, она и отдается во власть психологам и социопсихологам; (2) небиологическая антропология остается без предмета изучения. Такая опасность стала казаться реальной и неотвратимой, ситуация приближалась к критической. Надо было искать какой-то выход. Но какой? Крёбер и Клакхон предложили простое и тактичное решение: пусть психологи имеют дело с поведением, а антропологи занимаются абстракциями поведения. Эти абстракции, мол, и являются культурой. Заключая такую сделку, антропологи отдали психологам лучшее: реальные предметы и явления, которые существуют в реальном материальном мире, во времени и пространстве, и могут быть познаны, а себе оставили неуловимые абстракции, не являющиеся «онтологической реальностью». Однако они наконец получили хоть и эфемерный и непознаваемый, но собственный объект изучения! Можно сомневаться, действительно ли именно последнее соображение заставило Крёбера и Клакхона определить культуру как «не само поведение, а его абстракцию», но сделали они это, несомненно, с достаточной ясностью. И что бы ни явилось тому причиной — или причинами, ибо их могло быть несколько, — с тех пор вопрос о том, следует ли рассматривать культуру как поведение или как его абстракцию, стал основополагающим во всех попытках выработать адекватную, конструктивную, плодотворную и надежную концепцию культуры. Автор этих строк, так же как Крёбер и Клакхон, вовсе не собирается отдавать культуру психологам; в самом деле, трудно найти антрополога, который приложил бы столько усилий, чтобы разграничить психологические и культурологические проблемы2. Но в еще меньшей степени он склонен подменить материальную сущность культуры ее призраком. Ни одна наука не может иметь объектом своего изучения нечто, состоящее из неуловимых, невидимых, неосязаемых, онтологически несуществующих «абстракций»; наука должна иметь дело с настоящими звездами, млекопитающими, лисицами, кристаллами, клетками, феноменами, гамма-излучением и элементами культуры3. Мы считаем возможным предложить такой анализ ситуации, который позволит разграничить психологию как науку, изучающую поведение, и культурологию как науку, изучающую культуру, и каждой из этих наук дать реальный, материальный объект изучения.
В науке принято различать сознание наблюдателя и внешнюю среду4 — предметы и явления, существующие вне сознания наблюдателя. Ученый вступает в контакт с внешним миром посредством собственных органов чувств, и у него формируются ощущения. Они трансформируются в понятия, которые вследствие манипуляций в мыслительном процессе5 формируют посылки, предположения, обобщения, выводы и т.д. Истинность этих посылок, предположений и выводов проверяется опытами во внешней среде (Einstein A. 1936: 350). Таким образом добывается научное знание.
Первым шагом в процессе познания является наблюдение, или восприятие внешнего мира при помощи органов чувств. Следующий шаг, после того как ощущения трансформировались в понятия, — классификация наблюдаемых предметов и явлений. Предметы и явления внешнего мира группируются в классы различного вида: кислоты, металлы, камни, жидкости, млекопитающие, звезды, атомы, частицы и т.д. И сейчас становится очевидным, что имеется целый класс явлений, чрезвычайно важный в изучении человека, для которого в науке не существует названия, — класс символизированных *предметов и явлений6. Поразительно, но это действительно так: данный класс предметов и явлений не имеет названия. А случилось так потому, что эти предметы и явления всегда изучались и обозначались не сами по себе, в зависимости от присущих им свойств, а лишь в определенных контекстах.
Вещь важна сама по себе: «Роза это роза это роза». Действие не является изначально этическим, экономическим или эротическим действием. Действие есть действие. Оно становится этическим, экономическим или эротическим, лишь, будучи рассмотренным в этическом, экономическом или в эротическом контексте. Возьмем, например, китайскую фарфоровую вазу — что это: объект научного изучения, произведение искусства, товар или вещественное доказательство в судебном разбирательстве? Ответ очевиден. Назвать предмет «китайской фарфоровой вазой» уже означает ввести его в определенный контекст; прежде всего, следовало бы сказать: «Покрытая глазурью форма из обожженной глины есть покрытая глазурью форма из обожженной глины». А, будучи китайской фарфоровой вазой, этот предмет может стать произведением искусства, объектом научного исследования или товаром в зависимости от того, в каком контексте он рассмотрен: эстетическом, научном или коммерческом. Вернемся теперь к классу символизированных предметов и явлений: слово, каменный топор, фетиш, отношение к теще или к молоку, произнесение молитвы, окропление святой водой, керамический сосуд, участие в голосовании, соблюдение святой субботы, «а также некоторые другие способности, привычки (и предметы), присущие человеку как члену общества» (Tyior E.B. 1913: 1)*. Они суть то, что они суть: предметы и действия, связанные с символической способностью человека.
Эти предметы и явления связанные со способностью человека символизировать могут быть рассмотрены в разнообразных контекстах: астрономическом, физическом, химическом, анатомическом, физиологическом, психологическом и культурологическом; и они, в свою очередь, станут соответственно астрономическими, физическими, химическими, анатомическими, физиологическими, психологическими и культурологическими феноменами. Ведь все предметы и явления, зависящие от символической способности человека, зависят также от солнечной энергии, которая поддерживает жизнь на нашей планете, — это астрономический контекст. Данные предметы и явления могут быть рассмотрены и объяснены в терминологии анатомических, нервных и психических процессов, происходящих в человеке. Они могут быть также рассмотрены и объяснены во взаимосвязи с организмом человека, т.е. в соматическом контексте. Кроме того, их можно рассмотреть и в экстрасоматическом контексте, т.е. во взаимосвязи с другими подобными предметами и явлениями, а не с организмом человека. В том случае, когда символизированные предметы и явления рассматриваются во взаимосвязи с организмом человека, т.е. в соматическом контексте, их по праву можно назвать поведением человека, а изучающую их науку — психологией. Когда же символизированные предметы и явления рассматриваются и объясняются во взаимосвязи друг с другом, а не с организмом человека, мы называем их культурой, а изучающую их науку — культурологией. Этот анализ графически показан на рис. 1.
Рис.1. В центре диаграммы расположена вертикальная колонка окружностей 01, 02, 03 и т.д., которые обозначают предметы и явления (действия), зависящие от способности человека к символизированию. Эти предметы и явления образуют определенный класс феноменов, существующих в реальном мире. А поскольку единого обозначения у них нет, мы осмелились дать им название: символаты. Мы понимаем, какую берем на себя ответственность, вводя новый термин, но этому важнейшему классу феноменов необходимо название, ведь его надо выделить из других классов. Будь мы физиками, мы могли бы назвать эти предметы и явления, например, «гамма-феноменами». Но мы не физики, и полагаем, что предложенный термин более прост, чем название буквы греческого алфавита. Прецедент существует: если изолятом принято называть результат действия — изоляции, то результат функционирования способности человека к символизированию можно назвать символатом. Впрочем, не стоит придавать чрезмерного значения тому, каким именно словом назвать этот класс феноменов, и, наверное, можно придумать лучшее название. Но мне представляется чрезвычайно важным, чтобы этот класс феноменов имел название. Предметы или явления, зависящие от способности человека к символизированию — символаты, — существуют самостоятельно, но, будучи рассмотренными в каком-либо контексте, они приобретают особый смысл. Как мы уже отмечали, они могут быть важны в астрономическом контексте: каждый ритуал требует определенных затрат энергии, источником которой является Солнце. Но в науках о человеке важны два основных контекста: соматический и экстрасоматический. Символаты можно рассматривать и объяснять во взаимосвязи с организмом человека или же во взаимосвязи друг с другом, абстрагируясь от организма человека. Попробую проиллюстрировать свою мысль примерами. Я курю сигарету, голосую на выборах, раскрашиваю керамический кувшин, избегаю тещи, читаю молитву, затачиваю острие стрелы. Каждое из этих действий связано с символизированием7, следовательно, каждое — символат. И я как ученый могу рассмотреть каждое из этих действий (явлений) во взаимосвязи со мной, с моим организмом или же во взаимосвязи друг с другом, с другими символатами, совершенно незяиисимо от моего организма.
В первом случае я рассматриваю символат во взаимосвязи с моим анатомическим строением: например, со структурой и функциями кистей моих рук; со стереоскопическим и цветным характером моего зрения; с моими потребностями, желаниями, надеждами, страхами, воображением, привычками, внешними реакциями и т.д. Что я чувствую, когда сознательно избегаю собственной тещи или заполняю избирательный бюллетень? Каковы мои представления об этих действиях? Имеют ли эти действия положительную эмоциональную коннотацию или же выполняются небрежно, машинально? И так далее. В данном случае речь идет о человеческом поведении, а наука называется психологией. Таким же образом можно рассмотреть не только действие (явление), но и вещь (предмет). Каково мое отношение к глиняному кувшину, каменному топору, распятию, жареной свинине, виски, святой воде, цементу? Каковы мои представления о каждом из этих предметов и как я на них реагирую? Иными словами, каков характер взаимосвязи между каждым из названных предметов и моим организмом? Эти вещи не принято называть человеческим поведением, но они являются воплощением человеческого поведения; человеческий труд отличает кусок кремня от каменного топора. Топор, сосуд. распятие или прическа — это воплощенный труд человека. Таким образом, мы имеем дело с классом предметов, зависящих от символизации, и рассматриваем их во взаимосвязи с человеческим организмом. Научное рассмотрение и интерпретация этой взаимосвязи и есть психология. Но можно рассматривать символаты во взаимосвязи друг с другом, независимо от человеческого организма. Так, в случае с тещей, мы можем рассмотреть отношение к ней во взаимосвязи с другими символатами или с кластерами символатов, такими, как брачные обычаи — моногамия, полигиния, полиандрия, место проживания супругов после заключения брака, разделение труда между полами, способ пропитания, архитектура жилища, степень культурного развития и т.д. Если же речь идет о выборах, следует принять во внимание формы политической организации (племя, нация), тип правления (демократическое, монархическое, фашистское); возраст, пол, имущественное положение; политические партии и т.д. В этом случае наши символаты становятся культурой — элементами культуры или сосредоточением элементов, институтами, обычаями, кодексами и т.п., а их научным изучением занимается культурология. То же самое касается и отдельных предметов, а не только действий. Если нас заинтересует мотыга, мы можем рассмотреть ее во взаимосвязи с другими символами в экстрасоматическом контексте: с другими орудиями труда, используемыми для производства пропитания, с палкой-копалкой или с плугом; или с традициями полового разделения труда; с уровнем развития культуры и т.д. Нас может заинтересовать связь между компьютером и степенью развития математики, уровнем технологического развития, разделением труда, социальным институтом, который его использует (корпорация, военное подразделение, астрономическая лаборатория) и т.д. Таким образом, очевидно, что существуют два различных научных подхода8 к изучению подобного рода предметов и явлений, зависящих от символической способности человека к символизации. Если мы их рассматриваем во взаимосвязи с организмом человека, т.е. в соматическом контексте, то эти предметы и явления есть для нас человеческое поведение, а сами мы занимаемся психологией. Если же мы будем рассматривать их во взаимосвязи друг с другом, независимо от организма человека, т.е. в экстрасоматическом контексте, то эти предметы и явления станут для нас культурой — культурными элементами или культурными чертами, а мы займемся культурологией. Психология человека и культурология имеют в качестве объекта исследования одни и те же феномены: предметы и явления, зависящие от способности человека символизировать (символаты). А отличаются эти две науки друг от друга различными контекстами, в которых изучаются эти феномены9.
Аналогичный анализ, но только по отношению к другому специфическому классу предметов и явлений, к словам, лингвисты проделали уже несколько десятилетий тому назад. Слово является предметом (звуком, комбинацией звуков или значков) или действием, зависящим от способности человека к символизации. Слова есть то, что они есть: слова. Но для ученых они представляют интерес в двух различных контекстах: в соматическом или органическом, и в экстпасоматическом, или экстраорганическом. Это различие приняю вы ражать в терминах la langue и la parole, или речь и язык10
В соматическом контексте слова представляют собой род поведения человека: речевое поведение. Научное исследование слов в соматическом контексте есть психология (с элементами физиологии и, возможно, анатомии) речи. Эта наука рассматривает связь между словами и организмом человека: как воспроизводится слово, какое оно имеет значение, отношение к слову, восприятие и реакция на слово и т.д. В экстрасоматическом контексте слова рассматриваются во взаимосвязи друг с другом, независимо от человеческого организма. Этим занимается лингвистика, наука о языке. Фонетика, фонемика, синтаксис, лексикология, грамматика, диалектология, история языка и т.д. — это различные аспекты, эмфазы науки лингвистики. Чтобы яснее показать разницу между этими двумя науками, сошлемся на две книги: «Психология языка» Уолтера Б.Пилсбери и Кларенс Л.Мидер («The Psychology of Language» by Walter B.Pillsbury a.Clarence L.Meader, N.Y., 1928) и «Язык» Леонарда Блумфилда («Language» by Leonard Bloomfield. N.Y., 1933). В первой мы найдем такие главы, как «Органы речи», «Органы чувств, вовлеченные в речь», «Ментальные процессы в речи» и т.п. Во второй книге — другие главы: «Фонема», «Фонетическая структура», «Грамматические формы», «Типы предложений» и т.п. Разницу между двумя науками мы показали на рис.2.
Рис.2. Рис. 1 и 2 в целом схожи. На обоих обозначены предметы и явления, зависящие от способности человека символизировать. На рис.1 обозначен общий класс: символаты; на рис.2 — частный класс: слова (входящий в класс символатов). В обоих случаях мы изображаем соматический контекст рассмотрения и интерпретации, с одной стороны, и экстрасоматический — с другой. И в обоих случаях для этого существуют две различные науки: психология поведения человека или речи; наука о культуре или о языке. Таким образом, культура представляет собой класс предметов и явлений, зависящих от способности человека к символизации, который рассматривается в экстрасоматическом контексте. Это определение спасает культурную антропологию от неосязаемых, неуловимых и онтологически не существующих абстракций и снабжает ее реальным, материальным, познаваемым предметом исследования. Ибо оно проводит четкую грань между поведением и культурой; между наукой о психологии и наукой о культуре. Мне могут возразить, что наука должна иметь объектом исследования определенный класс предметов как таковой, а не класс предметов в некоем контексте. Мне скажут, что атомы есть атомы, млекопитающие есть млекопитающие, и они являются объектом исследования соответственно физики и зоологии, независимо от контекста. Так почему же культурная антропология должна иметь объект исследования, определяемый лишь в некоем контексте? На первый взгляд, это убедительный аргумент, но по существу он бессилен. Ученый всегда стремится объяснить феномен. И чаще всего особая значимость феномена заключается как раз в контексте. Даже среди так называемых точных наук есть науки, изучающие организмы в определенном контексте: такова, например, паразитология, наука, изучающая организмы, которые играют в животном мире определенную роль. И в области взаимоотношений человека и культуры мы обнаружим десятки примеров предметов и явлений, значимость которых заключена не в них самих, а в том контексте, в котором они рассматриваются. Самец определенного вида животных называется мужчиной. Но мужчина — это мужчина, а не раб; рабом он становится лишь в определенном контексте. То же с товарами: зерно и хлопок — предметы, обладающие потребительской ценностью, но они не были товарами — предметами, произведенными для продажи, — в культуре аборигенов хопи; зерно и хлопок стали товарами, лишь когда были включены в определенный социально-экономический контекст. Корова есть корова, но она может быть средством обмена, деньгами в одном контексте, продуктом питания — в другом, тягловой силой (Картрайт использовал корову как тягловую силу в своей модели механического ткацкого станка) — в третьем, объектом религиозного поклонения (Индия) — в четвертом и т.д. Не существует науки, изучающей именно коров, но есть науки, изучающие средства обмена, тягловую силу, объекты религиозного поклонения, и каждая из этих наук может изучать корову. Так что мы можем иметь науку, изучающую символические предметы и явления в экстрасоматическом контексте. Местоположение культуры Если мы определяем культуру как совокупность предметов и явлений, реально существующих в окружающем нас мире, то неизбежен вопрос: где они располагаются, т.е. каково местоположение культуры? Ответ таков: предметы и явления, составляющие культуру, располагаются во времени и пространстве 1) в организме человека (идеи, верования, эмоции, отношения); 2) в процессах социального взаимодействия людей; 3) в материальных объектах (топоры, фабрики, глиняные сосуды), находящихся вне организма человека, но в пределах моделей социального взаимодействия между людьми11. Схематически это показано на рис.3.
Рис.3. Мне могут возразить, мол, раньше вы утверждали, что культура состоит из экстрасоматических феноменов, а сейчас допускаете, что отчасти она находится внутри организма человека. Разве это не противоречие? Нет, это не противоречие, а недопонимание. Мы ведь говорили вовсе не о том, что культура состоит из экстрасоматических предметов и явлений. Мы говорили, что культура состоит из предметов и явлений, рассмотренных в экстрасоматическом контексте. Это совершенно разные вещи. Каждый элемент культуры имеет два аспекта: субъективный и объективный. На первый взгляд может показаться, что топоры «объективны», а идеи и отношения «субъективны». Но это будет лишь поверхностный, искусственный взгляд. Топор включает в себя субъективный компонент: этот предмет лишен смысла без определенной идеи и отношения. С другой стороны, идея или отношение тоже были бы бессмысленны без внешнего выражения в поведении или речи (которая есть форма поведения). Так что каждый элемент, каждая черта культуры имеют субъективный и объективный аспекты. Но идеи, отношения и эмоции — феномены, располагающиеся в организме человека, — могут быть интерпретированы в экстрасоматическом контексте, т.е. во взаимосвязи с другими символическими предметами и явлениями, а не с организмом человека. Мы можем рассмотреть внешний аспект табу на отношения с тещей, т.е. взаимосвязь вовлеченных в этот запрет идей и отношений не с организмом человека, а с другими символатами, такими, как формы семьи и брака, место проживания супругов и т.д. Но мы также можем рассмотреть топор во взаимосвязи с организмом человека: т.е. представление человека о топоре, его отношение к этому предмету, а не к другим символическим предметам и явлениям, таким, как стрелы, мотыги, законы, регулирующие разделение труда в коллективе, и т.д. А теперь мы рассмотрим ряд культурологических концепций, которые получили наиболее широкое распространение в этнологической литературе,, и прокомментируем их с учетом позиции, представленной в настоящей статье. Некоторые антропологи предпочитают определять культуру только через идеи и концепции. Они руководствуются при этом, по всей вероятности, тем соображением, что идеи первичны, являются первопричиной, что они формируют поведение, которое, в свою очередь, и создает материальные объекты, такие, как, например, керамические сосуды. «Культура состоит из идей, — пишет Тейлор, — это ментальный феномен, а не материальные объекты или внешнее поведение... Например, в сознании индейца имеется представление о танце. Это и есть культурная черта. Эта идея заставляет его тело вести себя соответствующим образом», т.е. танцевать (TaylorW.W. 1948:98 - 110, passim). Такое представление о социокультурной реальности наивно. Оно основано на примитивной, донаучной и уже преодоленной метафизике и психологии. Это напоминает концепцию Женщины-Мысли у индейцев пуэбло (кересан), которая якобы вызывает различные события, предварительно подумав о них. Мысль бога Пта, считалось, создала всю культуру Древнего Египта. И Бог сказал: «Да будет свет», — и появился свет. Но мы уже не можем объяснять происхождение и развитие культуры, просто сказав, что она возникла из мысли человека. Безусловно, мысль была причастна к изобретению огнестрельного оружия, но если мы констатируем, что огнестрельное оружие есть продукт человеческой мысли, этого будет явно не достаточно. Почему вдруг возникла такая мысль, когда, где и при каких условиях она воплотилась в жизнь? И, кроме того, идеи — те идеи, которые могут привести к реальному результату, — рождаются из столкновения с реальной жизнью. Работа с почвой навела древнего человека на мысль о гончарном ремесле; календарь является побочным продуктом интенсивного земледелия. Культура лишь отчасти содержится в идеях; но отношения, внешние действия и материальные предметы есть тоже культура. Культура состоит из абстракций Вернемся снова к достаточно широко распространенному определению: «культура есть абстракция», или «культура состоит из абстракции». Как мы уже отмечали выше, те, кто подобным образом определяют культуру, не поясняют, что именно они называют «абстракцией», и есть основание подозревать, что они сами это не очень хорошо понимают. Вместе с тем достаточно очевидно, что они не считают абстракцией зримый предмет или явление. И возникший недавно вопрос о «реальности» абстракций указывает на то, что употребляющие этот термин не уверены в его значении. Однако у нас на сей счет имеются некоторые соображения. Культура «в основе своей есть форма, или модель, или образ», — пишут Крёбер и Клакхон, — «даже культурная черта есть абстракция. Черта — это «идеальный тип», поскольку двух полностью идентичных глиняных горшков или двух полностью совпадающих брачных церемоний не существует» (Kroeber A.L., Kluckhohn С. 1952:155,169). Культурная черта «глиняный горшок», таким образом, есть идеальная форма, воплощением которой является каждый реально существующий глиняный горшок; некая платоническая идея, идеал. Каждый глиняный горшок, утверждают далее Крёбер и Клакхон, реален, но полностью «идеал» не может быть воплощен ни в одном реальном горшке. Некий «средний американец»: рост 5 футов 8 1/2 дюймов, вес 164, 378 фунтов, женат, имеет 2, 3 детей и т.д. Вот что, по нашему мнению, они считают абстракцией. В таком случае, как мы уже знаем, это есть концепция в сознании наблюдателя, ученого. Можно взглянуть на абстракцию и несколько иначе. Двух полностью совпадающих брачных церемоний не существует. Давайте проанализируем небольшую выборку брачных церемоний. Мы обнаружим, что 100% содержат элемент А (взаимное желание вступить в брак), 99% содержат элемент Б. Элементы В, Г, Д присутствуют соответственно в 96, 94 и в 89% случаев. Можно построить кривую и обозначить на ней средний разброс различных данных. Это и будет типичная брачная церемония. Но, так же как и в предыдущем случае с типичным американцем, у которого 2, 3 детей, «идеалу» не суждено воплотиться в жизнь. Это будет «абстракция», т.е. по сути концепция, разработанная ученым-наблюдателем и существующая лишь в его сознании. Невозможность увидеть в абстракциях концепции приводила к частому смешению этих понятий, особенно когда речь шла об их местоположении и их «реальности». Признание же факта, что так называемые научные абстракции (подобные «твердому телу» в теоретической физике... твердых тел в реальности не существует) и есть концепции (понятия) в сознании ученых, помогает прояснить оба этих вопроса: культурные «абстракции» — это концепции («идеи») в сознании антропологов. Что же касается их «онтологической реальности», то, обитая в умах ученых, концепции не становятся менее реальными — ведь более реальной вещи, чем, например, галлюцинация, не существует. Это очень удачно подметил Бидни в своей рецензии на «Культуру» Крёбера и Клакхона: «Суть проблемы заключается в том, что есть абстракция и каково ее онтологическое значение. Некоторые антропологи настаивают на том, что они имеют дело лишь с логическими абстракциями и что культура не имеет помимо абстракции иной реальности, но трудно предположить, что другие ученые, представляющие общественные науки, могут с ними согласиться в том, что объект их исследования не имеет онтологической, объективной реальности. Таким образом, Крёбер и Клакхон смешивают понятие культуры, которое есть логическая конструкция, с реально существующей культурой...» (выделено Л.А.Уайтом) (Bidney D. 1954:488 - 489). В этой связи любопытно заметить, что один теоретик антропологии, Корнелиус Осгуд, определил культуру как составляющую идей в сознании антропологов: «Культура состоит из идей о производстве, о поведении, о сущности человека — идей, которые возникли, были переданы и осознаны субъектом» (Osgood С. 1951:208). Спиро также настаивает на том, что «культура — это логическая конструкция, абстракция человеческого поведения, и в качестве таковой она существует лишь в сознании исследователя» (выделено М.Э.Спиро — Spiro M.E. 1951:24). Те, кто определяет культуру как идеи, абстракции или как поведение, с логической неизбежностью вынуждены признать, что материальные предметы культурой не являются и являться не могут. «Строго говоря, — утверждает Гёбель, — «материальная культура» — это вовсе не культура» (Hoebel Е.А. 1956:176). Еще дальше идет Тейлор: «Понятие «материальной культуры» ошибочно», поскольку «культура — это чисто ментальный феномен» (TaylorW.W. 1948:102, 98). Билз и Хойджер: «Культура — это абстракция поведения и ее не следует путать с реальными актами поведения или с материальными объектами, такими как орудия труда...» (Beals R.L., Hoijer H. 1953:210). Отрицание материальной культуры выглядит нелепо с точки зрения традиций этнографов, археологов, работников музеев старых инструментов, масок, фетишей и другой «материальной культуры»12.
Наше определение уводит от этой дилеммы. Как мы уже показали, нелепо говорить о сандалиях или о глиняных горшках как о поведении: их значение сводится не к оленьей шкуре или глине, а к человеческому труду; это овеществленный труд человека. Но в нашем определении символизирование является общим фактором идей, отношений, действий и предметов. Существует три рода символатов: 1) идеи и отношения, 2) внешние действия и 3) материальные объекты. Всех их можно рассмотреть в экстрасоматическом контексте; все они могут считаться культурой. И это отбрасывает нас назад, к тому, что давно уже признано в культурной антропологии: «Культура есть то, о чем пишут в этнографических книгах». Реификация культуры Существует еще одна своего рода концепция культуры, которую критики часто называют концепцией реификации — «овеществления». И поскольку меня тоже нередко обвиняют в «реификации»13, то должен сказать, что этот термин неудачен. Реифицировать — значит сделать вещью нечто, что таковой не является, например, надежду, честность, свободу. Но ведь не я же сделал определенные предметы культурой. Я лишь выделил предметы и явления в окружающем мире в класс, существование которого зависит от символизирования и который можно рассмотреть в экстрасоматическом контексте, и назвал этот класс предметов и явлений культурой. То же самое сделал Э.Б.Тайлор. То же самое сделали Лоуи, Уисслер и другие ранние американские антропологи. Для Дюркгейма «посылка, позволяющая относиться к социальным фактам, т.е. элементам культуры, как к предметам, лежит в самой основе нашего метода» (Durkheim E. 1938:XLIII). He мы реифицировали культуру: элементы, составляющие, согласно нашему определению, культуру, были вещами изначально.
Конечно, если определять культуру как совокупность неуловимых, непознаваемых, онтологически нереальных абстракций, то воплощение этих признаков в реальные, материальные тела и в самом деле будет выглядеть как реификация. Но мы под таким определением не подписывались. Культура: процесс sui generis «Культура есть вещь sui generis...», — сказал Лоуи много лет тому назад (Lowie R.H. 1917:66, 17). Эту точку зрения разделяли Крёбер, Дюркгейм и др. (см. подробнее: White L.A. 1949:89-94). Данное положение многими было неверно понято и принято в штыки. Но Лоуи в том же абзаце подробно разъяснил, что именно он имел в виду: «Культура есть вещь sui generis и может быть объяснена только в своих собственных терминах...». Этнологу следует изучать каждый новый факт культуры, включая его в группу аналогичных фактов или отталкиваясь от других фактов культуры, которые обусловили появление данного факта» (Lowie R.H. 1917:66). Например, обычай считать родство патрилинейно можно интерпретировать, сравнивая его с традицией полового разделения труда, с обычаями проживания супругов — патрилокально, матрилокально или неолокально, со способами добычи пропитания и т.д. То же самое можно выразить в терминах предложенного нами определения культуры — «символат в экстрасоматическом контексте (т.е. культурная черта) следует интерпретировать во взаимосвязи с другими символатами в том же контексте». Эта концепция культуры, так же как и связанная с ней концепция «реификации», была понята неверно. Ее часто называли «мистической». Как может культура возникнуть и развиваться самостоятельно? («Культура... развивается сама из себя» (Redfield R. 1941:134). «Не вижу необходимости, — писал Боас, — считать культуру мистической субстанцией, которая существует вне общества и развивается по своим собственным законам» (Boas F. 1928:235). Бидни заклеймил этот взгляд на культуру словами: «Мистическая метафизика судьбы» (Bidney D. 1946:535). Критиковали эту точку зрения Бенедикт (Benedict R. 1934:231), Хутон (Hooton E. A. 1939:370), Спиро (Spiro M.E. 1951:23) и др. Однако никто ведь не утверждал, что культура представляет собой некое единство, которое существует и развивается самостоятельно и совершенно независимо от людей. И насколько нам известно, никто не утверждал, что можно понять происхождение, природу и функции культуры, не принимая во внимание род человеческий. Совершенно очевидно, что, изучая эти аспекты культуры, необходимо учитывать биологические особенности человека. Общепризнанно было лишь то, что каждую данную культуру, культурные вариации во времени и пространстве и все процессы культурных изменений следует объяснять в терминах самой культуры. Именно это имел в виду Лоуи, когда говорил, что «культура есть вещь (удачнее было бы сказать «процесс») sui generis». Представления о человеческом организме при интерпретации процесса культурных изменений излишни. «Это не мистицизм, — добавляет Лоуи, — а общепризнанный научный метод» (Lowie R.H. 1917:66). Всем известно, что ученые используют такой принцип интерпретации многие десятилетия. Совершенно излишни представления об организме человека и при научном объяснении изменений денежного курса, письменности, готического искусства. Паровой двигатель и текстильные станки появились в Японии в последние десятилетия XIX в. и повлекли за собой определенные общественные изменения; рассуждения об организме человека ничего не добавят в изучении этого процесса. Конечно, живые люди принимали в нем участие. Они играли активную роль во всех имевших место событиях, но они не имеют никакого отношения к объяснению происшедшего. Все делают люди, а не культура «Культура «не работает», не «движется», не «изменяется», но все это делают с ней люди», — сказал Линд (Lynd R.S. 1939:39). Это утверждение он подкрепил смелым соображением о том, что «не культура, а люди красят ногти». Можно было бы продолжить, сообщив, что у культуры ногти вообще отсутствуют. Точка зрения «все делают люди, а не культура» широко распространена среди антропологов. Боас писал, что «силы, несущие перемены, заключены в людях, которые объединяются в социальные группы, а не в абстрактной культуре» (Boas F. 1928:236). Халлоуэл заметил, что «культуры в буквальном смысле никогда не встречались и никогда не встретятся. Имеется в виду, что встречаются люди, и в результате процесса социального взаимодействия, аккультурации могут происходить изменения в образе жизни одного или обоих народов. Динамическим центром процесса взаимодействия являются индивиды» (HallowellA.I. 1945:175). Мнение, согласно которому взаимодействуют культуры, высмеивает и Радклиф-Браун: «Несколько лет тому назад, в результате поворота культурной антропологии от изучения общества к изучению культуры, нам было предложено вообще отказаться от подобного рода исследований и обратиться к исследованию так называемых «культурных контактов». Вместо того чтобы изучать общество во всей его сложности, нам предлагалось исследовать, что происходит в Африке по мере того, как некое единство, которое называется африканской культурой, вступает во взаимодействие с единством, которое называется европейской или западной культурой, и как следствие этого возникает некое третье единство... которое нужно описывать как вестернизированную африканскую культуру. Мне все это представляется фантастической реификацией абстракций. Европейская культура есть абстракция, абстракцией же является и культура африканского племени. И мне кажется фантастикой, что эти две абстракции вступают во взаимодействие и в результате появляется третья абстракция» (Radcliffe- Brown A.R. 1940:10-11). Мы бы назвали данную точку зрения, согласно которой все делают люди, а не культура, ловушкой псевдореализма. Конечно, культуры не способны существовать и никогда не существуют независимо от людей14. Но, как мы уже отмечали, культурные процессы можно объяснить, не принимая во внимание живых людей; представление о человеке как о живом организме не имеет ни малейшего отношения к решению многих проблем культуры. Вот пример проблемы, к решению которой рассуждения о живых людях не имеют никакого отношения: додумались ли в доколумбовом Перу до мумификации мертвых сами или это влияние Древнего Египта. Конечно, и самостоятельное изобретение мумификации, и проникновение этого обычая из Египта в Анды не могли произойти без участия людей во плоти. Так же и Эйнштейн не смог бы додуматься до теории относительности, не дыша. Но нам вовсе незачем думать о его дыхании, когда мы изучаем историю возникновения или развития этой теории.
Те, кто без конца повторяет, что все делают люди, а не культуры, путают описание с объяснением. Сидя на галерее в Сенате, можно увидеть, как люди пишут законы; на судостроительной верфи люди строят суда; в лаборатории люди синтезируют энзимы; в полях сеют зерно и т.д. Так вот описание подобных процессов в том виде, в каком их можно наблюдать, для этих исследователей и есть объяснение: люди сами пишут законы, сеют зерно, синтезируют энзимы. Это простая и наивная форма антропоцентризма. Однако научное объяснение — дело гораздо более сложное. Если кто-то говорит по-китайски, избегает тещи, не пьет молока, селится в доме своей жены, помещает тела мертвых на подмостки, пишет симфонии или синтезирует энзимы, — он делает это потому, что рожден или вырос в определенной экстрасоматической традиции, которую мы называем культурой и которая содержит все эти элементы. Поведение людей — функция культуры. Культура — константа, поведение — переменная; если изменится культура, изменится и поведение. Все это довольно известные вещи, о которых рассказывают в течение первых недель вводного курса по атропологии. Конечно, люди сами лечат болезни молитвами и заговорами или вакцинами и антибиотиками. Но нельзя ответить на вопрос: «Почему одни заговаривают болезнь, а другие используют вакцину?» — просто объяснив, что одни поступают так, а другие этак. Ведь требуется ответить на вопрос, почему люди делают то, что они делают. И для научного объяснения этого сами люди не представляют собой такой уж и важности. Что же касается вопроса: «Почему в одной экстрасоматической традиции используются заговоры, а в другой — вакцины?», то при ответе на него живые, конкретные люди не принимаются во внимание. Ответить на него способна лишь культурология: культуру, как заметил Лоуи, можно объяснить только в терминах самой культуры. Культуру «в реальной жизни нельзя отделить от единства идей и чувств, которые создают индивида», т.е. культуру нельзя отделить от индивида, утверждает Сепир (Sapir E. 1932:233).Конечно, он прав; в реальной жизни культура неотъемлема от человека. Но если в реальной жизни культуру нельзя отделить от человека, это можно сделать в логическом (научном.) анализе, и мало кому удалось это лучше, чем самому Эдварду Сепиру: в его монографии «Южный пайуте, шошонский язык» («Southern Paiute, a Shoshonean Language», 1930) нет ни одного индейца — ни одного нерва, мускула или органа чувств. Не странствуют люди и по его книге «Перспектива времени в культуре аборигенов Америки» («Time Perspective in Aboriginal American Culture», 1916). «Наука неизбежно абстрагируется от одних элементов и пренебрегает другими, — говорил Моррис Коэн, — поскольку далеко не все существующие вещи имеют отношение друг к. другу» (выделено Уайтом) (Cohen M. 1931:226). Признание и осмысление этого факта стало бы значительным шагом вперед в этнологической теории. «В реальной жизни гражданство нельзя отделить от цвета глаз», поскольку каждый гражданин имеет глаза, а глаза обладают цветом. Однако цвет глаз, по крайней мере в Соединенных Штатах, не имеет никакого отношения к гражданству: «Далеко не все существующие вещи имеют отношение друг к другу». Так что совершенно верно говорят Халлоуэл, Радклиф-Браун и другие, что «встречаются и взаимодействуют люди». Но это вовсе не должно удерживать нас от того, чтобы при решении определенных проблем принимать во внимание символаты в экстрасоматическом контексте: орудия труда, утварь, обычаи, верования, отношения — одним словом, культуру. Встреча европейской культуры с африканской и возникновение вследствие этого евро-африканской культуры может показаться РадклифуБрауну и другим «фантастической реификацией абстракции». Однако в течение многих десятилетий антропологи занимались подобными проблемами и будут продолжать ими заниматься в дальнейшем. Взаимодействие обычаев, технологий, идеологий — столь же значимая научная проблема, сколь и взаимодействие человеческих организмов или генов. Мы не говорили и не хотим сказать, что антропологам в целом не удалось представить культуру как процесс sui generis, т.е. не принимая во внимание живых людей; многие, если не большинство, именно этим всегда и нанимались. Но в области теории некоторые из них не признают научной ценности такого рода объяснений. Сам Радклиф-Браун дает нам образец чисто культурологической постановки проблем и чисто культурологического их решения в работах «Социальная организация австралийских племен» и «Брат матери в Южной Африке» (Radcliffe- Brown A.R. 1930-31, 1924) и др. Но как только он облачается в одежды философа, то тут же начинает отрицать научную ценность этой процедуры15.
Тем не менее, многие антропологи признали и на теоретическом уровне, что можно изучать культуру, не принимая во внимание живых людей, что представление о человеке во плоти не имеет никакого отношения к решению проблем, связанных с экстрасоматическими традициями. Мы уже ссылались на некоторых из них — на Тайлора, Дюркгейма, Крёбера, Лоуи16. Однако считаем уместным сделать еще несколько отсылок. «Наилучшие возможности для лапидарного описания и объяснения культурных феноменов, — пишут Крёбер и Клакхон, — дает изучение культурных форм и процессов как таковых при максимальном отстранении от индивидов и личностей» (Kroeber A.L., Kluckhohn С. 1952:167). Стюард замечает, что «определенные аспекты современной культуры лучше всего изучать, абстрагируясь от индивидуального поведения. Структура и функции денежных систем, банковского и кредитного дела, например, представляют собой супраиндивидуальные аспекты культуры». И далее: «Формы политического правления, правовая система, религиозная организация, система образования» и т.д. «имеют определенные аспекты, в целом — национальные, которые можно объяснить, отстранившись от поведения живых людей» (Steward J. H. 1955:46, 47).
Здесь нет ничего нового; именно этим и занимались антропологи и другие исследователи в области общественных наук в течение многих лет. Однако признать этот неоднократно использовавшийся на практике принцип в теоретическом плане для многих оказалось непреодолимым препятствием. Сколько человек «делают» культуру В этнологической теории довольно широко распространена концепция, согласно которой принадлежность некоего феномена к культуре определяется тем, сколько человек являются его носителями: один, два или «несколько». Так, Линтон пишет о том, что «любой элемент поведения... который свойствен лишь одному человеку, не может считаться принадлежащим культуре общества... Нельзя, например, считать частью культуры новую технику плетения корзин, пока она известна лишь одному человеку» (Linton R. 1945:35). Эту точку фения разделяют Уисслер (Wissler С. 1929:358), Осгуд (Osgood С. 1951:207 - 208), Малиновский (Malinowski В. 1941:73), Дюркгейм (Durkheim E. 1938:LVI). Против такого представления о культуре можно выдвинуть два аргумента. 1. Если критерием, отделяющим культуру от некультуры, служит множественность выражения изучаемого поведения, тогда можно утверждать, что шимпанзе, описанные Вольфгангом Кёлером в «Ментальности обезьян» (Kohler W. The mentality of apes», 1926), обладают культурой, потому что в стае обезьян всякое новшество, используемое одним из ее членов, передается другим очень быстро. Подобным же свойством перенимать друг у друга новое обладают и некоторые другие виды животных. Второй аргумент таков: если персонификация в одном человеке недостаточна, чтобы какое-то действие было признано элементом культуры, то сколько людей требуется? Линтон считает, что, «как только новшество будет воспринято хоть одним членом общества, его можно считать принадлежащим культуре» (Linton R. 1936:274), Осгуд настаивает на необходимости «двух или более человек» (Osgood С. 1951:208), Дюркгейм — «по крайней мере, нескольких» (Durkheim E. 1938:LVI), Уисслер утверждает, что отдельный предмет или акт не поднимется до уровня культуры до тех пор, пока его не воспримет группа индивидов (Wissler С. 1929:358), Малиновский же полагает, что «факт становится фактом культуры тогда, когда индивидуальный интерес перерастает в систему организованных действий, принятых в том или ином обществе» (Malinowski В. 1941:73). Очевидно, однако, что такое представление не соответствует научным критериям. Как можно определить, когда «индивидуальный интерес перерастает в систему организованных действий, принятых в том или ином обществе»? Представим себе орнитолога, который вдруг стал бы говорить о том, что единичная особь какого-либо вида птиц не может называться почтовым голубем или журавлем, что голубями и журавлями является лишь определенное количество особей. Или физик сказал бы, что один атом элемента не может быть медью, что медью назвать можно только «множество атомов». Необходимо определение, согласно которому предмет «х» принадлежит или не принадлежит классу «у» независимо от количества предметов «х» (логически рассуждая, класс может состоять лишь из одного компонента или даже не иметь их вообще). Наше определение отвечает научным критериям: предмет — представление или верование, действие или вещь — считается элементом культуры, во-первых, если он символизирован, и, во-вторых, когда он рассматривается в экстрасоматическом контексте. Безусловно, все элементы культуры существуют в социальном контексте, но то же самое можно сказать и о таких действиях, как ухаживание, совокупление, кормление фудью, которые отнюдь не являются специфически человеческими (т.е. связанными с символизированием). Ведь чисто человеческий, или культурный, феномен отличается от нечеловеческого вовсе не социальностью, дуальностью или множественностью и пр. Главная отличительная черта — символизация. Способность быть рассмотренным в экстрасоматическом контексте совершенно не зависит от числа предметов или явлений: один, два, «несколько». Предмет, или явление, может считаться элементом культуры даже в том случае, если он является единственным представителем своего класса, точно так же, как один атом меди может считаться атомом меди, даже если он — единственный во всем космосе. И конечно, нам давно уже следовало указать на то, что представление, будто какое-то действие или идея могут быть продуктом деятельности лишь одного члена человеческого общества, — иллюзорно; это еще одна ловушка антропоцентризма. Каждый член общества подвержен социокультурной стимуляции со стороны других членов своей группы. Все специфически человеческие действия и помыслы, а также многие из тех, что свойственны и человеку, и животным, являются функцией социальной группы в той же мере, в какой и человеческого организма. Любое действие, даже если его лишь единожды совершил только один человек, по сути своей есть действие групповое17.
Культура как совокупность «характерных» черт «Культуру, — пишет Боас, — можно определить как совокупность ментальных и физических реакций и действий, которые характеризуют поведение индивидов, составляющих социальную группу» (выделено Уайтом) (Boas F. 1938:159). Херсковиц сообщает нам, что «при детальном анализе культуры можно увидеть лишь серии смоделированных реакций, характеризующих поведение индивидов, которые составляют данную группу» (Herskovits M.J. 1948:28). (Не совсем понятно, какое отношение имеет «детальный анализ» к данной концепции.) Нечто похожее встречаем и у Сепира: «Совокупность типических реакций, которые называют культурой...» (Sapir E. 1917:442). Аналогичных взглядов придерживаются и многие другие. Против подобного представления о культуре можно выдвинуть два аргумента. Первый: как отличить черты, которые характеризуют группу, от тех, которые ее не характеризуют, т.е. где провести границу между культурой и не-культурой? И второй аргумент: если черты, характеризующие данную группу, назвать культурой, то как следует назвать черты, ее не характеризующие? Скорее всего, антропологи, которые придерживаются подобной точки-зрения, имеют в виду какую-то конкретную культуру или культуры, а не культуру как особый феномен. Действительно, «французская культура» отличается от «английской культуры» какими-то характерными чертами. Но если француз и англичанин действительно отличаются друг от друга разностью некоторых черт, то наличием ряда сходных черт они друг на друга походят. Причем, сходные черты являются частью их «образа жизни» в такой же степени, в какой и различные. Почему же лишь последние следует называть культурой? Подобные затруднения и неопределенности устраняются нашим определением культуры: культурой являются все черты образа жизни каждого народа, которые зависят от способности к символизации и могут быть рассмотрены в экстрасоматическом контексте. Если требуется отличить англичанина от француза на основе сопоставления их культур, то это легко сделать, выделив «черты, которые характеризуют» определенный народ. Однако нельзя утверждать, что «нехарактерные» черты культурой не являются. В этой связи уместно вспомнить, как некогда Сепир провел различие между поведением человека и «культурой»: «В реальной жизни думает, действует, мечтает и протестует всегда индивид. Те его мысли, действия, мечты и протесты, которые каким-то образом влияют на изменение или сохранение совокупности типических реакций, считающихся культурой, мы называем социально значимыми; остальные же, хотя с психологической точки зрения они ничем не отличаются от предыдущих, мы называем индивидуальными и не придаем им никакого исторического и социального значения (т.е. они — не культура). Важно отметить, что дифференциация этих двух типов реакций весьма произвольна и зиждется фактически целиком на селективном принципе. А селекция зависит от принятой шкалы ценностей. Излишне упоминать, что граница между социальным (историческим) (т.е. культурным) и индивидуальным смещается в зависимости от воззрений исследователя. Мне представляется совершенно невозможным провести раз и навсегда четкую грань между ними» (выделено Л.А.Уайтом) (Sapir E. 1917:442). Сепир воспринимает общество как множество или, скорее, совокупность личностей. По нашему мнению, он предпочел бы это словосочетание термину «общество», поскольку говорит о «теоретическом [фиктивном] сообществе людей», добавляя при этом, что «сам термин «общество» является культурной конструкцией» (Sapir E. 1932:236). Люди мечтают, думают, действуют, протестуют — все это делают именно индивиды, а не общество и не культура. Сепир видит только отдельных индивидов и их поведение, больше ничего. Культура, утверждает он, — это некоторая часть того, что является поведением индивида. Иные же элементы его поведения — «не-культура», несмотря на то что, по собственному признанию ученого, с психологической точки зрения они не отличаются от элементов, являющихся культурой. Граница между «культурой» и «не-культурой» произвольна и зависит от оценки исследователя. Трудно представить себе более неудачное определение. Фактически утверждается следующее: «Культурой мы называем некоторую часть поведения некоторых индивидов, выбор делается произвольно в соответствии с субъективными критериями». В уже цитированной нами статье «Нужно ли нам суперорганическое» («Do We Need a Superorganic?», 1917) Сепир полемизирует с культурологической точкой зрения, изложенной Крёбером в статье «Суперорганическое» («The Superorganic?», 1917). В аргументации Сепира культура действительно исчезает; она растворяется во множестве индивидуальных реакций. Культура становится, как он сам говорит в другом месте, «статической фикцией» (Sapir E. 1932:237). А если отсутствует объективная реальность, которую можно назвать культурой, то, следовательно, невозможна и наука о культуре. Аргументация Сепира искусна и убедительна. Но она несостоятельна, мнима. Его аргументация убедительна, поскольку он подкрепляет ее яркими аутентичными фактами. А ее несостоятельность, мнимость — в том, что в результате граница между культурой и поведением оказывается сугубо произвольной. Совершенно верно, что элементы, составляющие поведение человека, и элементы, составляющие культуру, принадлежат к одному классу предметов и явлений. Это символаты — они связаны с уникальной способностью человека создавать и воспроизводить символы. Верно также и то, что «с психологической точки зрения» эти элементы схожи. Но Сепир упускает из виду (а его аргументация еще более скрывает от внимания читателей), что данные «мысли, действия, мечты и протесты» могут быть рассмотрены и интерпретированы в двух совершенно различных контекстах: соматическом и экстрасоматическом. В соматическом контексте, т.е. во взаимосвязи с организмом человека, эти символические действия являются человеческим поведением. В экстрасоматическом же контексте, т.е. во взаимосвязи друг с другом, они составляют культуру. Поэтому, вместо того чтобы, все тщательно взвесив, отнести некоторую их часть к культуре, а остальные — к поведению, мы все эти действия, помыслы и прочее помещаем либо в один, либо в другой контекст, в зависимости от цели нашего исследования. Выводы Среди множества классов предметов и явлений, рассматриваемых современной наукой, есть один, для которого нет названия. Это класс феноменов, связанных с присущей исключительно человеку способностью придавать символическое значение мыслям, действиям и предметам и воспринимать символы. Мы предложили назвать предметы и явления, связанные с символизированием, символатами. Дать название этому классу феноменов совершенно необходимо, чтобы стало возможным выделить его среди других классов предметов и явлений. К этому классу относятся идеи, верования, отношения, чувства, действия, модели поведения, обычаи, законы, институты, произведения и формы искусства, язык, инструменты, орудия труда, механизмы, утварь, орнаменты, фетиши, заговоры и т.д. Так повелось, что эти предметы и явления, связанные со способностью человека к символизированию, ученые рассматривали в двух различных контекстах, которые можно обозначить как соматический и экстрасоматический. В первом случае для исследователя важна взаимосвязь между этими предметами и явлениями и организмом человека. Рассмотренные в соматическом контексте предметы и явления, связанные с символической способностью человека, называются поведением человека; точнее, поведением являются идеи, отношения, действия; топоры и керамика непосредственно не могут быть названы поведением, но они созданы трудом человека, т.е. они являются овеществленным поведением человека. В экстрасоматическом контексте взаимосвязь этих предметов и явлений друг с другом важнее, чем их взаимосвязь с организмом человека. И в данном случае названием им будет культура. Преимущество нашего подхода состоит в следующем. Различие может быть проведено четко и по существу. Культура четко отграничивается от поведения человека. Она определяется таким же образом, что и объекты исследования других наук, т.е. в терминах реальных предметов и явлений, существующих в объективном мире. Наш подход выводит антропологию из окружения неосязаемых, непознаваемых эфемерных «абстракций», не имеющих онтологической реальности. Предложенное определение уводит нас также от проблем, перед которыми мы неизбежно оказываемся, вставая на другую точку зрения. Мы не думаем больше о том, состоит ли культура из идей и где располагаются эти идеи — в сознании наблюдаемых людей или в сознании антропологов; могут ли быть культурой материальные предметы; может ли быть культурой черта, присущая одному, двум или нескольким индивидам; должны ли считаться культурой лишь характерные черты; является ли культура овеществлением и может ли культура красить ногти. Между поведением и культурой, психологией и культурологией мы проводим точно такое же различие, какое существует между речью и языком, психологией речи и лингвистикой. Раз оно оказывается продуктивным в одном случае, то может быть продуктивно и в другом. Ну и наконец, наш подход и наше определение находятся в соответствии с многолетней антропологической традицией. Обращение к тексту «Первобытной культуры» показывает, что Тайлору был свойствен тот же самый подход. И практически его использовали почти все антропологи небиологического направления. Что они изучали во время полевых исследований и что описывали в своих монографиях? Реально существующие предметы и явления, подвергающиеся символизированию. Вряд ли кто-нибудь возьмется утверждать, что изучал неосязаемые, непознаваемые, неуловимые, онтологически несуществующие абстракции. Конечно, и полевой исследователь может интересоваться предметами и явлениями в соматическом контексте; в этом случае он будет изучать психологию (точно так же, как если бы он заинтересовался словами в соматическом контексте). Антропология включает в себя целый спектр исследований: анатомических, физиологических, генетических, психоаналитических и культурологических. Но это вовсе не означает, что психология ничем принципиально не отличается от культурологии. Отличается, и весьма существенно. Основные тезисы нашей статьи не новы. Это вовсе не разрыв с антропологической традицией. Наоборот, по существу — это возврат к традиции, к традиции, основанной Тайлором и продолженной многими и многими антропологами. Мы лишь дали ей точное вербальное определение. Библиография***
Beals, Ralph L and Harry Ноцег 1953 An introduction to anthropology New York The Macmillan Co Benedict, Ruth 1934 Patterns of culture Boston and New York Houghton, Miffin Co Bidney, David 1946 The concept of cultural crisis//American Anthropologist 48 534-552, 1954 Review of «Culture, a critical review etc » by Kroeber and Kluckhohn// American Journal of Sociology 59 488-489 Boas, Franz 1928 Anthropology and modem life New York, WW Norton and Co , Inc , 1938 The mind of primitive man revised edition New York The Macmillan Co Cassirer, Ernst 1944 An essay of man New York Yale University Press Cohen, Morris R 1931, Fictions// Encyclopedia of the Social Sciences 7 225-228 New York The Macmillan Co Durkheim, Emile 1938 The rules of sociological method, George EG Catlin ed Chicago The University of Chicago Press , 1951 Suicide, a study on sociology, George Simpson ed Glencoe, 111 The Free Press Einstein, Albert 1934 The world as I see it New York Civici, Fnedc, 1936 Physics and reality// Journal of the Franklin Institute 221 313-347, in German, 349-382 in English Hallowell, A Irvmg 1945 Sociopsychological aspects of acculturation/ / The science of man in the world crisis, Ralph Linton ed New York Columbia University Press Hernck С Judson 1956 The evolution of human nature Austin University of Texas Press Herskovits Melvill J 1945 The processes of cultural change// The science of man in the world crisis, Ralph Linton ed New York Columbia University Press, 1948 Man and his works New York Alfred A Knopf Hoebel, E Adamson 1956 The nature of culture// Man, culture and society. Harry L Shapiro ed New York Oxford University Press Hooton, Earnest A 1939 Crime and the man Cambridge, Mass Harvard University Press Huxley, Julian S 1955 Evolution, cultural and biological//Yearbook of Anthropology, Wm L Thomas, Jr ed Keesing, Felix M 1958 Cultural anthropology New York Rmehart and Co, Inc Kluckhohn, Clyde and Wm H Kelly, 1945, The concept of culture// The science of man in the world crisis, Ralph Linton ed New York Columbia University Press Kroeber A L 1917 The superorgamc// American Anthropologist 19 163-213, reprinted in The nature of culture Chicago University of Chicago Press Kroeber A L , and Kluckhohn, Clyde 1952 Culture, a critical review of concepts and definitions Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Harvard University, 47 (I) 1-223 Cambridge, Mass Linton, Ralph 1936 The study of man New York D AppletonCentury Co, 1945, The cultural background of personality New York D Appleton-Century Lowie, Robert H 1917 Culture and ethnology New York Вот and Livenght Lynd, Robert S 1939 Knowledge for what^ Pnnceton, N J Prmceton University Press Malmowski, Bronislaw 1941 Man's culture and man's behavior// Sigma Xi Quarterly 29 170-196 Murdock, George P 1937 Editorial preface to Studies in the science of society, presented to Albert Galloway Killer New Haven, Conn , Yale University Press, 1951, British social anthropology// American Anthropologist 53 465-473 Osgood, Cornelius 1940 Ingalik material culture// Yale University Publications in Anthropology No 22,1951, Culture its empirical and nonempincal character// Southwestern Journal of Anthropology 7 202-214 Radcliffe-Brown A R 1924 The mother's brother in South Africa// South African Journal of Science 21 542-555 Reprinted in Structure and function in primitive society, 1930-31 The social organisation of Australian tribes// Oceania 1 34-63, 206-246, 322-341, 426-456, 1940 On social structure// Journal of the Royal Anthropologicdl Institute 70 1-12, reprinted in: Structure and function in primitive society. 1952. Structure and function in primitive society, Glencoe, 111.: The Free Press. Redfield, Robert. 1941. The folk culture of Yucatan. Chicago: The University of Chicago Press. Sapir, Edward. 1916. Time perspective in aboriginal American culture. Canada Department of Mines, Geological Survey Memoir 90. Ottawa; 1917. Do we need a superorganic?// American Anthropologist 19:441'447; 1930. Southern Paiute, a Shoshonean language// Proceedings of the American Academy of Art and Science 65:1-296; 1932. Cultural anthropology and psychiatry// Journal of Abnormal and Social Psychology 27:229-242. Spiro, Melford E.I 951. Culture and personality// Psychiatry 14:19-46. Steward, Julian H, 1955. Theory of cultural change. Urbana, 111.: University of Illinois Press. Strong, Wm. Duncan. 1953. Historical approach in anthropology// Anthropology today, A. L, Kroeber ed. Chicago: The University of Chicago Press, p. 386-397. Taylor, Walter W. 1948. A study of archeology. American Anthropological Association Memoir No.69. Tyior, Edward B. 1881. Anthropology. London; 1913. Primitive culture. 5th ed. London. White, Leslie A. 1949. The science of culture. New York: Farrar, Straus and Cudahy; paperbound, 1958, New York: The Grove Press; 1954, Review of Culture, a critical review, by Kroeber and Kluckhohn// American Anthropologist 56:461-468. Wissler, dark. 1929. Introduction to social anthropology. New York: Henry Holt and Co. Перевод Е.М. Лазаревой Джордж П. Мёрдок. Фундаментальные характеристикикультуры'
Кросс-культурное исследование зиждется на убеждении, что все человеческие культуры, несмотря на их разнообразие, имеют в основе своей много общего и что эти общие аспекты культуры поддаются научному анализу. Теоретические ориентиры кросс-культурного исследования можно выразить в семи основных положениях. Они не претендуют на новизну, ибо все они разделяются многими обществоведами, а многие из них — всеми. 1. Культура передается посредством научения. Культура не инстинктивна, не является чем-то врожденным и не передается биологически. Она состоит из привычек, т. е. таких способов реагирования, которые приобретаются каждым индивидом посредством научения от рождения и на протяжении всей его жизни. Это положение, конечно же, разделяется всеми антропологами, за исключением работающих в тоталитарных государствах. Однако оно имеет одно следствие, не всегда ясно осознаваемое. Если культура передается через научение, то она должна подчиняться тем законам научения, которые к настоящему времени были в мельчайших подробностях проработаны психологами. Принципы научения, насколько нам известно, в основе своей всегда одинаковы и применимы не только к человеческому роду, но в равной степени и к большинству видов млекопитающих. Поэтому мы вправе ожидать, что все культуры, будучи передаваемыми посредством научения, будут обнаруживать в себе некоторые черты единообразия, являющиеся отражением этого универсального общего фактора. 2. Культура прививается воспитанием. Все животные способны к научению, но, видимо, один лишь человек умеет в достаточно значительной мере передавать приобретенные привычки своему потомству. Мы можем приручить собаку, обучить ее разным трюкам и заронить в нее другие семена культуры, но она никогда не передаст их своим щенкам. Они воспримут только биологическое наследие своего вида, к которому в свой черед добавятся привычки, выработанные на основе опыта. Своей исключительностью в данном отношении человек обязан, видимо, фактору языка. Во всяком случае, многие привычки, которые люди приобретают путем научения, передаются от родителей к детям из поколения в поколение и, повторно прививаясь раз за разом, обретают такую устойчивость во времени, такую относительную независимость от индивидуальных носителей, что мы вправе определять их в совокупности как «культуру». Это положение тоже является общепринятым среди антропологов, но опять-таки имеет недостаточно оцененное следствие. Если культура прививается воспитанием, то все культуры должны нести на себе общий отпечаток процесса воспитания. Воспитание включает в себя не только передачу технических навыков и знаний, но также и дисциплинирование животных импульсов ребенка с целью приспособления его к социальной жизни. То, что в поведении проявляются некоторые регулярные свойства, которые отражают способы, при помощи которых эти импульсы связываются и перенаправляются в ранние годы жизни ребенка, определяющие его последующее личностное развитие, — это представляется очевидным исходя из данных психоанализа. В качестве примера можно привести внутрисемейные табу инцеста, которые, судя по всему, универсальны. 3. Культура социальна. Культурные привычки сохраняются во времени не только благодаря тому, что передаются в процессе воспитания. Они, кроме того, еще и социальны; иначе говоря, они разделяются людьми, живущими в организованных коллективах, или обществах, и сохраняют свое относительное единообразие под воздействием социальных факторов. Короче говоря, это групповые привычки. Привычки, общие для членов социальной группы, образуют культуру этой группы. Данное положение принимается многими антропологами, но не всеми. Лоуи, например, настаивает на том, что «конкретная культура неизменно представляет собою искусственную единицу исследования, выделяемую исходя из практической целесообразности... Для этнолога существует только одна — естественная единица исследования — культура всего человечества повсюду и во все времена...»1. Автор не считает возможным принять это утверждение. С его точки зрения, коллективные, или разделяемые, привычки конкретной социальной группы — независимо от того, идет ли речь о семье, деревне, классе или племени, — образуют не «искусственную единицу исследования», а естественную единицу, т. е. культуру или субкультуру. Отрицать это означает для него отречься от того существеннейшего вклада, который был внесен в антропологию социологией. Если культура социальна, то ее судьба зависит от судьбы общества, ее носителя, и все культуры, сохранившиеся до нынешнего времени и доступные для исследования, должны обнаруживать в себе некоторые черты сходства, поскольку все они должны были обеспечивать выживание сообщества. Среди таких культурных универсалий мы, вероятно, можем отметить чувство групповой сплоченности, механизмы социального контроля, организацию защиты от враждебного окружения и обеспечение воспроизводства населения.
4. Культура идеационна. Групповые привычки, составляющие культуру, в значительной степени концептуализированы (или вербализированы) как идеальные нормы, или паттерны поведения. Существуют, естественно, и исключения. Например, грамматические правила, хотя и являются выражением коллективных языковых привычек и таким образом относятся к области культуры, осознанно формулируются лишь в незначительной мере. Тем не менее каждому полевому антропологу известно, что большинство людей демонстрируют значительную степень осознания своих культурных норм, способны отделить их от чисто индивидуальных привычек, способны их концептуализировать и рассказать о них в мельчайших подробностях, в том числе и о тех обстоятельствах, в которых уместна каждая из рассматриваемых культурных норм и в которых следует ожидать санкций за их несоблюдение. Следовательно, в ограниченных рамках культуру полезно понимать как идеационное образование, а тот или иной ее элемент — как традиционно принятую и разделяемую членами группы или подгруппы идею2 о том, что тот или иной род поведения (внешнего, вербального или безотчетного) должен соответствовать определенному прецеденту. Эти идеальные нормы не следует путать с действительным поведением. В каждом отдельном случае поведение индивида является реакцией на текущее состояние его организма (внутренние побуждения) и восприятие той целостной ситуации, в которой он находится. При этом он естественным образом склонен следовать своим устоявшимся привычкам, в том числе и культурным, однако и его побуждения, и природа текущих обстоятельств могут подталкивать его к большим или меньшим отклонениям. Таким образом, поведение не следует автоматически за культурой, и последняя является лишь одним из определяющих его факторов Наряду с культурными нормами существуют, разумеется, нормы поведения, но их, в отличие от первых, можно определить только статистическими методами. У антропологов и социологов часто возникает путаница по этому поводу. Первые до недавних пор занимались преимущественно идеальными нормами, или паттернами, в то время как социологи, которые принадлежат к тому же обществу, что и исследуемые ими проблемы и читатели их работ, обычно говорят лишь о статистических нормах реального поведения, поскольку предполагают, что с культурой в целом они знакомы. Следовательно, типичное исследование сообщества, наподобие «Миддлтауна»3, и этнографическая монография, несмотря на то, что их часто сравнивают, фактически располагаются на разных полюсах. В той степени, в какой культура идеационна, мы можем утверждать, что во всех культурах должны обнаруживаться определенные сходства, проистекающие из универсальных законов, управляющих символическими мыслительными процессами. Например, в принципах магии во всем мире мы обнаруживаем определенные параллели.
5. Культура обеспечивает удовлетворение. Культура всегда и с необходимостью обеспечивает удовлетворение базисных биологических потребностей и вторичных потребностей, возникающих на их основе. Элементы культуры — это проверенные привычные способы удовлетворения человеком своих побуждений во взаимодействии с внешним природным миром и своими собратьями4. Это положение — неизбежный вывод из современной психологии «стимула и реакции». Культура состоит из привычек, а психология показывает, что привычки существуют лишь до тех пор, пока приносят удовлетворение. Удовлетворение подкрепляет привычки, упрочивает их и воспроизводит, в то время как отсутствие удовлетворения неизбежно приводит к их угасанию и исчезновению. Таким образом, элементы культуры могут продолжать существовать лишь при том условии, что они окружены для членов общества аурой удовлетворения, т. е. сопряжены с таким балансом удовольствия и страдания, в котором первое преобладает5. Малиновский многие годы отстаивал этот тезис, однако большинство антропологов либо отвергали это положение, либо принимали, но таким образом, что оказывали ему медвежью услугу. Они не усматривали никаких проблем в устойчивости культуры; она беспечно принималась как нечто само собой разумеющееся. Между тем, психологи разглядели здесь проблему и дали на нее определенный ответ. И проигнорировать его антропологи могут лишь на свой страх и риск Если культура приносит удовлетворение, то во всех культурах должны проявляться широко распространенные черты сходства, ибо базисные человеческие побуждения повсюду одинаковы и требуют сходных форм удовлетворения. Понятие «универсального культурного паттерна»*, представленное на обсуждение Уисслером6, видимо, основывается на этом положении.
6. Культура адаптивна. Культурные изменения и сам процесс изменения, очевидно, столь же адаптивны, как и эволюция в органическом мире7. Культура с течением времени приспосабливается к географической среде, что было убедительно показано антропогеографами; вместе с тем влияние среды уже не воспринимается как движущая сила культурного развития. Кроме того, культура адаптируется к социальной среде соседних народов посредством заимствований и реорганизации. И наконец, культура, вне всяких сомнений, имеет тенденцию приспосабливаться к биологическим и психологическим потребностям человеческого организма. По мере изменения условий жизни традиционные формы утрачивают ауру удовлетворения и исчезают; возникают и дают о себе знать новые потребности, а вслед за ними — приспособленные к ним новые культурные механизмы. Принятие положения об адаптивности культуры ни в коей мере не ведет ни к идее прогресса, ни к теории эволюционных стадий развития, ни к какому бы то ни было жесткому детерминизму вообще. Напротив, можно согласиться с Оплером8, который, основываясь на материале племени апачи, указывал, что приспособление к одним и тем же условиям может находить выражение в разных культурных формах, а похожие культурные формы могут быть приспособлением к разным условиям. Тем не менее остается вероятность того, что некоторые параллели, отмечаемые нами в разных культурах, представляют собой возникшие независимо друг от друга приспособления к сопоставимым условиям.
Концепция культурного изменения как адаптационного процесса кажется некоторым антропологам несовместимой или даже вступающей в прямое противоречие с концепцией культурного изменения как исторического процесса. С точки зрения автора данной статьи, нет ничего несовместимого и антагонистичного в этих двух позициях -— «функциональной» и «исторической», как их обычно называют. Напротив, он полагает, что обе они правильны и дополняют друг друга, так что лучшим было бы такое антропологическое исследование, в котором нашли бы совмещение оба подхода. История культуры представляет собой последовательность уникальных событии, в которой последующие события обусловливаются предшествующими. С точки зрения культуры те события, которые оказывают воздействие на последующий ход событий, часто — если не как правило — бывают случайными, ибо их истоки выходят за пределы культурного континуума. Это могут быть природные события (например, наводнения и засухи), биологические события (например, эпидемии и моры) или психологические события (например, эмоциональные вспышки и изобретательная интуиция). Такие изменения влекут за собой изменение условий жизни общества. Они создают новые потребности и делают старые культурные формы неудовлетворительными, стимулируя тем самым поведение «методом проб и ошибок» и подталкивая к культурным нововведениям. Однако самыми значительными событиями являются, вероятно, исторические контакты с народами иных культур, ибо люди склонны в первую очередь пытаться воспользоваться для решения своих жизненных проблем культурными ресурсами соседей, а уже только потом полагаться на свою собственную изобретательность. Таким образом, если поиск кросс-культурных обобщений претендует на успех, его первейшей необходимой предпосылкой должно стать безоговорочное признание историчности культуры, и в особенности роли диффузии в культурном развитии. Вместе с тем следует подчеркнуть, что исторические события, как и географический фактор, обусловливают, но не определяют ход развития культуры. Человек приспосабливается к ним и избирательно опирается на них для решения своих проблем и удовлетворения своих потребностей. 7. Культура интегративна. Будучи одним из продуктов процесса адаптации, элементы данной культуры имеют тенденцию образовывать согласованное и интегрированное целое. Выражение «имеют тенденцию» мы употребляем намеренно, ибо для нас неприемлема позиция некоторых крайних функционалистов, полагающих, что культуры и в самом деле являются интегрированными системами, отдельные части которых находятся в состоянии совершенного равновесия. Скорее, мы склоняемся к точке зрения Самнера9, согласно которой народные обычаи «тяготеют к согласованности друг с другом», но фактически интеграция никогда не достигается по той простой причине, что исторические события постоянно оказывают на нее свое разрушительное воздействие. Процесс интеграции занимает определенное время — всегда существует то, что Огборн10 называл «культурным лагом», — и задолго до завершения одного процесса начинаются многие другие. Например, в нашей культуре изменения, происшедшие в привычках, связанных с работой, отдыхом, сексом и религией, после внедрения автомобиля, еще не завершились до конца. Если культура интегративна, то соответствия или корреляции между сходными элементами должны постоянно повторяться в разных, не связанных друг с другом культурах. На множество таких корреляций указал, например, Лоуи11
Если семь фундаментальных положений, очерченных выше, или хотя бы часть из них верны, то из этого неизбежно должно следовать, что в целом человеческие культуры, несмотря на их историческое многообразие, будут обнаруживать в себе некоторые повторяющиеся черты, которые доступны для научного анализа и должны позволить нам сформулировать посредством такого анализа ряд научных обобщений. Формулировка и проверка такого рода обобщений — основная цель кросс-культурного исследования. Перевод В. Г. Николаева Дэвид Бидни. Концепция культуры и некоторые ошибки в ее изучении* 1
Одна из самых воодушевляющих примет современных общественных наук — возрастающее признание важности теоретического анализа. Стало общепризнанным, что обществоведу необходимо освободиться от «табу кабинетной работы» и слепого преклонения перед бесплодным экспериментализмом. Отделение теоретической работы от практического исследования, как оказалось, рождает либо пустую, бездоказательную спекуляцию, либо бессвязное нагромождение данных. Критическое отношение к текстам, в которых не уделяется достаточного внимания теоретическим проблемам, особенно явно проявляется в области культурной антропологии. Помимо голых фактов современный ученый хочет знать и то, каким образом эти факты можно установить и какой смысл они в себе несут2.
1. Развитие понятия культуры в современной этнологии Доминирующим понятием в современной общественной мысли является понятие культуры. Культурные антропологи и социологи в целом сходятся во мнении, что человек приобретает культуру как член общества и передает ее главным образом посредством языкового символизма. Вместе с тем имеются острые разногласия относительно определения культуры, ее границ и выполняемой ею функции. С философской точки зрения, наиболее примечательная особенность нынешних определений культуры заключается в том, что они заранее предполагают либо реалистический, либо идеалистический подход. Реалисты в целом склонны понимать культуру как атрибут человеческого социального поведения и обычно определяют ее через приобретенные привычки, обычаи и институты. Культура, в таком понимании, неотделима от жизни людей в обществе; она представляет собой способ общественной жизни и не существует вне тех реальных групп, атрибутом которых она является. Примеры реалистических определений культуры можно найти в работах Тайлора, Боаса, Малиновского и многих других авторов, находившихся под их влиянием3. Вместе с тем, среди ре?листов имеются различия, связанные с тем, определяют ли они культуру всецело в социальных терминах, без учета индивидуального, или же с учетом индивидуальных различий, которые признают важной особенностью любой конкретной культуры. Боас, Сепир, а совсем недавно и Линд обратили особое внимание на роль индивида в культурном процессе, однако в целом для прошлого характерна тенденция отождествлять культуру со «всеми стандартизированными социальными процедурами» и косвенным образом рассматривать индивида как инстанцию, на которую оказывают влияние привычки и обычаи группы.
Идеалисты же склонны понимать культуру скорее как совокупность идей, существующих в умах индивидов, как «поток идей», «общепринятые представления» и «передаваемый интеллект»4. Определение, данное Осгудом, — наиболее характерное для данного типа. С его точки зрения, «культура состоит из всех идей о производстве, поведении и представлениях коллектива человеческих существ, которые человек получает из непосредственного наблюдения или общения и осознает».
Другие культурные антропологи склонны определять культуру через «паттерны» поведения' и жизненные «проекты». Они представляют культуру как концептуальное «построение» и, следовательно, как абстракцию от реального, не-культурного поведения, в котором она воплощается5. В прошлом такой точки зрения придерживались Линтон, Клакхон и Джиллин. Эту позицию можно назвать «концептуальным идеализмом», дабы отделить ее от «субъективного идеализма» тех авторов, которые отождествляют культуру с передаваемыми идеями. Обе позиции идеалистичны, поскольку определяют культуру как нечто понимаемое или воспринимаемое разумом.
Идеалистический взгляд на культуру в некоторых отношениях близок к нормативной идее культуры, разделяемой педагогами, для которых культура означает воспитание ума или «духа», а также продукты этой ментальной культуры. Для них, стало быть, культура означает всю совокупную традицию интеллектуальных идеалов, все интеллектуальные и художественные достижения человечества. Как подметил Вернер Джегер, «культура, как только под ней стал подразумеваться процесс воспитания, стала означать сначала состояние воспитанности, затем содержание воспитания и, в конце концов, весь открываемый воспитанием интеллектуальный и духовный мир, в котором рождается каждый индивид согласно своей национальности и социальному положению»6. Некоторые современные антропологи, казалось бы, отказались от акцентирования нормативных, или идеальных, элементов культуры, однако сохранили при этом по существу субъективный, индивидуалистический, идеалистический подход. Они склонны подчеркивать роль языка, с их точки зрения исключительно важную в процессе передачи культурных традиций, и исходя из этого рассматривать культуру прежде всего как совокупность идей, воспринимаемых разумом извне. Тем самым они безотчетно придерживаются своеобразной формы берклианского субъективного идеализма.
Также у антропологов бытует обезличенное и объективистское понимание культуры как «социального наследия», как суммы всех исторических достижений человеческой общественной жизни, передаваемой в форме традиции, или наследия. Человек, говорят они, рождается в кумулятивной искусственной среде, к которой он учится приспосабливаться, а не только в естественной географической среде, которую он разделяет на равных с другими животными. Между тем, социальное наследие реалистами и идеалистами понимается по-разному. Первые, особо подчеркивая аспект наследия, утверждают, что культурное наследие складывается из совокупности материальных артефактов, а также нематериальных идей, институтов, обычаев и идеалов. Эта позиция присуща работам Боаса, Лоуи, Малиновского и Диксона. С другой стороны, идеалисты, безотчетно продолжая традицию Платона и Гегеля, считают, что социальное наследие — это «сверхорганическое» течение идей, а каждая конкретная культура представляет собой абстракцию от исторического комплекса идеационных традиций. Эту позицию, свойственную работам Крёбера, Сорокина и Шпенглера, можно назвать «объективным идеализмом», поскольку ее сторонники трактуют культуру как идейное наследие, обладающее собственной трансцендентной реальностью, не зависящей от тех индивидов или обществ, которым случается стать его носителями. Аналогичное трансцендентальное понятие культуры выдвигается историческими материалистами, в частности Лесли А. Уайтом, хотя последний рассматривает в качестве первичного, или определяющего, фактора эволюции культуры технику и материальные условия социальной жизни7.
Объективный, метафизический культурный идеализм и материализм являются антитезами гуманистической позиции, с точки зрения которой человек есть движущая причина и целевая причина социокультурного наследия. Иначе говоря, для объективного безличного идеализма и материализма культура представляет собой трансцендентальную, метафизическую сущность, которая сделала человека тем, что он есть, и к которой он должен приспособиться как к своей исторической судьбе. С точки зрения же субъективного идеализма культура состоит из норм и идеалов поведения, которые созданы самим человеком и не существуют в отдельности от человеческого разума. При любого рода идеалистическом подходе «материальная культура» становится противоречием в терминах, поскольку «реальными» культурными сущностями признаются концептуальные нормы и паттерны, но никак не артефакты, воплощающие их в себе8.
Одним из основных источников путаницы в современной этнологической теории является склонность значительной части антропологов к совмещению динамической, гуманистической концепции культуры с безличными, трансцендентальными представлениями, встроенными в идею социального наследия. Вопрос в том, следует ли понимать культуру как образ жизни, в котором активно участвует каждый индивид, или же как овеществленное, объективное наследие, более или менее пассивно перенимаемое человеком от своих предков. Отвечая на этот вопрос, современные теоретики культуры разошлись во мнениях: некоторые авторы определяют культуру в терминах приобретенных физических и духовных способностей и обычаев, тогда как другие составляют перечни различного рода материальных и нематериальных культурных продуктов, образующих, с их точки зрения, ту самую сущность, которая именуется культурой. Путаница усугубляется тем, что многие поначалу дают динамическое, антропоцентрическое определение культуры, а потом конкретизируют содержание культуры в терминах обезличенных культурных продуктов. Так, например, даже Сепир утверждает, что культура суть «то, что делает и о чем думает общество», а затем, уже в другой статье, говорит, что культура «воплощает в себе все социально наследуемые элементы человеческой жизни — как материальной, так и духовной»9.
Отождествление культуры с социальным наследием, на мой взгляд, является не просто искажением, но и серьезной ошибкой, ибо предполагает в качестве важнейшего свойства культуры факт общения и передачи, в то время как я считаю, что основной ее чертой является комбинация изобретения и усвоения, осуществляющегося посредством привыкания и обусловливания. Для элемента культуры вообще несущественно то, что он передается, невзирая даже на то, что так с ним обычно и происходит. Этот момент можно проиллюстрировать при помощи сравнения антрополога, усваивающего идеи об аборигенной культуре, с самими аборигенами. Заезжий антрополог получает информацию о местной культуре, но сама эта культура остается ему внутренне не присущей, поскольку он не «аккультурирован», т. е. не разделяет идеалов туземной культуры и не поклоняется им в своей повседневной жизни. Точно так же и артефакты, собранные антропологами и помещенные в музей, не являются объектами нашей культуры, поскольку они не изготавливаются нами и не имеют в нашей жизни никакого практического применения, несмотря на то что мы приобрели или «унаследовали» их от их первоначальных владельцев. Кроме того, из повседневного опыта явствует, что человек не довольствуется жизнью по заветам и обычаям предков. Движимый любопытством и скукой, а также неотступным желанием улучшить материальные и социальные условия своей жизни, он вынужден создавать новые материальные объекты и способы бытия. Короче говоря, культура человека исторична, ибо ей свойственны и изменчивость, и преемственность — не только усвоение традиции, но и сотворение и открытие нового. Определять культуру как социальное наследие — значит игнорировать не менее важную ее черту, а именно, способность к обновлению и скачкообразному развитию. Таким образом, если культура человека состоит прежде всего из приобретенных форм поведения, чувствования и мышления, то ни культурные объекты perse, ни изобретения не являются составными элементами культуры. Артефакты, «социфакты» и «ментифакты» представляют собой, так сказать, «культурный капитал», некое приращение, порождаемое культурной жизнью, но сами по себе и отдельно от носителей данной конкретной культуры они не являются первичными, или конституирующими, элементами культуры10. Все продукты культуры становятся абстракциями, стоит лишь отделить их от того культурного процесса, который воплощается в жизни общества. Сами по себе эти результаты являются не более чем символическими проявлениями культурной жизни. Значим собственно не сам артефакт, а его использование, его функция, вклад, вносимый им в культурную жизнь в данном социальном контексте. С точки зрения функционалистов, природа, или сущность, артефакта связана с его функцией в данной культуре, с его значением для нее; следовательно, нельзя говорить о двух объектах как об одном и том же объек те, если его функция претерпела изменение, даже в том случае, когда его внешне воспринимаемая форма осталась той же самой. Именно поэтому функционалистов, как правило, прежде всего интересует описание взаимозависимости культурных институтов, а не отслеживание истории того или иного обычая или диффузии тех или иных комплексов материальных культурных элементов. По этой причине я склонен согласиться с теми авторами, которые полагают, что термин «материальная культура» некорректен, ибо этим понятием мы отделяем объект знания от самого знания, а артефакт — от его использования. Я бы предложил вместо обычно употребляемой трехчленной классификации, разделяющей культуру на материальную, социальную и интеллектуальную, принять двойственное ее деление на «техническую» и «нетехническую».
Кроме того, каждая культура включает индивидуальный и социальный полюса, которые поддаются разграничению, но в реальности неотделимы друг от друга. Как подчеркивали многие авторы, по происхождению культура социальна; она, как отмечал Тайлор, усваивается человеком «как членом общества». Как социальное наследие мы усваиваем свою культуру из опыта и примера, подаваемого другими, и в этом смысле культура, говоря словами Маретта, представляет собой «передаваемый интеллект». Однако, как указывали Сепир и Линд, это не должно сбивать нас с толку и еще не дает никаких оснований игнорировать роль индивида в модификации и приращении культурного наследия. Мало сказать, что индивидам не свойственно действовать в полном согласии с идеальными социальными паттернами, но они еще и инициируют многочисленные изменения, которые впоследствии получают общее признание. Анализ антропологической и социологической литературы убеждает в справедливости критических замечаний Сепира, писавшего, что «антрополог обычно конструирует культуру как более или менее механическую сумму наиболее ярких и выразительных общепризнанных стереотипов поведения, которую он вычленил из совокупности своих наблюдений либо вычленили для него в процессе вербального общения его информаторы... Культуры, в обычном их понимании, — это просто-напросто абстрактные конфигурации паттернов мышления и поведения, которые для разных членов группы могут иметь бесконечно разные значения» 11. Культура, как утверждает Сепир, не есть нечто само по себе данное; это нечто такое, что открывается постепенно. Если подойти к рассмотрению личности-в-культуре реалистически, то мы должны принять во внимание конкретные психологические мотивы индивидов, многообразие их способностей и дарований, степень влияния, оказываемого на их поведение социальными институтами и идеалами, а также обратное воздействие, оказываемое индивидами на их культурную среду.
Итак, культурное поведение может социально усваиваться человеком «как членом общества» и не быть при этом социальным, или общим для всех членов данного общества. Общество — необходимое, но недостаточное условие культурной деятельности. Очевидно, что в то время как философы XVII в. заблуждались, воображая лишенного культуры индивида, живущего в «естественном состоянии», современные мыслители впали в другую крайность, социализировав культуру. Категории социального и культурного не тождественны друг другу, как обычно принято полагать, ибо могут существовать как социальные феномены, не являющиеся культурными фактами (например, численность населения), так и культурные феномены, не являющиеся социальными (например, сочинение индивидом стихотворения)12. Если иметь в виду изначальную полярность индивида и общества, реальность межличностных отношений и общих культурных стереотипов, то можно избежать как крайностей социализации культуры, свойственных работам Дюркгейма и Самнера, так и крайностей полной ее индивидуализации, к которым питают склонность некоторые психологи. Задача антропологов и социологов состоит в том, чтобы определить, проистекают ли данная культурная практика или культурное достижение из личного опыта и индивидуальной инициативы или же они являются продуктом общего воспитания и процесса формирования привычки. Некоторое противоречие и расхождение между современной этнологической теорией и практикой проистекает в значительной степени из внутреннего противоречия, свойственного пониманию культуры через категории социальных привычек и паттернов: такое понимание игнорирует индивидуальные различия и в то же время делает индивидуальные особенности, культурное разнообразие и автобиографический опыт предметом изучения.
В ходе исторического развития этнологической мысли понятие человеческой культуры — как в физических, так и в духовных ее аспектах — стало обозначать процесс и состояние окультуривания, а также достижения и результаты человеческой само-культивации. Реалисты обыкновенно выводили на первый план идею о том, что культура представляет собой состояние окультуривания и что термин «культура» обозначает ту модификацию поведения и мышления, взятых в их индивидуальных и коллективных аспектах, которая возникла в результате процесса само-культивации. Идеалисты же, в свою очередь, настаивали на том, что культура есть прежде всего умственное, интеллектуальное развитие, либо на том, что культура представляет собой поток (или традицию) идей, социальное наследие прошлого13. Ясно, что обе стороны правы в том, что они утверждают, и неправы в том, что они отрицают. Адекватное понимание культуры требует союза реалистических и идеалистических тезисов.
Культура охватывает собою приобретенное или культивируемое поведение и мышление индивидов, живущих в обществе, а также интеллектуальные, художественные и общественные идеалы и институты, которым привержены члены общества и к которым они стараются приспособиться. Иначе говоря, постигая культуру, следует принимать ее практический и теоретический аспекты. Нормативная, безличная, идеационная культура не может существовать, если нет культурной практики и если она не оказывает влияния на поведение и мышление человека в социальной жизни. Практическая, реальная, или действительная культура — т. е. действительное поведение и мышление людей в обществе — немыслима без тех социальных идеалов, которые люди создали или открыли для себя и которые они пытаются воплотить в своей повседневной жизни. Перед учеными-эмпириками стоит задача определить, в какой мере согласуются друг с другом теория и практика в каждой конкретной культуре и является ли та или иная культура «подлинной» или «поддельной» сущностью в том смысле, в каком эти термины используются Сепиром, т. е. в какой мере ее разделяют большинство ее приверженцев14. Хотя современные антропологи и социологи, в частности, Сепир, Линтон, Клакхон и Линд, отмечали часто встречающееся расхождение между «идеальными» и «поведенческими» стереотипами культуры, они, тем не менее, проводили различие не между идеальным и реальным поведением, а между культурными паттернами, т. е. концептуальными построениями15. Аналогичным образом и термин «привычка», столь часто употребляемый в отношении культуры, является двусмысленным, поскольку используется для обозначения как действительного поведения, так и «стереотипов» поведения и мышления.
В этой связи следует отметить, что термины «теория» и «практика» имеют двойственное значение. С одной стороны, под «практикой» подразумевается реальное поведение и представления членов общества — независимо от того, осознаются они ими или нет, — в отличие от официально принятых идеалов и верований. Как заметил Сепир, воспроизведение стереотипов поведения, отличающее членов данного общества от представителей других обществ, часто происходит неосознанно16. С другой стороны, термины «теория» и «практика» могут также использоваться в более узком смысле, обозначая соответственно мысль и действие. В любом случае дихотомия теории и практики не является всего лишь эпистемическим различием между идеями; она обозначает культурные феномены разного порядка. Теорию и практику можно назвать ни к чему не сводимыми конституирующими категориями культуры; это не просто разные типы идей. Основной эпистемологический вопрос, имеющий отношение к любой культуре, состоит в том, какова степень соответствия между ее теоретическими и практическими элементами. Степень культурной интеграции тоже в какой-то мере может оцениваться по степени согласованности и гармонии этих двух факторов.
Человек — окультуренное животное, ибо это животное разумное и размышляющее. Человек живет в соответствии со своими идеальными представлениями о том, каким он должен быть, и действует в соответствии с тем, каким он себя полагает. Но рано или поздно он понимает, что некоторые социальные идеалы, внушенные ему обществом, ему не нравятся и не приносят удовлетворения. Так, например, установления и образ действий, первоначально задуманные с тем, чтобы улучшить человеческое существование, освящаются как цель-в-себе и утрачивают связь с теми функциями, для выполнения которых они первоначально создавались. Но вместо того чтобы изменить идеалы и приспособить их к условиям изменившейся практики, общество часто продолжает формально следовать старым идеалам17. Или же изменяет теории, не внося соответствующих изменений в практику. И в том, и в другом случае возникает диссонанс между исповедуемой социокультурной теорией и реальной практической жизнью индивидов и обществ.
Кроме того, следует отметить, что между культурами существуют различия в том плане, что одни из них в большей степени ориентированы на теоретические спекуляции, тогда как другие — на действие, на внешнее поведение. Одна культура может ставить перед собой идеал практичности, в то время как другая — идеализировать жизнь, проводимую в теоретических или экстатических созерцаниях. Лучшим примером, вероятно, будут традиционные идеалы западной и восточной культур и соответствующие им установки в отношении времени и экономической деятельности. Примитивные культуры в целом ориентированы прежде всего на практику и проявляют относительно скромный интерес к теоретическим спекуляциям. Среди письменных культур Мэтью Арнолд различает дух гебраизма и эллинизма, которые, с его точки зрения, представляют соответственно идеалы морального поведения и бесстрастного размышления. Исходя из этого, мы можем понять суть конфликта между реалистическими и идеалистическими позициями, описанными в начале этой главы. Реалисты, как мы видели, определяют культуру в категориях привычек, традиций, народных обычаев и нравов и склонны игнорировать идеальные, или нормативные, аспекты культуры. Если взглянуть с этой точки зрения, то социальные идеалы в логическом плане являются не чем иным, как статистической средней, выведенной из реальной практики. Реалистам свойственно путать реальные аспекты культуры с идеальной культурой, ибо они полагают, что скрытые, или исповедуемые, идеалы осуществляются на практике, тогда как на самом деле часто это не так. Эту позицию я бы назвал позитивистским заблуждением. Позитивисты, как правило, не замечают, что рациональные, или концептуальные, идеалы имеют свою собственную объективную реальность, и отказываются признать, что их следует отделять от практики, или обычаев, которые ими обусловливаются и порождаются. Например, Джон Дьюи утверждает, что «обычаи всегда создают моральные стандарты, ибо активно требуют определенных способов поведения»18. Обычаи и привычки не являются идеальными стандартами. Они могут служить лишь стимулом для установления или исправления концептуальных стандартов. Действенность данной нормы (или идеального стандарта) отлична от той реальной практики, которую она порождает. Идеал должного не идентичен обычаю, или практике. С другой стороны, нормативные идеалисты обычно определяют культуру в категориях социальных идеалов и исключают из нее реальность. Это можно назвать нормативистской ошибкой. Короче говоря, утверждать, что для описания культуры достаточно составить обзор существующего на практике, столь же ошибочно, как и утверждать, что исповедуемые членами общества идеалы реализуются в действительности. Каждая культура имеет и идеальные, и практические аспекты, и задача обществоведа заключается в том, чтобы продемонстрировать их взаимосвязь и степень их интеграции в том или ином конкретном обществе. Размер культурного лага между идеалом и реальностью данного общества — важный индикатор степени его культурной интеграции.
Культурные идеалисты, понимающие культуру как логическое построение или абстракцию, не могут, между тем, объяснить, каким образом абстрактные, логические сущности — то, что философы называют ens rationis, — «взаимодействуют» с такими конкретными, реальными сущностями, как индивиды и общества. С позиций здравого смысла ясно, что субъектом действия или взаимодействия может быть лишь культурный человек или общество. Приписывать способность деятельности культурным идеям и теоретическим построениям значит совершать метафизическую ошибку неуместной конкретности. Лишь в том случае, если мы будем рассматривать культуру как в теоретическом, так и в практическом ее аспектах, мы избавимся от необходимости объяснять, каким образом оказывается возможным «взаимодействие» между абстрактной, логической конструкцией, с одной стороны, и индивидом или обществом — с другой. И лишь тогда отпадет необходимость в допущении, что такие логические конструкции для практических целей следует рассматривать так, «как если бы» они обладали независимой сущностью. 2. Типы причинности в культуре В этой связи важно помнить о разных типах причинности и их применении в исследовании культуры. Если мы, вслед за Аристотелем, проведем различие между материальными, формальными, движущими и целевыми причинами природных явлений, то станет очевидно, что мы не можем говорить о культуре как о причине поведения, не уточняя при этом, какого рода причину мы имеем в виду. Продукты культуры, — будь то артефакты, ментифакты или социфакты, — являются материальными, формальными и целевыми причинами культурного развития; они не являются его движущими причинами, или движущими силами. Другими словами, культурные достижения оказывают влияние на индивида и социальную жизнь, обеспечивая их материальными средствами, а также доставляя формальные (или стандартизированные) стимулы усвоения специфической формы поведения, чувствования и мышления. Именно в этой мере изучение абстрактных культурных объектов и идей обладает практической ценностью для антрополога. Аналогичным образом, культурные идеалы являются целевыми причинами культурных процессов; они дают человеку цели, которых тот пытается достичь и которые он пытается воплотить. Сообщенные людям идеалы оказывают влияние на их действия, но действуют и побуждаются к действию не личные или культурные идеалы, а индивиды и общества. Иначе говоря, лишь индивиды и общества представляют собой движущие причины культурных процессов. Как утверждал Линд19, мы не должны разделять человека и культуру или противопоставлять их, ибо именно окультуренный человек, т. е. человек-в-культуре, деятельно разрабатывает свою культуру. Социальные ученые, ведущие речь о некой сущности, именуемой «культурой», которая каким-то образом взаимодействует с обществом, находится в прогрессивном движении и постепенно приходит в упадок, склонны путать движущую причинность с формальными, материальными и целевыми условиями культурной деятельности людей в обществе. Анализ культуры в ее реалистических и идеалистических аспектах требует объединения всех четырех видов причинности. Позиция марксистов (или исторических материалистов), выделяющих материальное производство в качестве первичного фактора, определяющего эволюцию культурных форм, отличается односторонностью и упрощает положение вещей. То же самое можно сказать и об исторических идеалистах, приписывающих первичную или движущую причинную роль идеям. Защитники обеих позиций, по крайней мере в теории, склонны недооценивать функцию человека как самоопределяющегося, активного агента, находящегося под влиянием культурных продуктов и паттернов, но тем не менее представляющего собой первичную движущую силу культурного процесса.
3. Понятие сверхорганического Среди антропологов достигнуто согласие относительно того, что культура есть сверхорганический феномен. Однако не следует забывать, что понятие сверхорганического может быть истолковано (и в самом деле истолковывалось) по меньшей мере в трех разных значениях. Согласно Г. Спенсеру, который ввел в оборот указанный термин, «сверхорганическая эволюция» представляет собой процесс, выросший из органической эволюции. Он, в частности, пишет: «Коль скоро здесь имела место Эволюция, то та форма ее, которую мы определили как сверхорганическую, должна была возникнуть не иначе, как из органической ее формы, через ряд неощутимых переходов. Ее удобно было бы обозначить как охватывающую собою все те процессы и продукты, которые предполагают скоординированные действия множества индивидов»20. По мнению Спенсера, существуют различные группы сверхорганических феноменов, в частности социальная организация пчел и ос, сообщества птиц, общества стадных животных. Сверхорганическая эволюция человека — всего лишь более сложная форма сверхорганической эволюции в целом. Последняя, стало быть, характерна не только для человека. Социология, с точки зрения Спенсера, должна заниматься теми сверхорганическими феноменами, которые находят выражение в росте обществ, их структурах, функциях и результатах деятельности21. Сверхорганическая среда каждого общества формируется действиями и ответными действиями, имеющими место между данным обществом и соседними обществами22. Происходит также «накопление сверхорганических продуктов, которые мы обычно отличаем как искусственные, но которые, с философской точки зрения, не менее естественны, чем все прочие продукты эволюции». В число этих сверхорганических продуктов Спенсер включает материальные приспособления, язык, науку, обычаи, законы, философские системы, эстетические продукты и искусство в целом, в том числе музыку, драму и литературу. «Эти различные порядки сверхорганических продуктов [поясняет Спенсер], каждый из которых развивает внутри себя новые роды и виды, разрастаясь в то же время в более крупное целое, и каждый из которых действует на другие порядки, подвергаясь в то же время ответному воздействию с их стороны, — все они образуют чрезвычайно объемный, чрезвычайно сложный и чрезвычайно мощный узел влияний. В ходе социальной эволюции они постоянно изменяют индивида и общество, но в то же время и сами претерпевают изменение благодаря усилиям последних. Постепенно они формируют то, что мы могли бы назвать либо неживой частью самого общества, либо его вторичной средой, которая со временем становится более важной, чем первичная среда, — настолько более важной, что возникает возможность поддерживать высокий уровень социальной жизни в таких неорганических и органических условиях, которые бы прежде ее вовсе не допустили»23.
Здесь важно отметить, что для Спенсера сверхорганическое есть внутренний атрибут социальных процессов и результатов, присущих не только человеческому обществу, но и обществам животных. Человеческая сверхорганическая деятельность типологически отличается от сверхорганической деятельности животных и характеризуется гораздо большей сложностью. Спенсер не проводит жесткого отделения сферы сверхорганических феноменов от сферы органических феноменов; сверхорганические феномены непосредственно зависят от органических и изменяются соответственно последним. Социальное сверхорганическое не является для Спенсера чем-то выходящим за рамки органического; скорее это некий суперорганизм, подчиняющийся своим собственным органическим законам эволюционного развития. Поэтому Спенсер и говорил об обществе, как будто бы это был в некотором роде организм. Вторичная среда, образуемая совокупностью сверхорганических продуктов, является сверхорганической в силу того, что находится в зависимости от скоординированных действий членов человеческого общества. Ее сверхорганичность заключается в ее социальной зависимости, а не в ее независимости от человеческого общества. Во втором значении — и именно том, которое было бы приемлемо для большинства обществоведов, — под «сверхорганическим» подразумевается тот факт, что культурная эволюция не ограничивается рамками органической структуры человека. О человеческой культуре говорят как о сверхорганической в психологическом смысле, имея в виду, что способность человека к изобретению и символизации позволяет ему создавать и усваивать новые формы культурной жизни без каких бы то ни было сопутствующих изменений в его органической структуре. Эта концепция сверхорганического не только не исключает, но и прямо предполагает существование внутренней связи между культурой и психологической природой человека. Иначе говоря, хотя факты психологии сами по себе и не считаются достаточными для объяснения всего многообразия человеческих культур, тем не менее они необходимы для понимания некоторых универсальных характеристик человеческой культуры, а также мотивов, лежащих в основе специфических культурных феноменов. Более того, необходимо отметить, что поскольку речь идет о зависимости культуры от психологической, сверхорганической природы человека, то культурные феномены могут быть объяснены посредством обращения как к обществу, так и к индивиду. Так, например, в отличие от спенсеровского понимания сверхорганического, одноименное психологическое понятие обозначает главным образом не процессы и продукты социального взаимодействия, а прежде всего то, что человек обладает такими уникальными психологическими качествами, которые позволяют ему как индивидуально, так и сообща с другими трансцендировать в своих культурных достижениях за установленные его биологической природой пределы. Сверхорганичность культуры состоит в ее независимости от органического детерминизма и предполагает способность человека к самодетерминации и самовыражению. В-третьих, как видно из статьи А. Л. Крёбера «Сверхорганическое», данный термин используется для обозначения неорганического, т. е. того, что выходит за рамки органического24. Адаптируя спенсеровский термин к своей теории культуры, Крёбер остался верен проводимому Спенсером отождествлению сверхорганического с социальным, однако ограничил значение рассматриваемого термина областью «сверхорганических результатов» человеческой деятельности. Кроме того, Крёбер принял проводимое Спенсером различие трех уровней эволюции, а именно неорганического, органического и социального, однако разошелся с ним в том, что рассматривал социальную, или сверхорганическую, эволюцию как новый спонтанный процесс, характерный только для человеческой культуры, или цивилизации. По мнению Спенсера, сверхорганическое является всего лишь продолжением органического в социальной сфере и означает «все те процессы и продукты, которые предполагают скоординированные действия множества индивидов». Именно исходя из этого Спенсер получает возможность говорить о сверхорганической деятельности насекомых и животных, а не только человека. Для Крёбера же сверхорганическое означает исключительно социальные результаты и достижения человека, образующие сферу культуры, или цивилизации. В то время Крёбером двигало прежде всего желание отделить сферу органического от области социального, а потому он настаивал на независимости последней от первой. В противовес доктрине наследования приобретенных признаков, которой придерживался Спенсер, а также теории расового характера и психологии народов, выдвинутой Лебоном и такими адептами евгеники, как Гальтон и Пирсон, Крёбер утверждал, что исторические, культурные явления являются «сверхпсихическими», а их развитие и эволюция не зависят от психобиологической органической эволюции. Это была его «коперниковская революция».
Сам Крёбер писал об этом так: «Психическое наследование не имеет ничего общего с цивилизацией, по той причине, что цивилизация — это не психическая активность, а комплекс, или поток, продуктов психической работы. Психическая деятельность, как ее трактовали биологи, была по природе своей органической, и, следовательно, ее демонстрация не имела никакого отношения к социальным событиям. Ментальность есть нечто индивидуальное. Социальное же, или культурное, по самой своей сути не-индивидуально. Цивилизация как таковая начинается лишь там, где заканчивается индивидуальное; и каждый, кто хотя бы в какой-то мере не признает этот факт — каким бы он ни казался грубым и беспочвенным, — не сможет разглядеть в цивилизации никакого смысла, и вся история будет выглядеть в его глазах всего лишь беспорядочной вереницей событий или возможностью поупражняться в искусстве».25 И еще он пишет: «Необходимо признать два совершенно разных рода эволюции: эволюцию той субстанции, которую мы называем органической, и эволюцию другой субстанции, которую мы называем социальной. Социальная эволюция не имеет предпосылок в органической эволюции. Она появляется на поздних этапах развития жизни... Ее истоки лежат в ряду тех органических форм, которые более развиты в плане общих психических способностей по сравнению с гориллой и гораздо менее развиты, нежели самая древняя из известных нам рас, единодушно относимая к человеческому роду, а именно человек неандертальский и мустьерский... Возник новый фактор, под действием которого вырабатывались новые независимые причинные последовательности... фактор, вышедший за границы естественного отбора, уже не зависящий всецело от органической эволюции, фактор, который — как бы ни был он неустойчив из-за колебаний обусловливающей его наследственности — необратимым образом возвысился над ней... Зарождение социального, следовательно, не было звеном какой-то цепи; это была не просто одна из ступеней пути; это был прыжок в иную плоскость»26.
Здесь, насколько мне известно, мы сталкиваемся с первой формулировкой доктрины спонтанной эволюции применительно к истории человеческой цивилизации. В противоположность Спенсеру и другим социологам, Крёбер говорит о полной независимости друг от друга биологической и культурной эволюции. Культура понимается им как нечто «сверхпсихическое»; он проводит различие между «психической активностью» и «совокупностью, или потоком продуктов психической работы», отождествляя культуру с последним27. Культура есть сверхорганический, сверхпсихический результат социальных ментальных процессов; это не сами социальные процессы. В частности, Крёбер пишет: «Все цивилизации в некотором смысле существуют лишь в сознании. Порох, прядильное ремесло, механика, законы, телефоны сами по себе не передаются ни от человека к человеку, ни от поколения к поколению, по крайней мере не передаются таким образом перманентно. Передаются собственно представления о них, знание о них и их понимание, их идеи в платоновском смысле слова. Все социальное может существовать только через ментальное. Разумеется, цивилизация не есть сама ментальная активность; носителями ее являются люди, но существует она не в них»28. Крёбер, судя по всему, придерживается теории платоновского идеализма в отношении культуры, ибо, по его мнению, культура состоит из объективных идей, существующих независимо от разума, который может их воспринять. Культура, или цивилизация, парадоксальным образом понимается и как социальный продукт человеческой психики, и как совокупность (или поток) идей, не зависящих от психобиологической природы человека. Пытаясь избежать органического, психобиологического детерминизма в объяснении культуры, он пришел к принятию теории объективного идеализма, которая была не менее детерминистской, ибо полностью отделяла человека от результата его социальной деятельности.
С логической точки зрения, утверждение Спенсера об идентичности социального и сверхорганического несовместимо с крёберовской позицией, в которой сверхорганическое отождествляется со сверхпсихическим. Спенсер, напомним, поначалу идентифицировал сферу социального с областью сверхорганического, поскольку для него сверхорганическое было атрибутом, или производным качеством, социальных процессов. Сверхорганические явления, с его точки зрения, напрямую зависели от органической природы и изменялись в соответствии со структурой и функциями последней. Для Крёбера же сверхорганические феномены независимы от органического и психологического уровней; культура не включает в себя «психической деятельности» индивидов, взаимодействующих друг с другом, а охватывает собою лишь «совокупность, или поток продуктов психической работы», поток идей, не зависящих от индивидуальной психики. Исходя из этой предпосылки, культура оказывается сущностью sui generis, для которой человек является лишь орудием и носителем, но никак не творцом и источником ее бытия. Как говорится у Крёбера: «Цивилизация, хотя передается людьми и реализуется через них, представляет собою самостоятельную сущность иного порядка. Сущность цивилизации не связана внутренне ни с индивидами, ни с коллективами индивидов, на которых она покоится. Она вытекает из органического, но не зависит от него»29. «Культура, конечно, присуща только живым и мыслящим существам, объединенным в общества. Но эти индивиды и общества — всего лишь предпосылка культуры, но не ее бытие»30.
Эти недвусмысленные утверждения позволяют четко уяснить, что для Крёбера культура, или цивилизация, являет собою сущность, не зависящую ни от индивидов, ни от обществ. Следовательно, культура как самостоятельный уровень реальности может быть названа не только сверхорганической и сверхпсихической, но также и «сверхсоциальной», поскольку ее эволюция и история не зависят напрямую от общества. Если логически исходить из этой предпосылки, то необходимо отделить уровень социального от уровня культурного, ибо культурное образует по сравнению с социальным «более высокий» уровень. Однако реально Крёбер, равно как и другие антропологи его поколения, продолжал отождествлять культурное сверхорганическое с социальным, настаивая в то же время на проведении различия между культурой и обществом. В своей статье «Так называемая социальная наука», написанной много лет спустя, он выделяет четыре основных уровня явлений, а именно «неорганический, органический, психический и социокультурный»31, тем самым все еще отождествляя сферы социального и культурного.
Вместе с тем он признает, что «общество — носитель культуры и состоит из людей, каждый из которых обладает индивидуальной психикой. В высшем уровне культуру можно представить как верхний слой, а общество — как нижний». Позднее, в исправленном издании «Антропологии» и особенно в собрании очерков «Природа культуры», Крёбер в конце концов признал логическую необходимость строгого разграничения категорий социального и культурного. 4. Понятие уровней реальности и теория эволюции Далее предметом нашего рассмотрения будет концепция уровней явлений в природе. Три уровня, выделяемые Спенсером (а именно, неорганический, органический и социальный, или сверхорганический), равно как и уровни, выделяемые Контом, являются одновременно и эмпирическими, и иерархическими. Уровни феноменов базируются на эмпирически наблюдаемых свойствах и образуют иерархию в том смысле, что их можно расставить в логической последовательности, от низших до высших форм организации и функции, независимо от решения теоретического вопроса о последовательности в историческом процессе. Наиболее раннюю систему классификации организмов, построенную на эмпирическо-функциональном базисе, можно найти у Аристотеля. По словам Аристотеля: «Как обстоит дело с фигурами, так же почти одинаково и с душой. Ведь всегда при последовательном [ряде] как фигур, так и живых существ в каждой [дальнейшей ступени] предшествующее дано в потенциальной форме, как, например, в четырехугольнике [потенциально] содержится треугольник, в ощущающей способности — растительная. Поэтому надлежит в отношении каждого [существа] исследовать, какая у него душа, например, какова душа у растения, человека, зверя. Далее нужно рассмотреть, почему дело обстоит так в последовательном ряде. Ведь без растительной способности не может существовать ощущающая. Между тем, у растений растительная способность имеется раздельно от ощущающего [начала]. Помимо этого, без осязательной способности не может существовать никакая другая ощущающая способность, осязание же бывает и без других [ощущений]. Действительно, многие животные не обладают ни зрением, ни слухом, ни ощущениями вкуса. Также из одаренных ощущениями одни существа обладают способностью передвижения в пространстве, другие — нет. Наконец [некоторые живые существа] в самом незначительном числе [одарены] способностью логического мышления и рассудком. Ибо, что касается тех смертных существ, которым свойственно логическое [начало], то у них имеются также все остальные способности, а из тех, кто одарен одной из этих [способностей], не всякий обладает логической [силой], наоборот — у некоторых отсутствует даже воображение, другие же живут только им одним. Что касается теоретического разума, то его надо исследовать особо»32. Таким образом, Аристотель эмпирически классифицировал организмы на растительные, животные и разумные. Последние он представлял как высший тип организма, содержащий в себе как потенциальные возможности низших типов, так и свои собственные возможности и функции.
Кроме того, следует отметить, что Аристотель сформулировал также эпистемологическую теорию классификации наук. Здесь, однако, принципом классификации стала скорее онтологическая теория, а не эмпирическое наблюдение. Науки он расставил в иерархическом порядке по степени их абстрактности: чем более концептуальной была наука и чем меньше она обращалась к чувственным данным, тем более высокая степень совершенства и научной достоверности ей приписывалась. Таким образом, физика, т. е. исследование конкретных материальных объектов природы, занимала в иерархии наук низшее положение. Далее за ней следовала математика, а высшую форму науки образовывали метафизика и теология, которые имеют дело с чистыми формами, постигаемыми только разумом. «Научное знание, — утверждал Аристотель, — невозможно получить через акт восприятия»33. Эта эпистемическая классификация форм знания, впервые систематически обобщенная в платоновской «Республике», служила основой схоластической мысли в средние века и позднее, до тех пор, пока в XVI-XVII вв. не была оспорена Фрэнсисом Бэконом и Декартом. В современной католической философии аристотелевская схема признается по сей день34.
Исходя из сказанного выше, мы должны разграничить две разные проблемы, а именно эпистемологическо-методологическую проблему классификации наук и онтологическую проблему уровней природных феноменов. Аристотель применял эмпирическую классификацию душ в зоологии и психологии, впервые предложив scala naturae животного царства. Науки же он классифицировал на онтологической основе, согласно принципу первичности формы по отношению к материи. Таким образом, если уровни органической жизни определялись эмпирически, то наукам отводилось более высокое или низкое положение в шкале в соответствии с абстрактностью их предмета, а не по степени их верифицируемости. Однако более поздняя философская мысль в большей степени интересовалась не эмпирическими исследованиями природных явлений, а метафизическими спекуляциями об иерархической упорядоченности космоса. В результате были сформулированы три отдельных принципа: уровней, непрерывности (continuity) и множественности (plentitude). Принцип уровней состоял в том, что все вещи, существующие в природе, можно распределить по шкале соответственно присущей им энергии и степени полноты бытия. На практике это вело к синтезу эмпирических наблюдений качественных различий между природными явлениями и к чисто спекулятивным допущениям о возможности существования более высоких уровней эмпирической реальности. Число уровней бытия и их типы варьировались в зависимости от конкретных философских систем. Второй принцип — принцип непрерывности — предполагал, говоря словами Канта, «непрерывный переход от одного вида к другому путем постепенного нарастания различий». Этот принцип предполагает отсутствие каких бы то ни было «скачков» между разными видами, встречающимися в природе35. Третий принцип — принцип множественности — постулирует максимальное разнообразие в явлениях природы. При соединении принципа уровней с принципом непрерывности было получено понятие «иерархического континуума», суть которого в том, что феномены распределяются по уровням, образующим последовательный ряд ступеней, различающихся по степени, а не по типу. Если понятие иерархического континуума соединить с принципом множественности, то мы получим постулат о «бесконечном иерархическом континууме», который утверждает бесконечное множество связей между низшими и высшими порядками реальности. В идеале предполагается «великая цепь бытия».
Следует, однако, заметить, что принципы множественности и непрерывности не обязательно совмещаются. Если принцип множественности соединить с принципом уровней, а принцип непрерывности исключить, то логически возможно получить понятие максимально разнородного мира, явления которого можно расположить в форме бесконечной последовательности, в которой отсутствуют опосредующие связи между разными формами. Таким образом, хотя все три принципа и могут быть логически соединены друг с другом, тем не менее такое соединение вовсе не обязательно; то, что они отнюдь не всегда соединялись, — исторический факт. Можно было, как это делали романтики, особо подчеркивать принцип максимального разнообразия (множественности) в ущерб принципу непрерывности; или же можно было игнорировать принцип уровней и тем самым прийти к идее бесконечного континуума, в котором отсутствуют какие бы то ни было дискретные уровни. Поэтому я не могу согласиться с Лавджоем, пришедшим в книге «Великая цепь бытия» к выводу о том, что «принципы множественности и непрерывности — хотя последний, казалось бы, предполагается первым, — также не согласовывались друг с другом»36. Лавджой различает только два принципа — множественности и непрерывности, — а иерархический принцип уровней не отделяет от принципа непрерывности. Исходя из этого, он усматривает внутреннее противоречие между постулатом непрерывности и принципом максимального многообразия, из чего делает вывод, что «история идеи Цепи Бытия, предполагавшей столь всеобъемлющую умопостигаемость мира, — это история неудачи»37. Мой же вывод состоит в том, что основные принципы метафизики философов-классиков согласуются друг с другом и внутренне друг другу не противоречат.
Далее следует отметить, что принцип уровней и принцип множественности совместимы как со статической метафизикой, в которой времени отводится роль вторичного атрибута, так и с динамической космологией, в которой время и временной процесс стоят на первом плане. Так, например, уровни реальности и множественность бытия, с точки зрения неоплатоников (в частности, Плотина), были чисто логической схемой, в которой низшие уровни рассматривались через призму высших и считались эманацией этих высших уровней, а в конечном счете «Единого», занимающего в иерархии наивысшее положение. Аналогичным образом в средневековой космологии — в том виде, в каком она была разработана блаженным Августином, Маймонидом и Фомой Аквинским, — космос понимался как сотворенный Богом ex nihilo с тем, чтобы нашли воплощение множественность бытия и его иерархические уровни. Понятие «ангелов» считалось совместимым с принципом множественности, поскольку они представляли уровень чистого, хотя и ограниченного, разума, располагающийся над уровнем человека, но ниже уровня Бога38. Выдающийся образец метафизики множественности бытия в ее статической форме представляет нам, вероятно, Спиноза, соединивший в своей философии элементы неоплатонизма, аристотелевской схоластической философии и спекуляций, почерпнутых из новой космологии эпохи Возрождения. Попытку Спинозы истолковать все вещи через Бога или природу (natura naturans) можно расценивать как «коперниковскую революцию», благодаря которой все уровни естественных феноменов стали восприниматься через призму высшего существа, а не с точки зрения конечной антропоцентрической перспективы человека39.
Аналогичным образом, великая цепь бытия стала восприниматься как результат временного процесса40. Основы этого подхода были заложены критическими рационалистами, в частности Вольтером, поставившим под сомнение широко распространенное убеждение, будто природа и в самом деле организована согласно принципам непрерывности и множественности. Против этой точки зрения был выдвинут аргумент, что некоторые виды к настоящему времени вымерли, а некоторые другие находятся в процессе вымирания. Было проведено четкое различие между реальной эмпирической непрерывностью в природе и спекулятивными представлениями о естественных и сверхъестественных формах бытия. Фактически, как отмечали скептики, в природе, судя по всему, происходят скачки, а предположение о непрерывной шкале бытия есть не что иное как порождение «предвзятого воображения».
С точки зрения метафизики, иудео-христианское понятие Творца, создавшего временной мир и вмешивающегося в человеческие дела, логически вело к возникновению линейной теории времени, согласно которой в мире есть место для подлинной исторической новизны. Было проведено различие между идеально возможными и реально существующими природными формами, и развитие этой идеи привело к представлению о том, что не все возможное и мыслимое обязательно в то же время и существует. Мыслители XVIII в., в частности Лейбниц и Кант, видели в принципах непрерывности и множественности идеальные регулятивные возможности, истинность которых удостоверяется с течением времени (в силу божественного провидения и всемогущества), но которые не обязательно оказываются воплощенными в природе в каждый данный момент времени. Согласно Лейбницу, природа всегда пребывает в процессе совершенствования, и творческое развитие природы происходит во времени. Необходимо заметить, что протяжение во времени в соответствии с принципами уровней, непрерывности и множественности вполне согласовывалась с идеей устойчивых видов. Все, что предполагалось доктриной непрерывного творения, состояло всего-навсего в том, что природа не есть завершенный, совершенный продукт, однажды сотворенный Богом, а представляет собою незаконченное, несовершенное творение, которое всегда будет поддаваться исправлению и изменению, дабы стало возможным существование максимального числа сущностей и степеней бытия. Из двух принципов — непрерывности и множественности — первый оказался более важным для развития современной теории эволюции. В целом, принцип множественности оказывал стимулирующее воздействие на спекулятивную космологическую мысль в вопросах о бесконечности форм бытия и существовании иных миров, а тем самым поддерживал также и мифологические фантазии о реальном существовании созданий, относительно которых отсутствовали какие бы то ни было эмпирические свидетельства (например, русалок). В метафизическом плане, принцип множественности вылился в представление о «мире-картотеке», для которого время имело второстепенное значение, ибо предполагалось, что все возможные формы бытия уже действительно существуют в силу божественного всемогущества. Эта идея присутствовала, в частности, в философии Спинозы. Принцип непрерывности (в частности, в формулировке Лейбница), напротив, поддавался эмпирической верификации и заставлял искать «недостающие звенья», которые должны были располагаться между известными природными видами. Между способами, или видами, бытия не было непреодолимой пропасти. Были лишь различия в степени, отделяющие низшие формы от высших. В биологии XVIII столетия принятие принципа непрерывности побудило Бюффона сформулировать идею «опосредующих видов, принадлежащих наполовину к одному классу, а наполовину — к другому»41.
Лишь только аристотелевская теория фиксированных видов была отброшена, как тут же оказалась расчищенной дорога для концепции эволюции форм бытия в соответствии с принципом иерархического континуума. Так, например, Джон Локк в «Опыте о человеческом разуме» отверг мысль, будто бы человек обладает хоть какими-то знаниями о «реальных сущностях», и сделал вывод, что наши понятия о видах представляют собой всего лишь «номинальные сущности», не соотносящиеся ни с какими фиксированными естественными границами, разделяющими природные виды42. Кроме того, с логической точки зрения, принцип непрерывности per se предполагает, что существуют такие опосредующие виды, которые участвуют в двух формах бытия, в силу чего между видами не может быть никаких четких и резких границ. Этот момент нашел отражение в «Естественной истории» Бюффона. Однако эволюционный принцип трансформации видов был сформулирован лишь тогда, когда принцип иерархического континуума соединился с гипотезой о временном природном процессе. В частности, некоторые предположения относительно возможной трансформации животных видов были высказаны Лейбницем. Философ Шеллинг тоже считал, что цепь бытия подчинена универсальному эволюционному процессу становления.
Эта вера в непрерывность естественных форм стала, помимо всего прочего, стимулом для возникновения физической антропологии, Как подметил Лавджой: «Стремление отыскать до сих пор не обнаруженные звенья цепи сыграло особенно важную роль в зарождении антропологической науки. Удивительное сходство в строении скелета у обезьян и человека было известно давно; и внимательные зоологи признавали очевидно напрашивавшиеся решения в пользу как анатомической, так и психической непрерывности в этом регионе видового царства. Лейбниц и Локк говорили о возможности в дальнейшем доказать еще большую степень непрерывности. Задачей науки, таким образом, стало как минимум нащупать более тесную связь между человеком и обезьяной»43. Все больший интерес поэтому вызывали характерные особенности «дикарей», т. е. вопрос о том, идентичны ли они анатомически цивилизованным расам или же, быть может, образуют низшую, опосредующую стадию жизни, связывающую обезьяну с человеком. Руссо и Монбоддо зашли настолько далеко, что утверждали, будто человек и человекообразные обезьяны принадлежат к одному и тому же виду.
Из предпринятого анализа вытекает, что постулат об уровнях реальности не зависит от теории эволюции, последняя же может быть введена для объяснения последовательности их появления во времени. В классической метафизике низшая форма понималась как производная от высшей или ею порождаемая, ибо предполагалось, что порождающая причина не может быть менее совершенной по сравнению со своими следствиями. Современная теория эволюции в этом отношении представляет собой полную противоположность классической теории. Она принимает без доказательства, что высший уровень должен быть производным от низшего. Поскольку принцип уровней природных феноменов основывается на эмпирических данных, то его обоснованность не зависит от каких бы то ни было онтологических теорий, объясняющих реальный процесс, посредством которого этот порядок уровней сложился. Теорию эволюции тоже можно онтологически истолковать различными способами. Например, если выдвигать на первый план принцип непрерывности и отрицать наличие в природе каких бы то ни было скачков и разрывов, то такая позиция логически приводит к отрицанию существования раздельных способов бытия. В таком случае приходится постулировать «качественный континуум», т. е. полагать, что все члены обладают сущностной общностью качеств и отличаются друг от друга всего лишь степенью сложности. В конечном счете, это может привести к представлению о едином прототипе («Urbild»). Такую гипотезу выдвинули Ж. Б. Робине, Гете и Гердер44. Иначе говоря, если придерживаться исключительно принципа непрерывности, то неизбежно приходишь к монистическому типу метафизики, который все феномены рассматривает как формы или модификации единой субстанции. Процесс эволюции можно понимать таким образом в терминах как материалистической, так и идеалистической метафизики. Материалисты сводят все психические феномены к функциям материи; все так называемые высшие уровни или феномены они представляют всего лишь как «эпифеномены», не имеющие собственных независимых функций. Аналогичным образом, идеалисты сводят физические явления природы к объективизациям разума. Исходя из этого, принцип иерархических уровней явлений интерпретируется как видимость, несовместимая с принципом непрерывности.
С другой стороны, если принимать существование дискретных уровней реальности, не зависящих друг от друга и не имеющих друг с другом ничего общего, то в итоге можно прийти к теории спонтанной эволюции, согласно которой новые уровни феноменов наслаиваются на предыдущие, не испытывая при этом никакого влияния со стороны того низшего уровня, из которого они возникли. С точки зрения этого подхода, происхождение явления и его действительная форма и ценность никак друг от друга не зависят. К примеру, Уильям Джеме в «Многообразии религиозного опыта» спорил с «медицинскими материалистами», утверждая, что обоснованность религиозного опыта не зависит от состояния физического здоровья человека. Аналогичным образом можно рассуждать, подобно тому как это делает Александер в своей книге «Пространство, время и божество», о таких спонтанных категориях реальности, как жизнь, разум и божество, никоим образом не заботясь о том, каким образом эти уровни реальности могут быть взаимно связаны друг с другом эмпирически. У теории спонтанной эволюции Вселенной, вне всяких сомнений, есть много общего с градациями бытия в классической метафизике, которые тоже понимались как ряд иерархически упорядоченных форм бытия, существующих независимо друг от друга. И наконец, можно истолковать теорию эволюции (к чему я и сам склоняюсь) как теорию, которая предполагает метафизический плюрализм, допускающий существование обособленных форм бытия, и вместе с тем придерживается принципа непрерывности. Такая позиция означает принятие постулата о действительных эмпирических уровнях явлений вкупе с признанием того, что между высшими и низшими феноменами существуют необходимые внутренние связи. Между высшим и низшим уровнями явлений существует отношение полярности: в то время как каждый из уровней зависит от другого, он одновременно обладает и некоторой независимостью, или автономией. Таким образом, понятие эволюции заключает в себе синтез противоположностей, принципов непрерывности и прерывности, зависимости и независимости, общих элементов и качественной новизны. Эволюция предполагает иерархический континуум; это процесс, в котором новые формы бытия наслаиваются на «материал» низших уровней. Существует, так сказать, прерывность-в-непрерывности. Если история принципов уровней, непрерывности и множественности чему-то нас и научила, то как раз тому, что любой из принципов, взятый в отрыве от остальных, ведет в конечном итоге к их отрицанию. Если взять, например, один только принцип непрерывности, то вскоре сталкиваешься с парадоксами Зенона о бесконечном числе стадий между любыми дискретными явлениями, и становится трудно распознать какую бы то ни было подлинную качественную особость. Принцип непрерывности, взятый в отрыве от постулата уровней и многообразия, быстро приводит к сведению всего качественного разнообразия к единому роду реальности, будь то в материалистической, идеалистической или гилозоистской трактовке. Это можно назвать «ошибкой редукционизма». Аналогичным образом, если взять обособленно принцип множественности, то неизбежен вывод о существовании множества дискретных сущностей, никак не связанных друг с другом. Это можно назвать «номиналистской ошибкой», поскольку данный подход подразумевает, что универсалии — это не более чем названия, а какая бы то ни было онтологическая основа для связей между вещами отсутствует. И наконец, если принимать в расчет один только принцип уровней, то приходится сделать вывод о существовании ряда никак не связанных друг с другом дискретных форм бытия. Это можно назвать «ошибкой формализма», поскольку формы бытия лишаются связи с действительными природными процессами. Теория спонтанной эволюции, которую я предлагаю, синтезирует все три принципа, ограничивая роль каждого из них другими. Эволюция возможна, поскольку существует преемственность в развитии естественных форм, сочетающаяся с спонтанным появлением нового, т. е. качественных вариаций. Нет ни абсолютной непрерывности, ни абсолютной прерывности; есть иерархический континуум ограниченных возможностей, эволюционирующих с течением времени. Эволюция не постижима во всей своей полноте, ибо мы не можем, лишь исходя из эволюции, объяснить, почему и каким образом возможно появление новых вариаций. Мы можем о них сказать лишь то, что это «спонтанные» и «случайные» вариации; а это равнозначно тому, что нам неведом механизм их возникновения. Во власти ученого проследить лишь известные условия существования и взаимосвязи различных типов феноменов, не объясняя весь ход развития природы. В конечном счете, рациональность человека укоренена в иррациональности природы. Эмпирический подход к исследованию природы требует, чтобы мы пытались понять природные явления во всей их сложности и взаимосвязанности и не пытались прийти к простой согласованной теории в ущерб объяснению опытных данных. Ибо в наказание за пренебрежение фактами и постулатами опыта (например, связями между всеми уровнями явлений) человеческая мысль падет жертвой собственных абстракций и придет в итоге к отрицанию тех динамических возможностей природы и жизни, которые она с самого начала была призвана объяснить и направлять. 5. Методологическая автономия уровней явлений Значение современной теории классификации наук (разработанной, в частности, Контом и Спенсером) заключается в том, что была предпринята сознательная попытка отречься от их старой онтологической классификации, унаследованной от Платона и Аристотеля, и заменить ее чисто эмпирической. Согласно Конту, неорганические, или физические, науки имеют дело с наиболее простыми и универсальными явлениями. Следующие за ними биологические науки, которые предполагают существование явлений, изучаемых физическими науками, более частные и сложные. И наконец, за ними идут социальные науки, предполагающие существование данных, изучаемых органическими науками. Аналогичным образом Спенсер провел различие между тремя уровнями явлений, а именно неорганическим, органическим и сверхорганическим (или социальным). Для Спенсера сверхорганические феномены были всего лишь продолжением органических феноменов в социальной сфере, и, стало быть, первые были недоступны для познания вне знания о тех организмах, которые вовлечены в того или иного рода сверхорганический процесс. С методологической точки зрения, принцип иерархической эмпирической классификации наук требует от нас проведения различия между «необходимым условием» и «достаточной причиной». Низший уровень явлений являет собою необходимое условие возникновения высшего уровня, но высший при всем том не «объясняется» низшим и из него не выводится. С практической точки зрения, феномены высшего уровня могут быть предварительно изучены таким образом, «как если бы» они были независимы от низшего уровня, и только после этого становится возможным получить синоптический взгляд на взаимоотношения между уровнями. Высший уровень не сводится к низшему, несмотря на наличие свойственных им обоим общих элементов. И все же, высший уровень проявляется в эмпирических функциях и силах, т. е. в таких измерениях реальности, которые не встречаются на низших. По мере развития науки принцип непрерывности ведет к созданию промежуточных дисциплин — таких, например, как биохимия, — которые сочетают в себе данные двух научных дисциплин и их исследовательские методы. Взаимозависимость уровней естественных феноменов подразумевает, что фактически ни один из них не может быть познан во всей его полноте без обращения к нижестоящим уровням. Наиболее тесно связаны друг с другом физические и химические явления; ныне стало известно, что столь же неразрывная связь существует между биологическими и биохимическими процессами. Аналогичным образом ожидается, что по мере развития психосоматической медицины нам станет известно многое о взаимозависимости психических, культурных и биологических явлений. Имея дело с одним из уровней, мы можем теоретически допустить наличие определенных данных, которые из низших уровней невыводимы. В качестве методологического инструмента (или методологической фикции) полезно исследовать явления данной науки так, «как если бы» они были независимы от других уровней. Особенно легко это дается физикам, химикам и биологам, имеющим дело с отдельными объектами, которые могут быть вычленены для специального изучения. Для психологов, если они хотят отделить психологические феномены от биологических процессов, эта проблема усложняется, поскольку обе совокупности данных явным образом относятся к одному и тому же объекту. Аналогичным образом социологи и антропологи, занимающиеся социальным поведением и его результатами, не могут изучать свои данные без обращения к реальным человеческим организмам. Иначе говоря, психические, социальные и культурные явления не существуют независимо, и потому о них нельзя сказать, что они образуют отдельные онтологические уровни и могут быть познаны сами по себе. Методологически возможно абстрагировать указанные феномены и временно рассматривать их так, «как если бы» они были независимыми от тех организмов, от которых они зависят. В статье «Социология и психология», впервые опубликованной в 1916 г.45, Риверс отстаивал независимость социологической науки, которая, хотя и связана в конечном счете с данными психологии, тем не менее может изначально развиваться самостоятельно. Выражая уверенность в том, что конечная цель изучения общества — объяснение социального поведения в категориях психологии46, он утверждает, что с точки зрения метода следует разделять эти две дисциплины, поскольку существует опасность ошибочно принять предположения одной из наук как подлинные объяснения. «Именно потому, что в настоящее время столь трудно различить причину и следствие, каждая наука должна пока по мере возможности идти своим собственным путем, как если бы она была независимой дисциплиной»47. Ранее в своих лекциях «Родство и социальная организация» Риверс на примере своих этнологических изысканий показал, что социальные факты взаимоотношений в примитивных обществах должны объясняться через предшествующие социальные условия, а не при помощи лингвистики и психологии, как полагал в свое время Крёбер48.
Таким образом, Риверс высказал две разные идеи, хотя ни он, ни его современники не проводили между ними четкого различия. Во-первых, он стремился доказать методологическую независимость социологии от социальной психологии, признавая в то же время, что социальные феномены представляют собою по существу эпистемические абстракции целостной психосоциальной ситуации. Социология должна была трактоваться так, «как если бы» она была независимой дисциплиной, в силу неопределенности выводов и исследовательских результатов психологии; однако это чисто прагматическое разделение не исключало тесной связи указанных наук в будущем. Во-вторых, в лекциях «Родство и социальная организация» он выдвинул более радикальный тезис о том, что общие характеристики, мельчайшие детали систем родства и классификации в примитивных обществах строго детерминированы социальными условиями и что психологические «интерполяции» не могут объяснить природу и многообразие этих социальных явлений. Он писал: «Эти психологические элементы — не что иное как сопутствующие обстоятельства социальных процессов, которыми можно заниматься независимо от их психологического аспекта»49. Здесь Риверс придерживался точки зрения, которую ранее высказывали Морган и Мак-Леннан и которая заключается в том, что природа классификационных систем в примитивных обществах детерминирована предшествующими социальными условиями. Эта позиция была противоположна утверждению Крёбера о том, что способ использования терминов родства всецело определяется языковыми и психическими факторами. Настаивая на автономии социальных явлений и их независимости от психологических феноменов, Риверс вышел за рамки чисто прагматического аргумента, который он предлагал позже. Тезис о предварительном методологическом обособлении социологии от социальной психологии эмпирически обосновывался как средство, гарантирующее научную точность объяснений. Тезис о фактической независимости социологии от психологии вышел за пределы эмпирической области; он превратил предварительное разделение de facto в онтологическую независимость dejure.
Другими словами, Риверс не проводил четкого различия между эмпирическими и методологическими проблемами классификации наук (с одной стороны) и метафизической проблемой соотношения и числа уровней реальности (с другой стороны). Тезис о том, что Психологические элементы есть всего лишь сопутствующие обстоятельства социальных процессов и что последние вполне можно понять в отрыве от их психических аспектов, представлял собою логическое обобщение, вышедшее за рамки эмпирических фактов, которыми оперировал Риверс. Он предположил онтологическое разграничение уровней явлений, что было равнозначно признанию их независимости. Если мы вновь возвратимся к статье Крёбера «Сверхорганическое», то сможем увидеть аналогичный онтологический аргумент в связи с понятием культуры, однако выраженный гораздо более отчетливо. Согласно Крёберу, уровень «социальных» явлений предполагает «скачок в иную плоскость», переход на новый спонтанный уровень реальности, не имеющий ничего общего с неорганическим и органическим уровнями. С исторической точки зрения можно рассудить так, что Крёбер принял высказанную Риверсом критику его попытки объяснить термины родства через психологические мотивы и языковые обычаи и, в соответствии с этим, признал также и жесткий детерминизм социальных феноменов. Позиции Риверса и Крёбера, судя по всему, различались в той мере, в какой первый все же оставался верен взглядам Спенсера, считавшего, что сфера социального охватывает реальное поведение (т. е. как процессы, так и продукты социального взаимодействия), в то время как второй отождествил сферу социальных явлений с психическими, культурными продуктами социального взаимодействия. Таким образом, Крёбер начал изучать абстрактные психические результаты деятельности общества, называемые им культурой или цивилизацией, как реальность sui generis, подчиненной автономным историческим процессам развития, не зависящим от психологического опыта и действительного социального поведения. Тем самым он превратил эпистемическую, или методологическую, абстракцию в обособленную онтологическую сущность, которую понимал как независимый спонтанный уровень реальности, не подчиненный более естественному отбору и законам органической эволюции, а подчиняющийся вместо этого своему собственному, не менее жесткому историческому детерминизму. Эту позицию я предлагаю назвать культуралистской ошибкой. Культуралистскую ошибку совершают в том случае, когда определяют культуру как идеальную абстракцию и превращают, или реифицируют, эту ens rationis в самостоятельную онтологическую сущность, подчиненную собственным законам развития и познаваемую лишь через саму себя. Нет ничего ошибочного в простом абстрагировании культурных достижений от породившего их контекста социального поведения; это правомерно, а кроме того, нередко бывает полезно с практической точки зрения. Культуралистская ошибка происходит лишь тогда, когда данную логическую абстракцию начинают рассматривать так, как будто она и в самом деле — реальность sui generis, т. е. сверхпсихическая, сверхсоциальная сущность, независимая от человека. Культуралистская ошибка — результат «возвышения» чистой формы или абстракции до уровня вещественной естественной силы, которая сама себя объясняет и является онтологически самодостаточной; такая процедура в чем-то напоминает платоническую доктрину трансцендентальных Форм Идей, которые тоже, как предполагалось, существуют независимо от индивидуального разума и конкретных природных проявлений. Культуралистскую ошибку легче всего понять как противоположность «натуралистической ошибки», т. е. попытки «свести» культурные феномены к уровню органического и психологического. Например, фрейдистская теория примитивной орды и Эдипова комплекса, концепция врожденных национальных характеров Лебона, а также концепция родового бессознательного, содержащаяся в теории мифа Юнга, иллюстрирующие по сути Ламаркову доктрину наследования приобретенных качеств, — все это примеры, или результаты, натуралистической ошибки, поскольку указанные характеристики лучше объясняются в терминах исторически приобретенных культурных качеств, способных изменяться в зависимости от времени и места. Пытаясь избежать натуралистической ошибки органической детерминации культурных качеств, Крёбер и те его современники — приверженцы теории автономности культуры, впали в другую крайность и допустили Культуралистскую ошибку, отстаивая самостоятельность существования культуры как исторической сверхпсихической реальности, не зависящей ни от индивидуальной инициативы, ни от коллективных человеческих усилий. Статья Крёбера «Сверхорганическое» стала классикой американской антропологической литературы, а его термин «сверхорганическое» (отличный от спенсеровского) снискал признание среди американских ученых, хотя английские антропологи, в частности Радклиф-Браун, все еще придерживаются спенсеровской трактовки этого термина50. Следует, однако, заметить, к чести Крёбера, что в целом его концепцию культуры разделяли и другие американские антропологи, которые, как и он, были учениками Боаса. К числу оригинальных достижений Крёбера этого периода я отношу то, что он впервые сформулировал теорию спонтанной эволюции культурных феноменов и детерминистскую философию культурной истории, которых ни Боас, ни большинство его учеников не разделяли. Знаменательно, что когда впервые вышла в свет статья Крёбера, такие ученики Боаса, как Сепир, Голденвейзер, Свентон и др., подвергли открытой критике концепцию культурного сверхорганического51. В целом эта критика сводилась к тому, что между социальным и психическим, между культурой общества и индивидом нет никакой пропасти и что исключение человека из изучения культурной истории ведет к внутренним противоречиям. Эта решительная критика, между тем, не мешала им самим продолжать рассматривать культуру как реальность sui generis, а способ существования культуры — как закрытую систему, постижимую лишь через саму себя. Из современных антропологов к числу «культурологов», все еще придерживающихся креберовской трактовки культурного сверхорганического, можно отнести Леви-Стросса, Уайта и Гёбеля, хотя в пересмотренном издании своей «Антропологии» (1948) сам Крёбер уже отошел от жесткого противопоставления органического и сверхорганического, свойственного ему ранее. Гёбель ошибочно истолковывает неприятие Крёбером классического подхода к сверхорганическому «как наследие бихевиоризма в психологии» 52
Перевод В. Г. Николаева Альберт К. Кафанья. Формальный анализ определений понятия «культура»*
Введение Недавно пробудившийся интерес к проблеме определения понятия «культура» — верный знак того, что культурная антропология наконец-то начала выходить из описательной фазы своей непродолжительной научной карьеры. Ибо до тех пор, пока силы науки поглощены сбором и описанием данных, терминологические тонкости, как правило, не привлекают особого внимания. Когда этнограф впервые наблюдает сакральный ритуал или церемониальный танец, он не спрашивает себя: «Посмотрим, должен ли я это описывать? Является ли это элементом культуры, согласно данному мной определению?» Подобно специалистам в других областях научного знания, он узнает предмет своего исследования «с первого взгляда». Еще до появления префессиональных антропологов люди обладали такой непосредственно данной способностью отличать характеристики культуры от прочих феноменов. Эту способность я буду называть «до-дефиниционным знанием» культуры. Адекватность терминологии начинает волновать исследователей лишь тогда, когда они пытаются сформулировать общие принципы, разработать гипотезы и составить предсказание для проверки этих гипотез. Обладая до-дефиниционным знанием культуры, этнографы описывали свои полевые наблюдения в терминах, которые казались им наиболее подходящими для их целей. В результате то, что в одной монографии именовалось «племенем», в другой называлось «нацией», и т.д. Чтобы облегчить понимание и сделать возможными обобщения, ученые попытались разработать и принять стандартные термины для описания одних и тех же феноменов, встречающихся в жизни разных народов. Это — подготовительная стадия развития научной терминологии. Она ограничивалась поиском стандартных терминов, которые можно было бы использовать в кросс-культурных исследованиях. Эти усилия в определенной мере увенчались успехом. Но поскольку задачи этнологов не сводятся к простому обобщению фактов и попыткам разработать гипотезы для объяснения описываемых закономерностей, то их интерес к терминологии выходил за рамки поиска договоренностей относительно ее использования. Поскольку научные гипотезы должны быть логически непротиворечивыми и поддаваться верификации, то и термины должны быть определены соответствующим образом. В итоге мы и столкнулись с растущим интересом к определениям. Итак, я попытался подчеркнуть два момента. Во-первых, несмотря на разногласия по поводу того, каким языком следует «говорить» о «культуре», все культурные антропологи «знают», что перед ними тот или иной культурный элемент, когда его видят. Во-вторых, такое до-дефиниционное знание, будучи адекватным для описания, для объяснения и предсказания недостаточно. В этом очерке доказывается, что критически оценить господствующие и противоречащие друг другу определения «культуры» будет проще, если воспользоваться некоторыми формальными правилами определения, разработанными в философии науки. Я попытаюсь применить набор таких формальных правил к нескольким распространенным в настоящее время определениям «культуры» и попытаться несколько усовершенствовать эти определения, недостатки которых — по существу терминологические. Введением в такой формальный анализ послужит краткий обзор некоторых общих принципов теории определений. Необходимость определений1
Теория определений выросла из необходимости повысить коммуникативность естественного языка. Для всех естественных языков (языков, изучаемых лингвистами) характерно то, что относительно небольшой набор лингвистических элементов функционирует в огромном множестве разных контекстов и обстоятельств. Структура языка такова, что его элементы вкупе со свойственными ему правилами словообразования (фонологическими) и преобразования (правилами грамматики) позволяют ему создавать бесконечное множество выражений. Например, один и тот же набор слов может функционировать в эмоциональном, побудительном или описательном дискурсе. Требования, которым должен удовлетворять любой данный набор слов, дабы эффективно выполнять эти разные функции, будут, разумеется, заметно отличаться в зависимости от типа дискурса. Большинство слов, или даже более крупных лингвистических единиц (units), обладают определенной степенью неясности, неопределенности и двусмысленности. Эти свойства делают слова и выражения более многогранными и широкоохватными, что позволяет им удовлетворять самым разным требованиям, которые может предъявлять к ним обыденный дискурс. Неясность (vagueness) — одно из важных свойств языка. Слово является неясным тогда, когда существуют такие пограничные случаи, в которых трудно решить, применимо к ним данное слово или нет. Пример неясного слова — слово «лысый». Сколько волос должен потерять человек, чтобы мы могли назвать его лысым? Неясность, как правило, выгодна, поскольку позволяет обсуждать предметы, точным знанием о которых мы не располагаем. Например, в обыденном дискурсе применение слова «рыба» для обозначения всех животных, обитающих в воде, является достаточно ясным. Но для зоолога, желающего, чтобы было проведено различие между китами и другими обитателями морских глубин, такое словоупотребление оказывается неудовлетворительным. Неясность нашего языка отражает неясность наших знаний. Другое важное свойство обыденного языка — неопределенность (indefiniteness). Слово является неопределенным, если в том контексте, в котором оно появляется, оно дает меньше информации, нежели дало бы какое-либо другое слово. Например, в высказывании «Система родства западноевропейских народов является двулинейной» слово «двулинейная» является неопределенным, ибо дает меньше информации, чем дало бы слово «эскимосская». Опять-таки, как и в случае неясности, мы иногда бываем вынуждены пользоваться в своей речи неопределенными словами. Самым важным из свойств обыденного языка является, вероятно, полисемия. Слово можно назвать полисемичным, или многозначным, если оно имеет два или более прочно устоявшихся смысла, или значения. Эта особенность слов чрезвычайно облегчает освоение языка и общение, поскольку сокращает размер рабочего словаря. О полисемичном слове можно говорить как о двусмысленном (ambiguous), если при его использовании вкладываемый в него специфический смысл не становится ясным из контекста. Обычно принято говорить о двусмысленности слов. Между тем, строго говоря, слова полисемичны; двусмысленным является словоупотребление. Чтобы пояснить это, рассмотрим слово «bank». В обычном понимании это слово имеет два значения: берег (bank) реки и сберегательный банк (savings bank). Будучи полисемичным, слово «bank» само по себе не является двусмысленным. Предложение же «I lost it near the bank» [«Я потерял его на берегу (или: около банкта)»] двусмысленно. Если полисемия представляет собой одно из важнейших и неотъемлемых свойств языка, то двусмысленность, если не свести ее к минимуму, серьезно ограничивает эффективность коммуникации. Двусмысленность представляет собой, быть может, самое распространенное препятствие на пути эффективной коммуникации. Поэтому необходимо рассмотреть некоторые из наиболее типичных ее форм и концептуальные методы их устранения. Наиболее «опасные» двусмысленности проистекают из незаметного смещения или смешения конкурирующих значений полисемичного слова. Три наиболее часто встречающихся типа таких смещений — это смещения «слово-референт» (word-referent shifts), смещения «коннотация-денотат» (connotation-denotation shifts) и смещения «процесс-результат» (process-product shifts). Важнейшим источником двусмысленностей, вероятно, является смещение «слово-референт». Такая двусмысленность, которую иногда называют ошибкой «употребления vs называния» (use versus mention fallacy), оказалась в центре внимания специалистов по общей семантике. Они назвали эту ошибку «словесной магией» и считали, что она служит источником величайшей путаницы в мышлении. Человек впадает в эту ошибку, когда путает употребление слова для обозначения некой невербальной сущности или указания на нее с употреблением слова для обозначения или указания на само слово (т.е. на вербальную сущность). Ярким примером путаницы в мышлении, проистекающей из данного типа смешения, является утверждение некоторых физических антропологов о необходимости замены слова «расовый» на слово «этнический». Этот аргумент выглядит следующим образом: «Раса была причиной наиболее пагубных деяний в истории человечества; следовательно, мы должны заменить расовое этническим». Путаница здесь возникает в результате того, что в первом случае слово «раса» употребляется для выражения отношения к предрассудкам и дискриминации, во втором же случае имеет место указание на само слово «раса». Выражение «словесная магия» очень подходит для описания этого аргумента, поскольку в нем молчаливо предполагается, что посредством изменения слов мы изменяем глубоко укорененные привычки и установки. Можно установить четкое различие между употреблением слова и указанием на него, если указываемое слово заключать в кавычки: например, из четырех букв состоит не Билл, а слово «Билл». Еще одной постоянной причиной ошибок являются смещения «коннотация-денотат». Пример такого типа двусмысленности содержится в высказывании: «Слово 'русалка' имеет значение; следовательно, русалки существуют». В этом утверждении смешиваются два смысла слова «значение». В одном смысле, «значение» слова состоит из всех тех конкретных объектов, к которым это слово обычно применяется. Этот смысл «значения» обычно именуется денотатом. В другом смысле, «значение» слова складывается из тех общих свойств, которыми должен обладать конкретный объект, чтобы данное слово было к нему применимо. Этот смысл «значения» обычно называется коннотацией. Различие между денотатом и коннотацией слова, вероятно, можно разъяснить на следующем примере: денотат слова «культурный антрополог» состоит из таких конкретных объектов (людей), как А. Л. Крёбер, Роберт Лоуи и т. д., тогда как его коннотация состоит из таких общих свойств (качеств), как изучение науки о культуре, проведение полевых исследований среди дописьменных народов и т. д. В философском дискурсе слово «значение» обычно употребляется в смысле коннотации, поскольку все мыслимые слова — сколь бы неясными, неопределенными и двусмысленными они ни были, — имеют коннотацию. Однако слово не обязательно должно иметь денотат, и некоторые весьма употребительные слова (например, «русалка») действительно его не имеют. Более того, необходимо отметить, что логическая деятельность по установлению и прояснению коннотации слова (т. е. определению термина) и эмпирическое определение его денотата по существу не зависят друг от друга. Последний тип двусмысленности, который мы рассмотрим, иногда называют смещениями «процесс-результат». Такого рода словесная путаница может возникать в тех случаях, когда в обычном понимании слово означает как процесс (или некоторую деятельность), так и продукт (или результат) этой деятельности. Этот тип двусмысленности можно проиллюстрировать следующим утверждением: «Наука представляет собой постоянно самокорректирующуюся деятельность. Следовательно, теория кровообращения Гарвея ненаучна, ибо за последние три столетия она не претерпела никаких изменений». Слабость этого аргумента — в пренебрежении тем, что в обычном понимании слово «наука» обозначает как результат, т. е. совокупность подтвержденных гипотез, так и процесс, посредством которого получают эту совокупность гипотез. Функции определений Я рассмотрел некоторые наиболее важные особенности употребления слов, позволяющие им удовлетворять разнообразным и сложным требованиям естественного языка. Между тем очевидно, что строгие требования научного дискурса делают желательным употребление таких терминов, многозначность которых была бы сведена к минимуму. Определение можно рассматривать как концептуальный механизм контроля над функциями слова. Обычно определения применяются в следующих целях: а) для прояснения неясных и неопределенных слов, б) для устранения двусмысленности и в) для объяснения новых слов через старые. Определения, используемые в этих целях, помогают установить и поддерживать логическую согласованность научного языка. Между тем в научной работе определениям присуща и другая, не менее важная функция. Она связана с фундаментальным принципом философии науки, требующим от научных гипотез практической верификации. В соответствии с этим принципом, высказывания являются научно значимыми тогда и только тогда, когда вытекающие из них выводы поддаются непосредственной или косвенной верификации при помощи наблюдения. Эту функцию выполняет особый класс определений, так называемые «рабочие определения». Они служат соотнесению гипотез с теми наблюдениями, при помощи которых они могут быть подтверждены. Прежде чем приступить к анализу определений «культуры», было бы полезно рассмотреть природу научных определений, различные типы определений и некоторые формальные правила определений, которые будут далее использоваться в нашей работе. Что представляют собой научные определения? Рассматривая этот вопрос, следует прежде всего отметить, что определяются «слова», а не «вещи». Когда мы требуем определения «культуры», мы просим объяснить употребление слова «культура», а не дать эмпирическую характеристику феномена культуры. Отметить это не будет лишним, ибо широко распространенное непонимание этого факта является, вероятно, главной причиной того, что антропологи до сих пор почти нисколько не продвинулись к достижению общепринятого определения своего важнейшего термина. Если понимать определение как «объяснение» значения или употребления термина, то что здесь подразумевается под объяснением? Определение дает объяснение, устанавливая необходимые и достаточные условия применения (или употребления) соответствующего термина. Устанавливая условия, при которых может употребляться то или иное слово, определение имплицитно устанавливает коннотацию слова. Например, когда Джордж П. Мёрдок оговаривает правила употребления слова «клан», предполагается следующее определение: пусть слово «клан» означает «любую сплоченную социальную группу, обладающую однолинейной системой происхождения, паттерном совместного проживания, соответствующим системе происхождения, и механизмом интеграции супруга со стороны»2. Здесь необходимое условие обозначения чего-то словом «клан» заключается в том, чтобы это нечто было сплоченной социальной групппой; достаточным условием является обладание тремя вышеуказанными дополнительными атрибутами.
Все определения состоят из двух компонентов: во-первых, объясняемого слова и, во-вторых, слова или нескольких слов, используемых для объяснения первого. Обычно эти компоненты называются соответственно определяемым и определяющим. В определении Мердока, приведенном выше, определяемое было напечатано прописными буквами, а определяющее — курсивом. Каждое определение утверждает, что эти два компонента имеют эквивалентные коннотации и могут использоваться как взаимозаменяемые. Хотя каждое определение должно устанавливать после-дефиниционное употребление и значение определяемого приравнивания его к использованию и обозначению определяющего, они могут различаться в зависимости от характера устанавливаемого ими соотношения (иначе говоря, соотношение может быть утверждением, оговоренным употреблением слова или толкованием), а также в зависимости от того, имело ли определяемое до-дефиниционное использование. На этой основе можно выделить три типа определений. Три типа научных определений Первый тип, который мы рассмотрим, можно назвать справедливыми определениями. В данном случае предполагается додефиниционное употребление как определяемого, так и определяющего, определение же просто устанавливает равенство между ними. Например, справедливое определение: «шлюп» означает то же самое, что и «судно с косым парусным вооружением, обладающее одной мачтой и единственным кливером» — представляет собой высказывание, которое может быть как истинным, так и ложным. Поскольку в нем утверждается, что его определяемое и определяющее могут взаимно заменять друг друга во всех контекстах, не нанося ущерба общению, то оно является фактическим утверждением, которое можно проверить, спросив людей о том, как они используют эти слова, наблюдать их вербальное поведение, заглянуть в словари и т. д. Важно заметить, что, хотя использование определяющего должно быть «очень близким» к употреблению определяемого, они не обязательно должны быть идентичными. Например, использование определяемого часто бывает двусмысленным, т. е. предполагает множественность значений; в этом случае справедливое определение может устранить двусмысленность слова, устанавливая, что лишь одно употребление, а именно то, в котором используется определяющее, является эквивалентным употреблению определяемого. Справедливое определение, следовательно, может в ряде случаев подвергать анализу определяемые слова. Успех его, разумеется, зависит от определяющего, у которого меньше недостатков по сравнению с определяемым. Второй тип обычно называют номинальными определениями. Номинальные дефиниции наделяют значением неизвестное (определяемое) при помощи известного (определяющего). В данном случае определяемым является либо новый термин, либо старый термин, используемый в новом контексте; предполагается, что определяемое не имело до-дефиниционного употребления. Номинальное определение удовлетворяет потребность технического языка в экономии, так как его определяемое всегда значительно короче определяющего, например: а10 = агагагагагагагагага. Номинальное определение имеет договорной характер; оно просто заявляет о намерении использовать определяемое в качестве синонима определяющего. Следовательно, вопрос о его истинности или ложности не стоит. Эти определения, стало быть, не являются суждениями; в них просто оговариваются условия употребления того или иного термина. Номинальное определение может быть названо удачным тогда и только тогда, когда его использование повышает строгость и плодотворность языка. Особым классом номинальных определений являются так называемые «рабочие определения». Рабочие определения используются исходя из требований измерения и верификации научных гипотез. Термин можно назвать определенным, когда он используется, обозначая такие свойства, которые поддаются эмпирическому наблюдению и измерению. Точнее говоря, термин является рабочим в том случае, если следствия из гипотезы, в формулировке которой он содержится, поддаются опытной проверке Примерами такой дефиниции могут служить определение «температуры» как делений на шкале Фаренгейта и определение «интеллекта» как суммы баллов по тесту IQ. Когда Лесли А. Уайт говорит, что степень эволюции культуры может быть измерена количеством энергии, приходящейся в год на душу населения, он по сути предлагает рабочее определение «эволюции»3.
Третий тип определений может быть назван поясняющим. В данном случае определяемое имеет устойчивое до-дефиниционное употребление, а определяющее не обязательно обладает таковым. Существенной особенностью таких определений является то, что в них всегда содержится попытка проанализировать определяемые ими термины. Рассмотрим, к примеру, следующую попытку объяснения неясного термина «лысый»: «лысым» можно назвать любого человека, к которому может быть применено выражение «обладающий линией волос, отступившей за пределы вертикальной линии, перпендикулярной плоскости Франкфорта». Это определение, хотя его определяющее явно выходит за рамки устойчивого словоупотребления, вероятно, является истинным в плане того, что большинство людей, обычно считающихся лысыми, обладают одновременно и теми свойствами, которые конкретизируются в определяющем. Кроме того, принятие данного определения помогает устранить неясность, свойственную слову «лысый», посредством исключения многочисленных пограничных случаев. Как показывает этот пример, пояснения представляют собой гибрид, обладающий характеристиками как номинальных, так и справедливых определений. Иначе говоря, хоть они и должны совмещаться с привычным словоупотреблением, их принятие служит уточнению и прояснению такого словоупотребления. Формальные критерии определений Далее приводится перечень правил, предлагаемый в качестве основы для оценки формальной адекватности определений «культуры». 1. Определение должно устанавливать значение определяемого слова. 2. Определяющее должно быть менее двусмысленным, менее неопределенным, менее неясным и более известным, чем определяемое 3. Замена определяемого определяющим в соответствующих контекстах (для справедливых и поясняющих определений) должна быть совместима с обычным словоупотреблением и/или повышать строгость и эффективность употребления слов. 4. Определяющее должно обладать свойствами, хотя бы косвенно доступными для опытного восприятия. Анализ определений «культуры» В конце очерка хотелось бы представить итоги недавней дискуссии по поводу определений «культуры». Приведенные ниже определения4 были выбраны потому, что каждое из них широко используется, а все вместе они представляют весь спектр текущих определений.
Определения, отталкивающиеся от понятия социального наследия Одно из определений этого типа дается Брониславом Малиновским: «... социальное наследие есть ключевое понятие культурной антропологии. Обычно оно называется культурой...»5. Эдвард Сепир использует примерно такое же определение, говоря, что термин «культура» означает «любой социально унаследованный элемент человеческой жизни — как материальной, так и духовной»6. Ральф Линтон присоединяется к этой точке зрения; утверждая: «Социальное наследие называется культурой... культура означает все социальное наследие человечества...»7.
Приведенные высказывания — реальные определения, ибо в них утверждается, что значение слова «культура» эквивалентно значению выражения «социальное наследие». Эта группа определений может быть подвергнута критике в нескольких аспектах. Во-первых, определяющее («социальное наследие») не уменьшает неясности определяемого («культуры»). Например, празднование Рождества, вероятно, и может быть рассмотрено как элемент нашего социального наследия, однако в настоящее время этот праздник отличается гораздо большей коммерциализацией и меньшей духовностью по сравнению с тем, каким он был для предыдущего поколения. Возникает вопрос: насколько подобными друг другу должны быть обычаи, чтобы мы могли рассматривать один из них как наследование другого? Кроме того, эти определения оказываются ложными, поскольку слова «социальное наследие» и «культура» не являются взаимозаменяющими, как то в них утверждается. Фактически, значение слова «культура» оказывается гораздо более широким по сравнению со значением выражения «социальное наследие». Возьмем, к примеру, формулу Е=тс2, известную обывателю как теория относительности Эйнштейна. В то время, когда она была впервые обнародована, она не была частью нашего социального наследия, но лишь немногие антропологи отважились бы отрицать, что она была элементом культуры. Мне кажется, что проблема здесь возникает от пренебрежения обычным значением «культуры» как процесса, а не только результата. Значение выражения «социальное наследие» не включает в себя тех процессов, посредством которых вводятся новые культурные элементы, а старые элементы видоизменяются и прямо или косвенно передаются. Таким образом, значение «социального наследия» не эквивалентно значению «культуры» и оказывается его подмножеством (см. рис. I)8.
Рис.1. Неясность выражения «социальное наследие» можно было бы уменьшить при помощи вспомогательного поясняющего или рабочего определения, которое бы исключило пограничные случаи. Например, можно было бы ограничить значение выражения «социальное наследие» обозначением тех вещей и событий, которые существовали до рождения старейшего члена общества и которые, по его мнению, не изменились за время его жизни. Оказалось бы, что проблему «процесс/результат» можно решить, если оговорить, что слово «культура» означает только результат. Такая модификация обыденного словоупотребления могла бы сделать данное понятие более конструктивным. Определения, отталкивающиеся от понятия научаемых форм поведения Определения, отталкивающиеся от понятия научаемого поведения (learned behavior), использовались многими психологами, социологами и антропологами. Рут Бенедикт говорит: «... культура есть социологический термин, обозначающий научаемое поведение...»9. Джулиан Стюард предполагает: «Культуру обычно понимают как приобретенные способы поведения, передающиеся социально...»10. Согласно Эллисону Дэвису: «... культура... может быть определена как все поведение, вырабатываемое индивидом в процессе приспособления к группе...»11 Для Клайда Клакхона: «Культура включает в себя все передаваемое социальное научение»12. Аналогичным образом, Чарлз Хоккет утверждает: «Культура — это привычки, которые люди приобретают в результате научения... от других людей»13.
Все это справедливые определения, в которых предполагается, что до-дефиниционное значение слова-«культура» совпадает со значением выражения «научаемое поведение». Данные определения не удовлетворяют критерию взаимозаменяемости, поскольку значение выражения «научаемое поведение» (когда оно ограничивается человеческими существами) значительно уже значения слова «культура». Про эти определения мы можем сказать, что в них игнорируется «результативный» аспект «культуры». Ибо независимо от того, какое конкретное определение дается культуре, редкие антропологи исключают из ее описания орудия труда, оружие, предметы ритуала и т. п. на том основании, будто бы артефакты не являются ее элементами. Связь между «научаемым поведением» и «культурой» может быть представлена следующей диаграммой (рис. 2), показывающей, почему справедливые определения этой группы — ложные.
Рис. 2. Предлагаемые модификации Логическая проблема, связанная с данными определениями, состоит в том, что существует множество контекстов, в которых слова «культура» и «научаемое поведение» не являются взаимозаменимыми. Я мог бы предложить два способа усовершенствования таких определений. Первый заключается в замене определяющего на «научаемое поведение и его результаты», дабы обеспечить взаимозаменимость его со словом «культура» в гораздо большем числе контекстов. Второй состоит в том, чтобы отойти от обыденного словоупотребления, рассмотреть определение как объяснение и представить доказательства, оправдывающие этот отход. Определения, опирающиеся на понятие идей Некоторые антропологи определяли культуру главным образом через идеи, общие для членов общества. По мнению Кларка Уисслера: «...культура есть определенный комплекс взаимосвязанных идей»14. Аналогичным образом подходит к делу и Джеймс Форд: «... культура может быть в целом определена как поток идей, перетекающий от индивида к индивиду посредством символического поведения, вербального обучения или имитации»15. Рассуждая в том же духе, Уолтер Тейлор говорит: «Под... культурой... я разумею все те интеллектуальные конструкты, или идеи, которые усвоены индивидом или созданы по ходу жизни им самим... Культура... состоит из идей»16.
Эта группа, которую я отношу к классу пояснительных определений, не удовлетворяет третьему и четвертому критерию (согласно которым определяющее должно быть взаимозаменимым с определяемым и обозначать свойства, поддающиеся по меньшей мере косвенному наблюдению). Во-первых, значение определяющего — т. е. слова «идеи» — гораздо уже по сравнению с до-дефиниционным пониманием «культуры». Некоторые из тех археологов, которые определяют «культуру» через идеи, сами же пишут отчеты, в которых найденные при раскопках артефакты описываются как «культурные сокровища». Поэтому оснований считать, будто такой отход от обыденного словоупотребления хоть как-то повысит продуктивность данного понятия, мало. Это еще один случай, когда значение определяющего есть подмножество значения определяемого (см. рис. 3).
Рис.3. Во-вторых (что более важно), эти пояснительные определения «культуры» через «идеи» не просто нарушают наше четвертое правило — ибо идеи невозможно наблюдать, — но и вводят неуместный вопрос об онтологическом статусе культуры. Для модификации определений этой группы предложить ничего нельзя, ибо их основные недостатки — не терминологические, а связаны с принципиальным непониманием функции определений в науке17.
Определения, отталкивающиеся от понятия общего для членов общества (или стандартизированного) поведения Многие определения явно, или неявно, делают основной упор на «поведение, общее для членов общества». Джеффри Горер говорит: «... культура, в антропологическом смысле слова, [есть]... общие для членов общества паттерны (стереотипы) научаемого поведения...»18. Другое аналогичное определение приводится Кимбеллом Янгом: «Культура состоит из общих и более или менее стандартизированных идей, установок и привычек...»19. Еще одно такое определение мы находим у Кларка Уисслера: «... культура есть... совокупность стандартизированных представлений и процедур, которых придерживается племя»20.
Справедливые определения данной группы неадекватны в нескольких отношениях. Во-первых, они не устраняют неясности слова «культура». Сколько человек должны действовать и думать одинаково, чтобы мы были вправе употреблять выражение «общий для членов общества»? Во-вторых, выражение «общее для членов общества поведение» (применительно только к людям) имеет гораздо более узкое значение, нежели слово «культура», поскольку в него не включаются артефакты. В-третьих, некоторые феномены, бесспорно относящиеся к культуре, представляют собой формы поведения, которые могут быть присущи только одному человеку, например, королю или королеве. Соотношение значений выражения «общее для членов общества поведение» и слова «культура» показано на рис. 4.
Предлагаемые модификации Неясность выражения «общее для членов общества поведение» может быть устранена дополнительными рабочими определениями, конкретизирующими минимальное число или процентную долю людей, которые должны проявлять определенный тип поведения, чтобы его можно было назвать «общим для членов общества». Например, некоторых целей можно достичь, если ограничить значение выражения «общее для членов общества поведение» кругом тех действий, в которые вовлечены не менее двух человек. Другие научные задачи могут потребовать того, чтобы выражение «общее для членов общества поведение» использовалось для обозначения только тех действий, которые являются модальными для членов конкретной социокультурной системы. Проблема отсутствия взаимозаменимости слов «общее для членов общества поведение» и «культура» в тех контекстах, в которых фигурируют артефакты и уникальные формы поведения, может быть решена, только если ограничить употребление слова «культура» теми контекстами, в которых возможна взаимозаменяемость. И тогда оно поясняет понятие «культуры», делая его более ясным и продуктивным. Определения, опирающиеся на понятие абстракции поведения Ряд антропологов утверждали, что культура есть абстракция того или иного рода поведения. Наиболее четкие формулировки такого типа даны А. Л. Крёбером и Клайдом Клакхоном. Они говорят: «Культура, следовательно, является абстракцией; культура неизбежно является абстракцией»21; «... поведение, по-видимому... и есть то, в материи чего существует культура и из чего она концептуально вычленяется, или абстрагируется»22. Психолог Джон Доллард говорит: «Культура есть название, данное абстрагированным взаимосвязанным обычаям социальной группы»23. С точки зрения Дэвида Аберле и его соавторов, «культура есть социально переданное поведение, которое перенимается как абстракция от конкретной социальной группы»24.
Прежде чем дать оценку этим утверждениям, необходимо провести различие между двумя значениями слова «абстракция». В первом смысле, мы абстрагируем нечто тогда, когда вычленяем определенный ограниченный класс эмпирических данных из более широкого кластера эмпирических данных, вкупе с которыми он обычно воспринимается, или фокусируем внимание на этом классе данных. Возьмем, к примеру, три разных объекта. Первый имеет синюю окраску, сделан из дерева и имеет плоскую округлую платформу, держащуюся на четырех ножках. Второй объект похож на первый, за исключением того, что имеет красную окраску и сделан из металла. Третий объект подобен первым двум, но его плоская округлая платформа покрыта зеленой кожей и поддерживается деревянными ножками. Теперь, если мы назовем все эти три предмета общим термином «табурет», мы совершим операцию абстрагирования, т. е. ограничим наше внимание свойством обладания плоской округлой платформой на четырех ножках, игнорируя такие свойства, как цвет и материал, из которого табурет изготовлен. Таким образом, мы могли бы сказать, что слово «табурет» есть абстракция, поскольку его значение было получено в результате процесса абстрагирования. Заметьте, однако, что при этом мы ни в коем случае не отрицали «конкретное существование» вещей, к которым отсылает слово «табурет». Далее следует заметить, что мы дали всего лишь имплицитное определение табурета. Толковать его можно следующим образом: слово «табурет» обозначает «плоскую округлую платформу на четырех ножках». Существует также и иное значение слова «абстракция», и в данном случае, вероятно, больше подходит слово «гипотетизация». Как мы видели, при операции абстрагирования мы просто ограничиваем наше внимание определенным классом наблюдаемых данных. Пои гипотетизации же мы употребляем термины для обозначения некоторых предполагаемых — или сконструированных — сущностей, которые в принципе ненаблюдаемы и- обладают ментальным онтологическим статусом. (Когда мы истолковываем эти сконструированные сущности как конкретные вещи, мы совершаем ошибку овеществления.) Взять, к примеру, психоаналитические понятия «ид», «эго» и «супер-эго». Эти термины обозначают определенные сконструированные сущности, введенные для истолкования некоторых типов поведения; о них ни в каком смысле нельзя сказать, что они обозначают наблюдаемые свойства. Иначе говоря, в первом смысле слово называется «абстракцией» даже тогда, когда оно обозначает наблюдаемые свойства, ибо его значение достигается при помощи процедуры абстрагирования. Во втором смысле слово называется «абстракцией» потому, что оно обозначает «абстрактные», или предполагаемые, свойства или сущности. В результате неразличения этих двух значений слова «абстракция» в некоторых антропологических статьях был выдвинут ошибочный аргумент, который можно выразить следующим образом: как культура может определять человеческое поведение, если культура — абстракция? Как может абстракция быть причиной чего-то25?
Этот аргумент содержит ошибку, о которой уже говорилось выше как об ошибке «употребление vs называние». В высказывании «Культура определяет человеческое поведение» слово «культура» употребляется в качестве обозначения ограниченного класса наблюдаемых феноменов. В утверждении же «Культура есть абстракция» содержится называние самого слова «культура» (поскольку абстракцией является именно слово). В свете этих замечаний, слово «культура» в высказывании «Культура есть абстракция от человеческого поведения» может пониматься в двух разных смыслах, которые, однако, часто путают. Иначе говоря, оно здесь двусмысленно. Если понимать «абстракцию» в первом смысле (т. е. как процесс определения значения термина путем абстрагирования), то утверждение «Культура есть абстракция» не является определением «культуры» вообще. Иначе говоря, в нем не объясняется, как использовать слово «культура». Оно представляет собой всего лишь неинформативное утверждение о том, каким образом было выведено значение слова (неинформативное, поскольку значения почти всех слов выводятся путем абстрагирования). С другой стороны, если слово «абстракция» применяется в том значении, в котором мы приравняли его к «гипотетизации», то утверждение «Культура есть абстракция от человеческого поведения» является объяснением надлежащего употребления слова «культура», несущей с собой неудачный метафизический подтекст. Такого рода определения утверждают, что «культура» имеет то же значение, что и такие гипотетические конструкты, как «стереотипы поведения», «образы жизни» и т. п. Итак, эти определения не удовлетворяют второму и четвертому из наших критериев. Рассмотрим абсурдность следующего типичного утверждения, возникающую при подстановке на место слова «культура» выражения «абстрактные паттерны поведения»: «Наконечники стрел, найденные в Нью-Мексико, — одно из наиболее ранних проявлений абстрактных паттернов поведения, обнаруженных в Новом Свете». Следовательно, в этих реальных определениях содержится ложное допущение о взаимозаменимости определяющего (предполагаемых «паттернов» или «стереотипов») и определяемого («культуры»). Кроме того, эти определения не удовлетворяют четвертому критерию, поскольку их определяющее не обозначает наблюдаемых данных. Определения этой группы имеют еще один дополнительный дефект, упоминавшийся при обсуждении определений, отталкивающихся от понятия идей. Этот недостаток вызван тем, что не проводится различие между логическим вопросом «Каким образом употребляется слово 'культура'?» и онтологическим вопросом «Что составляет суть, или природу культуры?» Я не предлагаю ничего для модификации этих определений, поскольку их основной недостаток является по существу не терминологическим. Определения, отталкивающиеся от понятия сверхорганического Согласно Уайту, «культура... образует сверхбиологический, или экстрасоматический, класс явлений...»26. Почти то же самое утверждали Крёбер27 и Лоуи28. Если принять приведенное высказывание в качестве определения, то его следует отнести к классу справедливых определений, устанавливающих, что «культура» означает «сверхбиологическое», или «экстрасоматическое». Это определение (если его считать определением) не отвечает нашему третьему критерию, поскольку его определяющее («экстрасоматическое») не во всех контекстах является взаимозаменимым для слова «культура», как то утверждается. Например, обряды посвящения бесспорно являются элементами культуры и в то же время явно содержат в себе «соматические», или биологические аспекты. Между тем, при рассмотрении контекстов, в которых фигурируют эти утверждения, выясняется, что такие высказывания, как «культура есть сверхорганическое», должны истолковываться не в качестве определений, а в качестве гипотез о том, каким образом можно было бы с- наибольшим успехом объяснить культурные различия. Другими словами, я рассматриваю приведенные выше утверждения как методологические высказывания о феномене культуры, подразумевающие определение слова «культура».
Определение, опирающееся на идею именования класса предметов или явлений Насколько мне известно, утверждения, которые бы открыто определяли «культуру» как слово, употребление которого должно быть тем или иным образом санкционировано, высказывались лишь Уайтом29. Он говорит: «Культура... есть слово, которое мы можем использовать в качестве названия для некоторого класса феноменов — предметов и явлений...»30. Согласно Уайту, «культура» есть наименование класса всех «предметов и явлений, находящихся в зависимости от символизации»31. Это высказывание следует классифицировать как номинальное определение, ибо слово «культура» трактуется таким образом, как будто бы оно не имело до-дефиниционного употребления. Следовательно, вопрос о его истинности или ложности ставить нельзя, а оценивать данное утверждение следует с точки зрения его эвристической ценности, т. е. его эффективности как концептуального инструмента.
В своих многочисленных очерках Уайт систематически и убедительно проработал ряд антропологических проблем, для объяснения которых фактор человеческого организма может считаться функционально неуместным. Показателен следующий пример: как можно объяснить различия в обычаях, институтах и других аспектах человеческого поведения, наблюдаемые в географически отдаленных друг от друга регионах? О такого рода проблемах Уайт пишет: «... если рассматривать человеческое поведение во всей его полноте и во всем его разнообразии, то связь между различиями в обычаях и традициях и различиями в физическом строении тела нигде установить нельзя'... и, следовательно, человека мы можем рассматривать как константу, а культуру — как переменную»32. Опять-таки, обсуждая проблему культурных различий, Уайт говорит: «... мы можем научно рассмотреть их так, как если бы они имели собственное независимое существование. Фактически... [такие проблемы]... наиболее успешно можно решить, если полностью исключить из рассмотрения человеческий организм»33. В свете сказанного выше можно утверждать, что принятие уайтовского определения «культуры» дало бы как минимум логическую возможность рассматривать культурные феномены, не обращаясь к человеческому организму.
Выделив данный критерий оценки эвристической ценности уайтовского определения, мы должны далее тщательно проанализировать его на предмет соответствия формальным требованиям, предъявляемым к номинальным определениям, т. е. требованиям ясности и результативности. В полном виде определение гласит: пусть «культура» обладает тем же значением, что и «класс всех предметов и явлений, находящихся в зависимости от символизации». Фраза «находящиеся в зависимости от» неопределенна, поскольку выражения «необходимое условие» или «достаточное условие» содержали бы больше информации. Однако те контексты, в которых приводится данное определение, позволяют предположить, что данная фраза может быть объяснена следующим образом: пусть «класс всех предметов и явлений, находящихся в зависимости от символизации» имеет то же значение, что и «класс всех предметов и явлений, необходимым условием появления и восприятия которых является символизация». Признав обоснованность данного разъяснения, мы можем сделать следующий шаг и проанализировать термин «символизация». Однако прежде мы должны четко осознать, что логическая структура номинального определения предполагает отсутствие до-дефиниционного значения определяемого. Стало быть, в определении Уайта определяемое «культура» может законно использоваться в качестве обозначения некой сущности в том и только в том случае, если свойства, характерные для этой сущности, конкретизируются определяющим («класс всех предметов и явлений, необходимым условием появления и восприятия которых является символизация»). Итак, определяющее указывает лишь на свойство быть классом, о членах которого известно только то, что они не могли бы ни существовать, ни обладать каким бы то ни было смыслом, не будь у человека уникальной способности пользоваться символами. Эту способность Уайт описывает как «творческую способность... свободно, активно и по собственной воле наделять предметы ценностью»34. Кроме того, нам не дается никакого критерия, который бы помогал определять в непосредственном наблюдении, обязаны ли те или иные предмет или явление своим существованием и смыслом указанной человеческой способности, т. е. являются ли они символами. Фактически нам говорится следующее: «Предмет, который в одном контексте является символом, в другом может быть не символом, а знаком... Это различие должно проводиться [лишь] тогда, когда происходит наделение ценностью... [физического объекта]... или когда прежде приписанная ценность открывается впервые...»35. Другими словами, единственным отличительным свойством того, что обозначается выражением «класс всех предметов и явлений, находящихся в зависимости от символизации», является свойство быть физическим предметом или явлением, на которые тот или иной человеческий организм добровольно реагирует «осмысленным», но несколько произвольным образом. Следовательно, при определении Уайта становится логически необходимым, чтобы слово «культура» употреблялось лишь для обозначения этого символического отношения между тем или иным человеческим организмом и теми или иными вещью или событием.
Таким образом, мы напрямую столкнулись с прагматическим парадоксом: хотя Уайт убедительно рассуждал о широком классе культурных феноменов, которые легче всего поддаются объяснению, «если полностью исключить из рассмотрения человеческий организм», сам термин «культура», согласно его определению, к этим феноменам применяться не может. Предлагаемые модификации Мы показали, что принятие уайтовского определения наложило бы чрезмерные ограничения на употребление слова «культура». Более того, мы показали, что они вытекают из понимания «культуры» как «слова, значение которого мы можем устанавливать произвольно»36 посредством номинального определения. Для того чтобы избежать таких следствий, я предлагаю следующие концептуальные модификации. Во-первых, хотя и верно, что слово «культура», когда оно впервые было введено в антропологический дискурс, употреблялось произвольно, равно очевидно и то, что это слово, по меньшей мере со времен Тайлора, имело конкретное значение (пусть неясное и двусмысленное). А поскольку слово «культура» обладало до-дефиниционным употреблением, то ему следует давать справедливое или пояснительное, но не номинальное определение. Таким образом, высказывание: «'Культура' означает то же самое, что и 'класс предметов и явлений, находящихся в зависимости от символизации'», — не может быть принято в качестве справедливого определения. Как было уже сказано, в реальных определениях и определяющее, и определяемое имеют установившиеся значения, предшествующие приравнивающему их утверждению. Поэтому мы можем пользоваться словом «культура» для обозначения предметов и явлений, которые обладают свойствами, содержащимися в до-дефиниционном значении37, т. е. тех предметов и явлений, которые обычно считают элементами культуры. Выражение «класс предметов и явлений, находящихся в зависимости от символизации» мы можем использовать для обозначения всего, что обладает указанными в нем свойствами, т. е. предметов и явлений, находящихся в символическом отношении к человеческому организму. Таким образом, указанные слова могут употребляться независимо друг от друга, за исключением тех случаев, когда мы подвергаем оценке истинность определения, утверждающего, что они могут использоваться как взаимозаменяемые без ущерба для понимания. Если определение возникает в результате эмпирического исследования словоупотребления, исходя из того что предмет или явление обозначается словом «культура», мы можем обоснованно заключить, что данный предмет или явление обладают свойством поддержания символической связи с человеческим организмом. Кроме того, взаимозамена выражений «класс предметов и явлений, находящихся в зависимости от символизации» и «культура» не только приблизила бы их к обыденному словоупотреблению, но и уменьшила бы неясность употребления последнего выражения, исключив пограничные случаи, располагающиеся на грани символического и несимволического.
Библиография D F Aberle, А К Cohen, А К Davis, M J Levy, Jr, F X Sutton The Functional Prerequisites of a Society // Ethics V 60, 1950, р 100-111 R Benedict Race, Science and Politics Revised edition N Y, The Viking Press, 1945 M Black Critical Thinking N Y, Prentice-Hall, Inc, 1952 R Carnap Foundations of Logic and Mathematics // International Encyclopedia of Unified Science V 1, 1955, р 139-214 M R Cohen, E Nagel An Introduction to Logic and Scientific Method N Y, Harcourt, Brace and Company, 1934 I Copi Introduction to Logic N Y, The Macmillan Company, 1953 A Davis Social-Class Influences upon Learning Cambridge, Harvard University Press, 1948 J Dollard Culture, Society, Impulse, and Socialization // Amencan Journal of Sociology V 45, 1939, р 50-63 J A Ford Cultural Dating of Prehistoric Sites in Viru Valley, Peru // Surface Survey of the Viru Valley, Peru, by J A Ford and G R Willey Anthropological Papers of the American Museum of Natural History V 43 (1), 1949, р 29-89 L J Goldstein On Defining Culture // American Anthropologist V 59, 1957, р 1075-1080 G Gorer The People of Great Russia L , Cresset Press, 1949 A I Hallowell Sociopsychological Aspects of Acculturation // The Science of Man in the World Crisis, ed by Ralph Linton N Y, Columbia University Press, 1945, p 171-200 С Hockett Language and Culture A Protest // American Anthropologist, V 52, 1950, p 113 A L Kroeber The Superorgamc//Amencan Anthropologist, VI 9, 1917, p 163-213 A L Kroeber, С Kluckhohn Culture A Critical Review of Concepts and Definitions // Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology Harvard University, V 47 (1), 1952 R Linton The Study of Man N Y, D Appleton-Century Company, Inc, 1936 R H Lowie Cultural Anthropology A Science // American Journal of Sociology V 42, 1936, p 301-320 В Mahnowski Culture // Encyclopedia of the Social Sciences V 4, 1931, p 621-646 О К Moore Nominal Definitions of «Culture» // Philosophy of Science V 19, 1952, p 245-256 G P Murdock Social Structure N Y, The Macmillan Company, 1949 О Р Murdock, et al Outline of Cultural Materials 3rd edition New Haven, Human Relations Area Files, 1950 W V 0 Quine From a Logical Point of View Cambridge, Harvard University Press, 1953 A R Radcliffe-Brown On Social Structure // Journal of the Royal Anthropological Institute V 70, 1940, p 1-12 E Sapir Culture, Genuine and Spurious // American Journal of Sociology V 29, 1924, p 401-429 М E Spiro Culture and Personality, The Natural History of a False Dichotomy // Psychiatry V 14, 1951, p 19-46 J H Steward Area Research Theory and Practice // Social Science Research Council, Bulletin V 63, 1950 W W Taylor A Study of Archaeology // Memoirs of the American Anthropological Association V 69, 1948 L A White The Science of Culture N Y, Farrar, Straus and Company, 1949 L A White Review of A L Kroeber and С Kluckhohn, «Culture A Critical Review of Concepts and Deimtions» // American Anthropologist V 56, 1954, p 461-468 С Wissler Psychological and Historical Interpretations for Culture // Science V 43, 1916, p 193-201 С Wissler An Introduction to Social Anthropology N Y, Henry Holt and Company, 1929 К. Young Sociology A Study of Society and Culture N Y, American Book Company, 1942 Перевод В Г Николаева Клиффорд Гирц. Влияние концепции культуры на концепцию человека*
I Завершая свое недавнее исследование мировоззрения народов, находящихся на племенной стадии развития, «La Pensee Sauvage», французский антрополог Леви-Стросс замечает, что научное объяснение состоит не в сведении сложного к простому, как нас пытались убедить Скорее, пишет он, оно состоит в подмене сложного, которое трудно понять, сложным же, но которое понять проще Когда речь идет об изучении человека, можно, на мой взгляд, пойти дальше и утверждать, что часто объяснение состоит в подмене простых описаний сложными с попыткой сохранить убедительную ясность, свойственную простым описаниям. Основным научным идеалом, по-моему, служит элегантность, но в общественных науках часто случается, что именно отступление от этого идеала сопутствует творческим прорывам Продвижение в науке обычно состоит в последовательном усложнении того, что когда-то казалось красиво выстроенным рядом умозаключений, но сейчас уже представляется недопустимым упрощением На смену разочарованию приходят осознание и объяснение, которые позволяют заменить то, чго понять трудно, тем, что понять легче, о чем и говорил Леви-Стросс Уайтхед однажды предложил естественным наукам такой афоризм «Ищи простоту, но не верь ей», общественным наукам он мог бы сказать «Ищи сложность и упорядочи ее». Изучение культуры развивалось вроде бы по тому же образцу Развитие научных представлений о культуре восходит к тому моменту, когда была развенчана концепция природы человека, господствовавшая в эпоху Просвещения, — она, как бы к ней ни относиться, была одновременно простой и ясной, — и взамен ей утвердилась концепция не только более сложная, но и совсем не такая ясная. С тех пор все научные рассуждения о культуре пронизаны желанием прояснить ее и сделать концепцию человека более понятной. Достигнув сложности, причем в масштабах гораздо более грандиозных, чем это предполагалось, антропологи увязли в изощренных попытках упорядочить ее. И конца пока не видно. Суть концепции человека, сформировавшейся в эпоху Просвещения, заключалась, как известно, в том, что человек неотделим от природы и что в целом он существует сообразно естественнонаучным законам, которые по наущению Бэкона и под руководством Ньютона тогда же и были раскрыты. Вкратце, природа человека представлялась столь же строго организованной и единообразной, столь же восхитительно простой, как и Вселенная Ньютона. Некоторые законы ее существования могли быть другими, но все же это были законы; ее неизменность могла быть скрыта от глаз ухищрениями местных обычаев, но все же она была неизменна. Цитата из сочинения историка-просветителя Маску, которую я позаимствовал из авторитетного исследования Лавджоя, демонстрирует такую позицию с присущей ей прямотой, столь свойственной второстепенным писателям: «Декорации [в разные времена и в разным местах] действительно меняются, актеры переодеваются и гримируются; но их побуждения формируются все теми же людскими желаниями и страстями, и они все так же воздействуют на судьбы царств и народов»1.
Итак, этой точкой зрения нельзя пренебречь и также нельзя сказать, несмотря на столь легко брошенное мною чуть выше слово «развенчано», что она полностью исчезла из современной антропологической мысли. Точка зрения, согласно которой люди всегда, на любом фоне и под любыми одеждами, остаются людьми, еще не вытеснена полностью представлением «другие нравы, другие твари». Однако в первозданном виде просветительская концепция природы человека имела и гораздо менее приемлемые импликации, согласно наиболее важной из них, теперь процитирую самого Лавджоя, «все то, что может быть понято, проверено, подтверждено лишь по отношению к людям определенного возраста, расы, темперамента, традиции или состояния, не имеет ценности и не представляет интереса»2 Огромное число различий среди людей в их верованиях и в системе ценностей, в обычаях и институтах, обусловленных временем и местом, не имеет значения в определении природы человека Это все приращения, даже искажения, скрывающие от глаз то, что есть человеческого в человеке, — постоянное, общее, универсальное.
Так, например, стало широко известным, что д-р Джонсон увидел гениальность Шекспира в том, что «его характеры не обусловлены обычаями какого-то конкретного места, отличными от всех прочих, особенностями занятий и профессий, которые свойственны лишь немногочисленной группе людей, или случайным стечением обстоятельств и мнений»3. А Расин считал успех своих пьес на классические темы доказательством того, что «вкусы Парижа... сообразны с теми, что были в Афинах; моих зрителей потрясают те же самые вещи, которые в другие времена вызывали слезы на глазах просвещенных классов Греции»4.
В подобной точке зрения нас смущает прежде всего то (если не считать, что в устах столь глубоко английского Джонсона и французского Расина она звучит просто комично), что образ неизменной природы человека, независимой от времени, места и обстоятельств, от занятий и профессии, случайного стечения обстоятельств и мнений, может оказаться иллюзией, что сущность человека может быть так тесно переплетена с тем, где он находится, кто он есть, во что он верит, что отделить ее не представляется возможным. И именно размышления на тему такой вероятности привели к развитию концепции культуры и к развенчанию «универсалистского» взгляда на человека. И что бы ни утверждала современная антропология, — а в разные периоды своего развития она утверждала практически все, — она тем не менее тверда в убеждении, что человека, на которого не повлияли бы обычаи определенного места, практически не существует, никогда не существовало и, что еще более важно, не могло бы в принципе существовать. Нет и не может быть такого места, где-нибудь за кулисами, откуда мы могли бы взглянуть на актеров Маску как на «просто людей», слоняющихся в обычной, уличной одежде, забывших о своей профессии, проявляющих с безыскусной откровенностью свои спонтанные желания и несуфлированные страсти. Они могут сменить роли, стиль исполнения, даже пьесы, в которых играют, но — как заметил сам Шекспир — все они актеры, они всегда играют. Это обстоятельство чрезвычайно затрудняет проведение границы между тем, что естественно, универсально и постоянно в человеке, и тем, что в нем обусловленно, особенно, временно. Строго говоря, оно предполагает, что, проведя такую границу, мы неверно представим, или, по крайней мере, существенно исказим положение человека в мире. Рассмотрим транс у балийцев Балийцы впадают в состояние прострации и в этом состоянии совершают разного рода импозантные действия: они могут откусить голову у живого цыпленка, колоть себя кинжалом, бросаться на землю с диким видом, показывать чудеса эквилибристики, имитировать половой акт, есть фекалии и т.д. — и проделывают все это с большей легкостью и непосредственностью, чем кто-либо из нас ляжет и заснет. Состояние транса у них — главное событие любой церемонии. Некоторые церемонии сопровождаются трансом пятидесяти-шестидесяти человек, которые бросаются на землю друг за другом (по словам одного наблюдателя, «как загораются фейерверки») и приходят в себя по прошествии от пяти минут до нескольких часов, при этом они совершенно не помнят, что делали в это время, но, несмотря на амнезию, убеждены, что пережили самое необычное и приятное состояние, на которое только способен человек. Что можно узнать о природе человека из этого факта и из тысячи других аналогичных диковинных фактов, которые антропологи узнают, изучают, описывают? Что балийцы существа особого рода, марсиане южных морей? Что они в основе такие же, как мы, но имеют странные, случайно возникшие обычаи, которых мы избежали? Что они внутренне, возможно инстинктивно, предрасположены к чему-то особенному, отличному от обычаев и привычек других народов? Или что природа человека как таковая не существует и люди становятся такими, какими их делает культура? В окружении таких, в равной степени неудовлетворительных, интерпретаций антропологии удалось прийти к более продуктивной концепции человека, концепции, которая принимает в расчет культуру и ее вариативность, а не списывает ее со счетов как каприз или предрассудок, и в то же самое время не считает пустой фразой «единство человечества в основе», придерживаясь этой идеи как своего основополагающего принципа. Уйти в сторону от универсалистского взгляда на природу человека значит, по крайней мере постольку, поскольку это касается изучения человека, сойти со сцены. Согласиться с тем, что многообразие обычаев во времени и пространстве это не вопрос смены грима и костюма, декораций и масок, равнозначно тому, чтобы признать человечество столь же вариативным в своей сути, как и в своем внешнем выражении. А тут уже обрываются наиболее крепкие философские якоря и начинается дрейф в неизведанные и опасные воды. Опасные потому, что если отбросить посылку, согласно которой Человек с большой буквы стоит «за», «под» и «поверх» своих обычаев, и подменить ее посылкой, согласно которой человека без большой буквы следует искать где-то «внутри» их, то можно вообще потерять его из виду. Либо он растворяется без остатка в своем времени и пространстве, дитя и полный пленник своего века, либо он становится солдатом-рекрутом толстовской армии, поглощенным какимлибо чудовищным историческим детерминизмом, который со времен Гегеля на нас насылают без счета. Мы уже получили в общественных науках обе эти аберрации, и в некоторой степени они присутствуют до сих пор: одна шествует под знаменем культурного релятивизма, другая — под стягом культурной эволюции. Но мы также пытались, и это для нас более характерно, их избежать, ища в самих паттернах культуры элементы, определяющие существование человека, которые варьируются в своем выражении, но все же несомненно различимы. II Попытки поместить человека внутри его обычаев велись в нескольких направлениях с использованием разных тактик; но все они, или почти все, вписываются в русло единой интеллектуальной стратегии: чтобы с ней было проще расправиться, назову ее «стратиграфической» концепцией отношений между биологическим, психологическим, социальным и культурным факторами в человеческой жизни. Согласно этой концепции, человек состоит из нескольких «уровней», каждый из которых покоится на тех, что находятся ниже него и поддерживает те, что выше. При изучении человека происходит отслаивание слоя за слоем, каждый цельный и самодостаточный, и под каждым пластом скрывается совершенно другой. Соскребите пестрый слой культуры и вы обнаружите структурные и функциональные закономерности социальной организации. Счистите, в свою очередь, и их и увидите внизу психологические факторы — «основные потребности» или что-то в этом роде, — которые их поддерживают и обеспечивают. Снимите психологические факторы, и вот перед вами биологический фундамент — анатомического, физиологического, неврологического характера — всего здания человеческой жизни. Такой подход обеспечивал независимость и суверенитет установившихся академических дисциплин, но, помимо этого, притягательность его состояла в том, что он каждому давал кусок пирога. Необязательно было утверждать, что кроме культуры в человеке ничего нет, ради возможности признать ее существенной и самодостаточной, даже самой главной составляющей природы человека. Культурные факты можно было интерпретировать на фоне некультурных факторов, не растворяя культурные факты в этом фоне и не растворяя фон в них. Человек представлялся иерархически стратифицированным животным, некой созданной эволюцией породой, в которой каждый слой — органический, психологический, культурный — покоился на предписанном и законном месте. Чтобы рассмотреть, что же он собой представляет, нужно было наложить друг на друга результаты исследований разных наук — антропологии, социологии, психологии, биологии — как в муаровой Картинке, а когда это сделано, то кардинальная важность культурного слоя, единственного из всех, который свойствен исключительно человеку, станет очевидной, как и то, что, собственно, мы можем из него почерпнуть о сущности человека. Если антропология XVIII в. создала образ человека как обнаженного резонера, которым он оказывался, скинув с себя покровы культуры, то антропология конца XIX и начала XX в. заменила его образом преображенного животного, которым оказывался человек, набросив их на себя. На уровне конкретного исследования эта общая стратегия сводится, во-первых, к поиску универсалий в культуре, эмпирического единообразия, которое при всем разнообразии обычаев в пространстве и во времени можно было бы наблюдать повсеместно; во-вторых, к попыткам соотнести уже найденные универсалии с известными константами в биологии, психологии и социальной организации человека. Если бы удалось из неразобранного каталога мировой культуры выудить какие-то обычаи, общие для всех локальных вариантов, и установить зависимую связь между ними и некими неизменными координатами, расположенными на субкультурном уровне, тогда можно было бы говорить об успехах на пути вычленения существенных для человечества культурных черт из массы случайно возникших, второстепенных или просто декоративных. Таким путем антропология могла бы определить область культуры в концепции человека, равноправную и соразмерную с областями, выделенными биологией, психологией и социологией. По существу эта идея не нова. Представление о consensus gentium (согласие всего человечества) — о том, что есть некие вещи, которые все люди считают правильными, нормальными, справедливыми, приятными, и что эти вещи поэтому действительно правильны, нормальны, справедливы или приятны, — присутствовало в общественной мысли Просвещения и, весьма вероятно, в той или иной форме было свойственно мышлению человека во все времена и во всех концах Земли. Эта мысль рано или поздно приходит в голову каждому. Тем не менее, ее проникновение в современную антропологию — начиная с разработки Кларком Уисслером в 1920-е годы того, что он сам назвал «универсальный культурный паттерн», через предложение в начале 40-х Брониславом Малиновским списка «универсальных институциональных типов» и кончая исследованием Дж.П.Мёрдока ряда «общих детерминант культуры», проделанным во время и сразу после Второй мировой войны, — добавило кое-что новое. Возникла мысль о том, что, говоря словами Клайда Клакхона, наверное, самого убедительного из теоретиков consensus gentium, «некоторые аспекты культуры принимают специфические формы исключительно вследствие исторической случайности; другие же скроены силами, которые можно по праву назвать универсальными»5. Таким образом культурная жизнь человека разделилась на две части: одна из них, подобно реквизиту актеров Маску, не зависит от ньютоновских «внутренних побуждений» человека, другая же является эманацией этих самых побуждений. В этом случае возникает вопрос: может ли быть устойчивым это здание, стоящее на полпути между XVIII и XX вв.?
Это зависит от того, может ли установиться и поддерживаться дуализм между эмпирически универсальными аспектами культуры, коренящимися в субкультурных реалиях, и эмпирически вариативными аспектами, не имеющими с ними связи. А это, в свою очередь, требует, (1) чтобы предложенные универсалии были существенными, не пустыми категориями; (2) чтобы они зиждились на конкретных биологических, психологических или социологических процессах, а не просто ассоциировались с некими лежащими под ними реалиями; и (3) чтобы не было сомнения, что они принадлежат к числу наиважнейших элементов для определения сущности человечества, по сравнению с которыми более многочисленные культурные особенности, несомненно, казались бы второстепенными. Мне представляется, что с учетом этих трех условий подход, основанный на consensus gentium, несостоятелен; вместо того чтобы приближаться к существенным чертам человечества, он удаляется от них. Первое условие — что предложенные универсалии должны быть существенными, а не пустыми или полупустыми категориями — не было выполнено, потому что выполнено быть не могло. Существует логическое противоречие между утверждением, что, например, «религия», «брак» или «собственность» — это эмпирические универсалии, и приданием им слишком большого значения в смысле содержания, потому что сказать, что это эмпирические универсалии, это все равно, что сказать, что у них одинаковое содержание, а сказать, что у них одинаковое содержание, значит открыто признать факт, что это не так. Если определить религию в целом и безусловно, как наиболее существенный инструмент ориентирования человека в окружающей его действительности, например, то одновременно невозможно приписать ему высокую степень обусловленного содержания; ибо очевидно, что у ацтеков, которые во имя богов вырывают еще пульсирующее сердце из груди предназначенных к жертвоприношению людей, наиболее существенный инструмент ориентирования в действительности отличается от такового у бесстрастных зуньи, которые, чтобы умилостивить богов дождя, устраивают массовые пляски. Всепоглощающий ритуализм и неограниченный политеизм индусов отражает несколько иной взгляд на то, что есть «истинно реально», чем бескомпромиссный монотеизм и строгое соблюдение закона ислама у суннитов. Даже если обратиться к менее абстрактным понятиям и признать, вслед за Клакхоном, что универсальной является концепция загробной жизни, или, вслед за Малиновским, что универсальной является идея божественного промысла, возникает то же самое противоречие. Обобщения, сделанные по поводу идеи загробной жизни, ставят на одну доску конфуцианцев и кальвинистов, цзэнбуддистов и тибетских буддистов; чтобы избежать этого, приходится делать выводы, используя самые общие термины, такие общие, что суть обобщения фактически испаряется. Аналогично и с идеей божественного промысла, которая объединяет свойственное индейцам навахо представление об отношении богов к людям и мировоззрение тробрианцев. То же самое происходит с «браком», «торговлей» и прочим из того, что А.Л.Крёбер уместно называет «псевдоуниверсалиями», и вплоть до такого осязаемого предмета, как «кров». Нельзя считать неверным или с каких-то точек зрения неважным то, что люди повсеместно совокупляются, растят детей, имеют некоторое понятие о своем и чужом и тем или иным способом защищают себя от дождя и солнца; но все это еще не поможет нам нарисовать действительно похожий портрет человека, а не безликую картинку «точка, точка, два крючочка». Моя позиция, которую я надеюсь достаточно ясно изложить, состоит не в том, что невозможны какие-либо обобщения, касающиеся природы человека, помимо того, что он — самое разнообразное животное, или что изучение культуры никоим образом не способствует таким обобщениям. Моя позиция заключается в том, что подобные обобщения невозможны на основании поиска универсалий в культуре в духе Бэкона, своего рода всемирного опроса общественного мнения в поисках consensus gentium, которого на самом деле не существует, и, далее, что такие попытки как раз и ведут к релятивизму, избежать которого вроде бы и надо было при помощи данного подхода. «В культуре зуньи ценится сдержанность, — пишет Клакхон, — в культуре квакиутлей поощряется индивидуальный эксгибиционизм. Эти ценности противоположны друг другу, но, придерживаясь их, и зуньи, и квакиутли демонстрируют приверженность универсальной ценности, уважению к сложившимся нормам своей культуры»6. Это уже явная увертка, но она лишь более очевидна, однако отнюдь не более лукава, чем обсуждение культурных универсалий в целом. Что толку утверждать вместе с Херсковицем, что «мораль — универсалия, равно как и удовлетворение от красоты и то или иное представление об истине», если уже в следующей фразе мы вынуждены вслед за ним добавить: «разнообразные формы, которые принимают эти понятия, созданы особым историческим опытом обществ, в которых они проявляются»7? Когда вы отказываетесь от униформистского подхода, даже если, подобно теоретикам consensus gentium, делаете это осторожно и не до конца, вас реально подстерегает опасность релятивизма; но его можно избежать, если смело взглянуть в глаза разнообразию человеческой культуры, сдержанности зуньи и эксгибиционизму квакиутлей, и включить и то, и другое в концепцию человека, а не пройти мимо, отделавшись ничего не значащей, банальной фразой.
Сложность выявить универсалии в культуре, которые при этом были бы существенными, конечно, препятствует осуществлению второго условия подхода consensus gentium, а именно чтобы эти универсалии основывались на конкретных биологических, психологических или социальных процессах. К тому же здесь возникают свои сложности: «стратиграфическая» концепция отношений между культурными и не-культурными факторами в еще большей степени мешает установлению такой связи. Если культура, психика, социальное и организм уже выделены в обособленные в научном отношении «уровни», самодостаточные и автономные, чрезвычайно трудно снова их соединить. Обычно это делают, прибегая к помощи так называемых «неизменных точек референции» («invariant points of reference»). Их следует искать, как гласит одно из самых известных руководств в подобной стратегии, меморандум «К поиску общего языка в области общественных наук», написанный Толкоттом Парсонсом, К.Клакхоном, О.Г. Тэйлором и др. в самом начале 1940-х годов, «в природе социальных систем, в биологической и психологической природе составляющих индивидов, во внешнем окружении, где они живут и действуют, в необходимости координировать социальные системы. В [культуре]... нельзя игнорировать «узлы» структуры. Надо к ним так или иначе «приспосабливаться», «принимать их во внимание». Предполагается, что универсалии в культуре — это выкристаллизовавшиеся ответы на эти неизбежные реальности, институализированные способы согласованного сосуществования с ними. Таким образом, анализ сводится к тому, чтобы соотнести предполагаемые универсалии с признанными базовыми потребностями и при этом доказать, что между ними есть соответствие. На социальном уровне обычно ссылаются на тот неоспоримый факт, что все общества, дабы продолжать свое существование, должны воспроизводить население и распределять товары и услуги, этим объясняется универсальный характер семьи и тех или иных форм торговли. На психологическом уровне апеллируют к таким базовым потребностям, как персональный рост — этим объясняется повсеместность институтов образования, или, к общечеловеческим проблемам, таким как Эдипов комплекс, — это обусловливает универсальность идеи карающих богов и заботливых богинь. В биологии есть обмен веществ и здоровье; в культуре им находят соответствие в обычаях, связанных с приемом пищи, и в обрядах исцеления. И так далее. Все дело в том, чтобы найти ту или иную базовую потребность и далее постараться показать, что те аспекты культуры, которые универсальны, «скроены», если использовать образ Клакхона, этими потребностями. И опять же проблема заключается не столько в том, существует ли в целом такого рода зависимость, сколько в том, в какой степени обусловлен ее характер. Несложно соотнести некие институты человечества с тем, что, как подсказывает наука (или здравый смысл), является условиями человеческого существования, но гораздо сложнее доказать неслучайный характер этой связи. И дело не только в том, что каждый институт отвечает целому ряду социальных, психологических и органических потребностей (утверждать, что брак — рефлекс, выработанный социальной потребностью воспроизводства, или что застольные ритуалы отвечают на метаболические потребности организма, — это пародия на такой подход), но и в том, что нет возможности точным и выдерживающим проверку способом постулировать устойчивые «межуровневые» взаимосвязи. Вопреки тому что может показаться, при этом нет попыток действительно применить понятия и законы из области биологии, психологии или даже социологии к анализу культуры (не говоря уже об обратной связи), просто сопоставляются некоторые факты культурного и субкультурного уровней, чтобы в самом общем смысле намекнуть на наличие между ними связи. Теоретической интеграции при этом не получается, лишь простая корреляция, и та выводится чисто интуитивно и субъективно. При таком «уровневом» подходе мы, даже привлекая «неизменные точки референции», никогда не сможем воссоздать действительно функциональные связи между культурными и не-культурными факторами, а будем строить более или менее убедительные аналогии, параллелизмы, предположения и сближения. И все же, даже если я ошибаюсь (в этом, я думаю, меня обвинят многие антропологи), утверждая, что подход consensus gentium не способен выявить ни существенных универсалий, ни объясняющих их конкретных связей между культурными и не-культурными феноменами, все равно еще не ясно, можно ли такие универсалии признать центральными элементами в определении человека, и нужно ли вообще рассматривать человечество исходя из концепции «общего знаменателя». Таким образом, из научной этот вопрос переходит в философскую плоскость; но все равно представление, будто суть человеческого существования с большей четкостью проявляется в тех чертах культуры человека, которые считаются универсальными, а не в тех, что являются специфическими для того или иного народа, — это предрассудок, который мы вовсе не обязаны разделять. Постигнем ли мы эту суть, осознав некую общую идею — например, что у людей повсеместно есть какая-нибудь «религия», — или познав все богатство того или иного религиозного феномена — балийского транса или ритуализма индейцев, человеческих жертвоприношений ацтеков или плясок дождя зуньи? И что убедительнее свидетельствует о нашей сути, тот факт, что «брак» имеет универсальный характер (если это так), или факты, касающиеся полиандрии у гималайских народов, или фантастические обычаи, связанные с браком у австралийцев, или сложные системы выкупа за невесту у народа банту в Африке? По одним и тем же поступкам Кромвеля можно считать самым типичным англичанином своего времени или самым необычным: а вдруг как раз в особенном в культуре людей, в их странностях можно разглядеть их человеческую сущность; важнейший же вклад науки антропологии в конструкцию (или реконструкцию) концепции человека — показать, как это сделать. III Столкнувшись с проблемой определения человека, антропологи бежали от культурных особенностей и спрятались под покровом бесплотных универсалий, главным образом потому, что перед лицом огромного многообразия человеческого поведения они убоялись историзма, опасности потеряться в дебрях релятивизма, и страх этот был столь велик, что начисто лишил их надежной опоры. Убоялись они этого не без основания: книга Рут Бенедикт «Модели культуры», самое популярное антропологическое сочинение из изданных в США, со странным выводом, будто, всё, что принято делать у одной группы людей, достойно уважения другой группы людей, явила собой пример того, в каком неловком положении можно оказаться, самозабвенно предавшись тому, что Марк Блок назвал «чудом изучения конкретных вещей». Но это не опасность, а пугало. Представление, будто культурный феномен не может говорить чего-либо о природе человека, не будучи эмпирически универсальным, с точки зрения логики равноценно утверждению, будто серповидноклеточная анемия, не будучи, к счастью, универсальной болезнью, не может ничего сказать о генетических процессах у людей. И вовсе не эмпирическая распространенность явления представляют особый интерес для науки — иначе с чего бы стал Беккерель Интересоваться специфическим поведением урана? — а то, что это явление может сказать об обусловивших его природных процессах. Не только поэты могут увидеть небо в песчинке. Короче говоря, нам следует искать систематические связи между разными феноменами, а не устойчивую тождественность среди сходных. И чтобы наши поиски увенчались успехом, мы должны заменить «стратиграфическую» концепцию взаимоотношений разных аспектов человеческого существования синтетической; т. е. такой, которая рассматривала бы биологический, психологический, социологический и культурный факторы как переменные в рамках единой системы анализа. Введение общего языка в общественные науки не сводится к простой терминологической координации или, того хуже, к искусственному созданию новых терминов; не сводится оно и к навязыванию единой системы категорий на всю область исследования. Смысл его в том, чтобы создавать разные типы теорий и понятий таким образом, чтобы можно было формулировать значимые предложения, заключающие в себе изыскания из разных областей исследования. Чтобы начать интегративную работу со стороны антропологии и тем самым сделать образ человека более точным, я хочу предложить две идеи. Первая заключается в том, что культуру лучше рассматривать не как комплексы конкретных паттернов поведения — обычаев, традиций, кластеров привычек, — как это, в общем, было принято до сих пор делать, а как набор контрольных механизмов — планов, рецептов, правил, инструкций (того, что компьютерщики называют «программами»), — управляющих поведением. Вторая моя идея заключается в том, что человек — это животное, в своем поведении самым драматическим образом зависящее от таких экстрагенетических контрольных механизмов, от таких культурных программ. Ни одна из этих идей не является совершенно новой, но некоторые недавние открытия, сделанные и в антропологии, и в других науках (в кибернетике, теории информации, неврологии, молекулярной генетике), снабдили их точными формулировками и подкрепили эмпирическими данными. Новая формулировка понятия культуры и роли культуры в жизни человека, в свою очередь, по-новому формулирует и определение человека, делая основной упор не на эмпирических общих местах в его поведении, в разных местах и в разные времена, но более на механизмах, при помощи которых широта и всеохватность присущих ему способностей редуцируются до узости и конкретности его реальных достижений. Самым примечательным в нас может в конечном счете оказаться то, что мы все начинаем свою жизнь, обладая задатками прожить тысячи разнообразных жизней, но кончаем, прожив лишь одну. Концепция «контрольных механизмов» начинается с предположения, что человеческая мысль в основе имеет одновременно общественный и публичный характер: естественная для нее среда обитания — это двор, рынок, городская площадь. Мышление состоит не из «того, что пришло в голову» (но время от времени это бывает необходимо, хотя бы для того, чтобы начать этот процесс), а из постоянного движения того, что Дж.Г.Мид и другие назвали означающими символами, — главным образом это слова, а также жесты, музыкальные звуки, механические устройства вроде часов, естественные предметы вроде драгоценных камней — в общем чего угодно, что вырвано из обычного контекста и используется для придания значения опыту. Конкретный индивид воспринимает такие символы как данность. Их движение уже происходило, когда он родился, и оно все еще продолжается с некоторыми прибавлениями, убавлениями, частичными изменениями, к которым он мог приложить, а мог и не приложить руку, после его смерти. Пока он живет, он их использует, иногда преднамеренно и со знанием дела, иногда импульсивно и просто так, но всегда с одной целью: структурировать события, которые он проживает, сориентироваться среди «текущего ряда познаваемых опытным путем предметов», как сказал бы Дьюи. Эти символические источники света необходимы человеку, чтобы ориентироваться в мире, потому что несимволические, заложенные природой в его организм, дают слишком рассеянное освещение. Паттерны поведения низших животных в значительной степени обусловлены их физиологией; генетические источники информации модулируют их действия со значительно меньшим числом вариаций, и тем меньше их и тем они менее последовательны, чем на более низкой ступени развития находится это животное. В человеке же внутренне заложены лишь самые общие ответные реакции, которые, хотя и допускают значительную пластичность, сложность и, в тех редких случаях, когда все происходит так, как положено, эффективность поведения лишь очень приблизительно регулируют его действия. И в этом еще одна сторона нашей идеи: не руководствуясь паттернами культуры — упорядоченными системами означающих символов, — человек вел бы себя абсолютно неуправляемо, его поведение представляло бы собой хаос бессмысленных действий и спонтанных эмоций, его опыт был бы совершенно неоформленным. Культура, накопленная сумма таких паттернов, — это не просто украшение человеческого существования, но—и это принципиально важно для определения ее специфики — важнейшее его условие. Самые убедительные аргументы в поддержку такой позиции дают антропологам недавние открытия, уточнившие наше понимание того, что принято называть происхождением человека: а именно выделение Homo sapiens из остальных приматов. Особенно важное значение имели три открытия: 1) отказ от взгляда на характер отношений между физической эволюцией и культурным развитием человека как на последовательный процесс и признание этого процесса совмещением или взаимодействием; 2)выяснение, что основная масса биологических изменений, создавших современного человека и выдвинувших его из его непосредственных предков, произошла в центральной нервной системе, особенно в головном мозге; 3) понимание, что человек, с точки зрения физиологии, является неполным, незавершенным животным; и главное, что отличает его от животных, это не его способность учиться (она действительно необычайна), а то, сколь многому и чему именно приходится ему научиться, прежде чем он сможет самостоятельно функционировать. Попробую уточнить каждое из этих положений. Традиционная точка зрения на характер отношений между биологическим и культурным развитием человека признавала, что первое, т.е. биологическое развитие, в общем и целом завершилось прежде, чем началось второе, т.е. культурное развитие. Можно этот взгляд тоже назвать стратиграфическим: физически человек развивался согласно обычным законам генетических мутаций и естественного отбора до тех пор, пока не достиг того уровня развития, в котором пребывает и сегодня; и тогда началось культурное развитие. На одной из ступеней его филогенетического развития произошло некое маргинальное генетическое изменение, сделавшее возможным создание и накопление культуры, и благодаря этому адаптивные реакции приспособления человека к окружающей среде приобрели исключительно культурный, а не генетический характер. Расселяясь по земному шару, он стал носить меха и шкуры в местах с холодным климатом и набедренные повязки (или вообще ничего) там, где жарко; реакция же его организма на температуру окружающей среды не изменилась. Он начал изготавливать оружие, чтобы распространить свое хищное владычество на другие территории, и приготавливать пищу, чтобы расширить ее ассортимент. Человек человеком, гласит далее этот рассказ, и затем он перешел некий умственный Рубикон и приобрел возможность передавать «знания, верования, искусства, нравственность, законы и обычаи» (следуя знаменитому определению культуры, принадлежащему сэру Эдуарду Тайлору) своим потомкам и соседям посредством обучения и перенимать их от предков и соседей тоже посредством обучения. Начиная с этого чудесного момента развитие гоминидов стало целиком и полностью зависеть от накопления культуры, от медленных изменений в основных производственных процессах, а не, как это было раньше, от физических изменений его организма. Единственная сложность заключается в том, что такого момента, по всей видимости, не существовало. По самым последним данным, переход к культурному образу жизни занял у рода Homo несколько миллионов лет; и, очевидно, что за столь долгий срок произошло не одно и не несколько генетических мутаций, а целый длинный, сложный, последовательно организованный их ряд. По современным сведениям, эволюция Homo sapiens — современного человека — от своего непосредственного нечеловеческого предка началась почти четыре миллиона лет назад с появлением ставшего теперь знаменитым австралопитека — так называемого обезьяночеловека южной и восточной Африки — и завершилась появлением sapiens лишь 100, 200 или 300 тысяч лет тому назад. Таким образом, получается, что, поскольку самые элементарные формы культурной, или, если вам так больше нравится, протокультурной деятельности (изготовление простейших орудий труда, охота и т.д.) присутствовали в жизни некоторых австралопитеков, произошло совмещение по крайней мере на миллион лет развития культуры и изменения человека до современного внешнего вида. Точные даты — а они носят предварительный характер и будут уточняться дальнейшими исследованиями в ту или иную сторону — не имеют принципиального значения; принципиально то, что совмещение было и оно захватило довольно существенный промежуток времени. Завершающие стадии (по времени, во всяком случае) филогенетического развития человека происходили в ту же великую геологическую эру — это так называемая ледниковая эпоха, — что и начальные стадии его культурной истории. У людей есть дни рождения, но у человека нет. Все это означает, что культура стала не довеском, если можно так выразиться, к уже готовому или практически готовому человеку, а была причастна, и притом самым существенным образом, к производству этого животного. Медленное, устойчивое, можно сказать, скользящее развитие культуры во времена ледниковой эпохи меняло соотношение сил в естественном отборе таким образом, что фактически сыграло решающую роль в эволюции Homo. Совершенствование орудий труда, освоение навыков коллективной охоты, развитие собирательства, зарождение семейной организации, использование огня и, главное, хотя это очень трудно проследить, все большая зависимость от систем означающих символов (язык, искусство, миф, ритуал) в ориентации, коммуникации и контроле — все это сотворило для человека новую окружающую среду, к которой он был вынужден адаптироваться. По мере того как шаг за шагом, с микроскопической скоростью, культура кумулировала и развивалась, те особи в популяции, которые могли ею воспользоваться, получали преимущества при естественном отборе — это были искусные охотники, упорные собиратели, ловкие производители орудий труда, изобретательные вожаки — и так продолжалось до тех пор, пока проточеловеческий австралопитек, обладавший небольшим объемом мозга, превратился в абсолютно человеческого Homo sapiens, объем мозга которого был значительно больше. Возникла система обратной связи между культурным паттерном, организмом и мозгом, каждый из них участвовал в формировании и способствовал развитию каждого; одним из показательных примеров этой связи может служить взаимодействие между прогрессом в использовании орудий труда, меняющимся анатомическим строением кисти руки и увеличением проекции пальца в коре головного мозга. Создав для себя символически опосредованные программы, управляющие производством артефактов, организацией общественной жизни, выражением эмоций, человек предопределил, пусть нечаянно, кульминационные стадии своего биологического предназначения. Он создал себя очень грамотно, хотя и невольно. Как я уже писал, в анатомии рода Homo за период его кристаллизации произошел ряд существенных изменений в форме черепа, расположении зубов, размере большого пальца рук и т.д., однако наиболее важные и существенные изменения произошли в его центральной нервной системе, потому что именно в этот период мозг человека, особенно передний мозг, достиг современных пропорций. Здесь не все ясно в отношении технических подробностей, но главное заключается в том, что, хотя у австралопитека строение торса и руки не сильно отличались от того, что мы имеем сегодня, а строение таза и ноги развивалось в направлении того, что есть сегодня, объем черепа у него был не намного больше, чем у современных ему обезьян, т.е. составлял примерно треть с половиной нашего. Так что настоящих людей от пралюдей наиболее существенным образом отличает не строение тела, а сложность нервной организации. Период совмещения культурных и биологических изменений заключался, по всей видимости, в интенсивном неврологическом развитии и, возможно, в связанных с этим изменениях в поведении — развитии кисти руки, прямохождения и т.д., анатомический фундамент для которых: подвижность плеч и локтей, расширенный илиум (седалищная кость) и др., уже был заложен. Само по себе это не так впечатляет; но в совокупности с приведенными выше рассуждениями это приводит нас к некоторым выводам по поводу того, что за животное есть человек. И эти выводы, по моему мнению, чрезвычайно далеки не только от взглядов XVIII в., но и от тех, что разделяли антропологи всего десять-пятнадцать лет тому назад. Грубо говоря, это наводит нас на мысль о том, что не существует природы человека, независимой от его культуры. Люди без культуры были бы вовсе не умными дикарями из «Повелителя мух» Голдинга, отброшенными назад жестокой мудростью своих животных инстинктов; не были бы они и благородными «естественными людьми» в духе примитивизма эпохи Просвещения, они даже не были бы, как следует из классической теории антропологии, чрезвычайно одаренными обезьянами, которым по некоторым причинам не удалось себя осуществить. Они были бы недееспособными чудовищами, обладающими очень незначительным числом полезных инстинктов и еще меньшим числом чувств при полном отсутствии интеллекта: умственными инвалидами. По мере того хак развивалась нервная система — особенно наша основная гордость, так называемая новая кора головного мозга, — в значительной степени во взаимодействии с культурой, она утратила способность направлять наше поведение и организовывать наш опыт в отсутствии руководства со стороны систем означающих символов. В ледниковую эпоху с нами случилось то, что мы вынуждены были отказаться от регулярности и точности детального генетического контроля над нашим поведением в пользу гибкости и больших адаптивных возможностей более общего, но от этого не менее реального, генетического контроля. Чтобы обеспечить себя дополнительной информацией для руководства к действию, мы были вынуждены, в свою очередь, в большей степени полагаться на культурные источники — аккумулированную сумму означающих символов. Таким образом, эти символы — не просто выражения, инструменты или корреляты нашего биологического, психологического и социального бытия; они — его предпосылки. Без людей не было бы культуры, это точно; но что более примечательно, без культуры не было бы людей. Так что мы неполные, незавершенные животные, и мы сами себя завершаем посредством культуры, и не посредством культуры как целого, а посредством ее очень конкретных форм: добуанской или яванской, хопи или итальянской, культуры привилегированных слоев общества или простонародной, академической или коммерческой. Неоднократно отмечалась выдающаяся способность человека к обучению, но еще более примечательна его необычайная зависимость от особого рода обучения: усвоения понятий, восприятия и применения специфичных систем символического значения. Бобры строят плотины, птицы — гнезда, пчелы находят пищу, бабуины создают социальные группы, а мыши спариваются на основании форм обучения, коренящихся, главным образом, в командах, закодированных в их генах и актуализированных соответствующими внешними стимулами: физическими ключами, вставляющимися в органические замки. Однако люди строят плотины или укрытия, находят себе пищу, организуют свои социальные группы и находят сексуальных партнеров на основании инструкций и команд, закодированных в картах рек и планах, обычаях охоты, системах морали и в эстетических суждениях: в концептуальных структурах, формирующих их аморфные способности. Мы живем, как остроумно подметил один писатель, в «информационной бреши». Между тем, что подсказывает нам наш организм, и тем, что мы должны знать, чтобы адекватно поступать, находится пустое место, которое мы должны сами заполнить, и мы заполняем его информацией (или дезинформацией), которую дает нам культура. Граница между тем в поведении человека, что контролируется изнутри, и тем, что контролируется посредством культуры, не определена и постоянно колеблется. Кое-что, независимо от целей и намерений, полностью контролируется изнутри: нам точно так же не нужен контроль со стороны культуры, чтобы научиться дышать, как рыбе — чтобы научиться плавать. Кое-что почти полностью контролируется культурой: мы даже не пытаемся объяснить на генетическом уровне, почему одни предпочитают централизованное планирование, а другие — рыночную экономику, хотя это может быть довольно забавно. Но, конечно, почти все сложное поведение человека является результатом взаимодействия того и другого. Наша способность говорить, безусловно, обусловлена изнутри; способностью говорить поанглийски мы обязаны культуре. То, что, реагируя на приятные раздражители, мы улыбаемся, а на неприятные — хмуримся, конечно, до определенной степени обусловлено генетически (даже обезьяны начинают скрести свою морду, когда чувствуют вредный для себя запах); но сардоническая улыбка или нарочито хмурая гримаса точно в такой же степени безусловно обусловлены культурой. В подтверждение этому можно сказать, что балийцы определяют сумасшедшего как человека, который, подобно американцам, улыбается, когда смеяться вроде бы не над чем. Между тем планом нашей жизни, что заложен генетически — возможностью говорить или улыбаться, и тем, что мы на самом деле делаем и как поступаем — говорим по-английски определенным тоном голоса или загадочно улыбаемся, попав в деликатную социальную ситуацию, лежит комплекс значимых символов, которые направляют наши действия, когда мы трансформируем первое во второе, общий план в действие. Наши идеи, ценности, действия и даже наши эмоции, так же как и наша нервная система, — продукты культуры, произведенные на основе тех тенденций, возможностей и склонностей, с которыми мы родились, но все же произведенные. Шартрский собор сделан из камня и стекла. Но он несводим к камню и стеклу; это собор, и не просто собор, а определенный собор, построенный в определенное время конкретными членами определенного общества. Чтобы понять его значение, понять, что он есть, нужно знать не только свойства, органически присущие камню и стеклу, и еще нечто большее, чем свойства, общие для всех соборов. Необходимо понимать — и, на мой взгляд, критически оценивать — конкретные представления об отношениях между Богом, человеком и архитектурой, которые воплощены в соборе постольку, поскольку под руководством этих представлений он был возведен. И то же самое происходит с людьми: даже самый последний человек — артефакт культуры. IV Как бы ни были различны подходы к определению природы человека, свойственные просветителям и классикам антропологии, одно у них общее: в основе оба типологичны. Они стремятся создать образ человека как модель, архетип, платоническую идею или аристотелевскую форму, по отношению к которой каждый настоящий человек — вы, я, Черчилль, Гитлер или охотник за головами с Борнео — будет лишь отражением, искажением, приближением. Просветители достигали этого, снимая покровы культуры с конкретного человека и наблюдая, что остается — природный человек. Классики антропологии, — вынося за скобки общее в разных культурах, — и наблюдая, что получается, — консенсусный человек. И в том и в другом случае результат тот же, который обычно достигается при всех типологических подходах к научным проблемам: различия между индивидами и между группами индивидов отходят на второй план. Индивидуальность представляется сродни эксцентричности, индивидуальные отличия — случайными отклонениями от единственно законного объекта изучения для настоящего ученого: основного, неизменного, нормативного типа. При таком подходе, как бы изысканно он ни был сформулирован и какими бы надежными источниками не обеспечен, живая деталь всегда растворяется в мертвом стереотипе: мы заняты поисками метафизического единства, Человека с большой буквы, и ради этого мы жертвуем эмпирическим единством, с которым мы в действительности встречаемся, — человеком с маленькой буквы. Однако эта жертва не необходима и в равной степени бесполезна. Не существует оппозиции между целостным теоретическим и конкретным практическим пониманием, между общим видением и интересом к деталям. О научной теории, а фактически и о самой науке следует судить по ее способности делать общие выводы на основании конкретного явления. Если мы стремимся установить, что такое человек, то сделать это мы можем, лишь увидев, что представляют собой люди, а люди, помимо всего прочего, еще и очень разные. И понимание этого разнообразия — его спектра, природы, основы и всех импликаций — приведет нас к созданию концепции природы человека, которая будет обоснована и верна в большей степени, чем статистический призрак или примитивистская мечта. И вот, наконец, я подошел к тому, что заявлено в заглавии, а именно, что концепция культуры влияет на концепцию человека. Если рассматривать ее как символический механизм для контроля над поведением, экстрасоматический источник информации, культура осуществляет связь между тем, чем каждый человек может стать, исходя из присущих ему способностей, и тем, чем он на самом деле становится. Стать человеком — это значит стать индивидом, обрести индивидуальность, а индивидуальность мы обретаем, руководствуясь паттернами культуры, исторически сложившимися системами значений, с точки зрения которых мы придаем форму, порядок, смысл и направление нашей жизни. Задействованные при этом паттерны культуры имеют не общий, а специфический характер: не просто «брак», но конкретный набор представлений о том, каковы должны быть мужчины и женщины, как супруги должны относиться друг к другу, кто и с кем должен вступать в брак; не просто «религия», а вера в колесо кармы, соблюдение месячного поста или жертвоприношение домашнего скота. Нельзя определять человека, исходя исключительно из внутренне присущих ему наклонностей, как это пытались делать просветители, или же исходя из его фактического поведения, к чему в значительной степени стремятся современные общественные науки; нужно искать связь между тем и этим, которая трансформирует первое во второе, и наибольшее внимание обращать на специфические особенности этого процесса. Лишь в жизненном пути человека, в его конкретных особенностях можно рассмотреть, пусть весьма неотчетливо, его природу, и хотя культура — лишь один из элементов, определяющих жизненный путь, но все же далеко не последний. Культура формировала и продолжает формировать нас как биологический вид, и аналогичным образом она формирует каждого индивида. И именно это в нас общее, а не неизменное субкультурное естество и не выявленный кросскультурный консенсус. Как это ни странно, — однако, если подумать, это совсем не странно, — многие из тех, кого мы изучаем, понимают это лучше, чем сами антропологи. На Яве, например, где я много работал, люди категорически заявляли: «Быть человеком значит быть яванцем». Про малых детей, людей придурковатых, грубых, сумасшедших, явно безнравственных там говорят, что они ndurung djawa, «еще не яванцы». А «нормальный» взрослый, умеющий поступать согласно сложнейшей системе этикета, обладающий тонким эстетическим восприятием музыки, танца, драматического действа, рисунка ткани, чуткого к малейшим пожеланиям божества, обитающего в тиши сознания каждого индивида, — это sampun djawa, «уже ставший яванцем», т.е. уже человек. Быть человеком не значит просто дышать; это значит контролировать свое дыхание, прибегая к методике, подобной йоговской, так, чтобы при каждом вдохе и выдохе слышать голос Бога, называющего имя: «Он Аллах». Это значит не просто разговаривать, но произносить соответствующие слова и предложения в соответствующих социальных ситуациях соответствующим тоном голоса, прибегая к соответствующим приемам иносказания или умолчания. Это значит не просто есть, но отдавать предпочтение некоторым видам пищи, приготовленной определенным образом, и при этом соблюдать строгий застольный этикет во время еды. И это значит не просто ощущать, но испытывать особые, абсолютно яванские (и совершенно непереводимые) эмоции — «терпение», «равнодушие», «смирение», «уважение». Быть человеком здесь означает быть не рядовым, средним, а особым, неповторимым человеком, а люди бывают разные: «Другие поля, — говорят яванцы, — другие кузнечики». Различия внутри общества признаются: крестьянин, выращивающий рис, становится человеком и яванцем совсем не так, как этого достигает чиновник государственной службы. И это не вопрос терпимости или этического релятивизма, ибо далеко не все пути становления человека считаются в равной степени достойными уважения; например, то, как этого достигают местные китайцы, вызывает всеобщее неодобрение. Но главное в том, что существуют разные пути; если же взглянуть на это с точки зрения антрополога, то лишь систематический анализ всего — бравурности индейцев равнин, французского рационализма, анархизма берберов, оптимизма американцев (можно перечислить еще ряд ярлыков, которые я вовсе не намерен здесь отстаивать) — поможет нам понять, что, собственно говоря, значит или может значить «быть человеком». Одним словом, если мы хотим непосредственно познать человечество, мы должны опуститься до деталей, пренебрегая многими ложными ярлыками, метафизическими типами, пустыми аналогиями, и твердо уяснить существенный характер не только разных культур, но и разных видов индивидов внутри каждой культуры. И в этой области путь к общему, к относительному упрощению науки лежит через изучение особенного, обусловленного конкретными обстоятельствами, но через изучение, организованное и направляемое исходя из позиций теоретического анализа, о котором я здесь писал, — анализа физической эволюции, функционирования нервной системы, социальной организации, физиологических процессов, паттернирования культуры и т.д. — и, что особенно важно, исходя из признания взаимодействия между этими явлениями. А это значит признать, что путь, как путь всякого настоящего Поиска, чудовищно запутан. «Оставьте его в покое на несколько минут», — пишет Роберт Лоуэл не об антропологе, как было бы уместно предположить, но о другом чудаковатом исследователе природы человека, о Натаниеле Готорне. Оставьте его в покое на несколько минут, И вы увидите его с склоненной головой. В тяжелых думах Он смотрит на щепу, На камешек простой, на сорную траву, На самую простую вещь, Как будто в ней вся суть. Он поднимает взор, И в нем испуг, вопрос, Он не желает отрываться От размышлений об истинном И не очень важном8.
Так и антрополог размышляет с головой, склоненной над щепой, камушком простым, над сорной травой, об истинном и не очень важном, видя в этом, как он считает, ускользающий и расплывчатый, тревожный и изменчивый свой собственный образ. Перевод Е.М. Лазаревой КОНЦЕПЦИЯ НАУКИ О КУЛЬТУРЕ Лесли А.Уайт. Наука о культуре'
«В течение последнего столетия становится все очевиднее, что культура представляет собою... определенную область, изучение которой требует особой науки...» Р.Г.Лоуи, Культурная антропология: наука. «Специфически человеческие особенности, отличающие род homo sapiens от всех прочих животных видов, охватываются наименованием «культура»; следовательно, науку о специфически человеческих способах деятельности вполне можно было бы назвать культурологией...» Вильгельм Оствалъд, Принципы теории образования. Всякий живой организм, чтобы жить и воспроизводить себе подобных, должен осуществлять определенный минимум приспособления (adjustment) к своей окружающей среде. Один из аспектов этого процесса приспособления мы именуем «пониманием» (understanding). Мы, как правило, не пользуемся этим термином, говоря о более низких формах жизни, таких, например, как растения. Однако и растения делают нечто подобное тому — или даже, говоря точнее, то же самое, — что делают люди в том контексте, к которому мы прилагаем слово «понимание». Научные наблюдения и эксперименты над обезьянами делают совершенно очевидным, что их поведению присущи качества, которые мы может назвать только «инсайтом» или «пониманием»; более чем вероятно, что другие млекопитающие, менее развитые, чем человек (sub-human), также обладают этими свойствами. Однако только у человека как вида мы находим понимание как процесс приспособления, осуществляемый символическими средствами. В символе процесс биологической эволюции приводит к метасенсорному механизму приспособления. Все близкие к человеку виды вынуждены осуществлять свое приспособление при помощи значений, улавливаемых и интерпретируемых органами чувств. Человек же способен выходить за пределы чувственных впечатлений; он может воспринимать и истолковывать свой мир с помощью символов. Благодаря этой способности он достигает понимания и осуществляет приспособление на уровне более высоком, чем любое другое животное. Его понимание несравнимо богаче, чем у высших обезьян, и он легко делится им со своими сородичами. Таким образом, в зоологическом мире возник новый тип понимания и приспособления. Использование нейро-сенсорно-символической способности в процессе приспособления находит выражение в словесных формулах, которые мы могли бы назвать воззрениями. Совокупность воззрений какой-либо группы людей мы обозначаем как их философию. Следовательно, философия — это сложный механизм, посредством которого известный род животного, человек, приспосабливается к земле, лежащей у него под ногами, и к окружающему его космосу. Философия, разумеется, тесно связана с прочими аспектами той культурной системы, лишь частью которой она является: с технологией, социальной организацией, формами искусства. Однако здесь нас интересует философия как таковая, как некая техника истолкования, как способ сделать мир понятным, чтобы взаимодействие с этим миром стало величайшим преимуществом человека. Философия, как и культура в целом, возникла и развилась в течение многих веков, с тех пор, как человек начал пользоваться символами (to symbol). Философия — инструмент, предназначенный и используемый для некоторой цели. В этом отношении она ничем не отличается от топора. Одна философия может быть лучше, — быть лучшим инструментом истолкования и приспособления, — нежели другая, в точности так же, как один топор может быть лучшим орудием труда, чем другой. Философия развивалась прогрессивно, так же. как и топоры, и вся культура в целом. В предыдущих главах я пытался изложить или по меньшей мере показать кое-что из истории этого развития. Первые люди интерпретировали предметы и события с точки зрения собственной психики (psyches). Они, однако, не осознавали этой позиции; напротив, они особенно настаивали на том, что сознание (mind), которому приписывались события их опыта, — не их собственное, но сознание духов, богов или демонов. Между тем это были просто проекции человеческого эго во внешний мир. Таким образом, весь космос, весь спектр опыта истолковывался как выражение сознания и духа, желания, воли и цели. Это была философия анимизма и супернатурализма, но прежде всего — антропоморфизма. Человеческим приматам потребовалось время, чтобы приобрести навыки и мастерство в использовании вновь приобретенной способности, имя которой — символ. Протекли сотни тысяч лет, прежде чем впервые был преодолен изначальный — и обманчивый — предрассудок, будто космос — выражение Эго, подобного человеческому, и не может быть ничем иным. В своей философии древнейшие люди просто творили мир по образу и подобию своему. Мы и сегодня недалеко ушли от этой точки зрения, о чем ясно свидетельствуют широкое распространение, сила и влияние теологии. Однако по прошествии целых эпох, на протяжении которых мир объясняли в терминах желаний, волений и замыслов сверхъестественных существ, было осуществлено продвижение на новый уровень, к новому типу посылок. Место духов заняли виды бытия, сущности (essences), принципы и т.д. Вместо того, например, чтобы говорить, что окаменелости созданы Богом, стали говорить, что они образованы «камнетворящими силами» или что они — результат «застывания лапидифических соков». Такой тип объяснения, который кажется сегодня пустым и бессмысленным, был тем не менее значительным шагом вперед по сравнению с анимистическим, сверхъестественным истолкованием, преобладавшим до тех пор. Ответы супернатурализма были полными и окончательными: это сделал Бог; такова была воля Божия, и стало так; больше сказать было нечего. В действительности, конечно, эти ответы ничего не говорили; они были столь же пусты, сколь и окончательны. Но хуже всего то, что они закрывали дверь для чего-либо лучшего; о чем еще можно спросить или узнать после того, как тебе сказали, что то или иное событие — не что иное как действие Бога? Метафизический, говоря словами Конта, тип истолкования во всяком случае освободил от привязанности к антропоморфизму. Если окаменелости образованы «камнетворящими силами», то это становится приглашением к тому, чтобы проникнуть в природу подобных сил и вступить таким образом в непосредственный контакт с реальным миром — вместо отраженного в нем собственного образа — и, следовательно, чтото о нем узнать. Метафизические объяснения, сами по себе пустые, тем не менее означали прогресс; они открыли путь к чему-то лучшем: к науке. В общественных науках мы до сих пор не переросли метафизический тип истолкования. Мы все еще встречаемся с тем, что события объясняют в таких терминах, как «сепаратизм местного населения», «тенденции человеческого сознания (mind)», «принцип эквивалентности братьев», «изначальная демократия равнинных племен» и т.д. Но тем не менее мы движемся вперед. Если человек, приняв приглашение, в скрытом виде содержащееся в метафизическом типе объяснения, в попытках распознать, что же на деле представляют собою «камнетворящие силы», «обращался к природе, брал факты как они есть и самостоятельно их рассматривал» (Агасси), то он имел возможность перейти к научной точке зрения и научной технике. Во всяком случае, это тот тип истолкования, который вырос из метафизических объяснений и в конце концов заменил их. Предметы и события не истолковывались более ни с точки зрения целей или замыслов духов, ни как имеющие своей причиной некие принципы или сущности; они объяснялись в терминах других вещей и событий. Так, землетрясение — это не просто выражение гнева богов, акт наказания за наши грехи; но это и не просто проявление «принципа вулканизма». Это геологическое событие, объясняемое исходя из других геологических событий. В науке человекообразный примат достиг, наконец, реалистического и эффективного восприятия того внешнего мира, к которому он вынужден приспосабливаться, чтобы выжить. Как инструмент объяснения анимистические, антропоморфистские и супернатуралистские философии были абсолютно бесполезны, ибо ложное знание зачастую хуже, чем полное его отсутствие. Достаточно вспомнить о мужчинах и женщинах, которых умертвили как ведьм и еретиков, чтобы составить себе представление о размерах ущерба, нанесенного этим типом философии. В самом деле, примитивные философии имеют иные функции, нежели объяснение; они снабжали человека иллюзиями, внушали ему смелость, ощущение комфорта, давали утешение и уверенность, а ведь все это имело значение для биологического выживания. Но как техники объяснения примитивные философии потерпели полный крах. Метафизические философии также не объясняли реальный мир, но они проложили путь к реалистическому и эффективному его истолкованию исходя их принципов науки и с использованием ее интеллектуальной техники. Очертания современной философии раскрывают ее генеалогию, ее структуру и композицию: новая, сильная и растущая научная составляющая; старый, примитивный супернатурализм, сильный в отдельных областях, но приходящий в упадок по мере того, как сокращается сфера его применения и истощается его питательная среда; довольно быстрый рост в определенных областях антропоморфизма и свободной воли, впрочем, также постепенно уступающий место более сильным и жизнеспособным побегам; наконец, рожки да ножки, оставшиеся там и сям от метафизических рассуждении. Если философия — это механизм приспособления животного, каким является человек, к своему космическому окружению, то человек — основной предмет философской заинтересованности. Как мы указали в главе «Расширение сферы науки», можно проследить историю и становление науки с точки зрения детерминант человеческого поведения. Астрология была попыткой оценить роль небесных тел в человеческих делах и предсказывать явления жизни человека исходя из положения светил. Научная философия нашла свое первое выражение в астрономии, т.к. небесные тела, будучи наименее значимыми из детерминант человеческого поведения, легко могли быть изъяты из антропоморфистской традиции, в которой «я» (self) смешивалось с «не-я» (not-self). Точка зрения и техника науки, однажды установленные в области небесных явлений, начали распространяться на другие сферы. Ход расширения сферы.науки определялся следующим законом: наука будет продвигаться и развиваться в обратном отношении к значимости тех или иных явлений как детерминант человеческого поведения. За астрономией последовали земные физика и механика. Физические науки оформились раньше биологических, потому что физические явления — менее значимые детерминанты человеческого поведения, нежели явления биологические. В области биологии сначала развивается анатомия, лишь затем — физиология и психология. Все эти три науки были сосредоточены на индивидуальном организме. Однако с течением времени было осознано, что имеется класс явлений, лежащих вне и за пределами индивида и тем не менее оказывающих значительное и мощное определяющее воздействие на его поведение. При создании научной техники, пригодной для того, чтобы иметь дело с этим классом мета-индивидуальных детерминант, возникли социология и социальная психология. Создание этих наук означало предположение, что категории детерминант человеческого поведения исчерпаны. Астрономия и физика занимались неодушевленными детерминантами; анатомия, физиология и психология охватили индивидуальные детерминанты; социология, наука об обществе, имеет дело с надиндивидуальными детерминантами: с какими еще детерминантами стоило считаться? Как мы уже показали, исходные посылки основателей социологии далеки от соответствия действительности. Вполне верно, что человек, равно как и петух, собака, утка и обезьяна, в обществе сородичей ведет себя иначе, чем наедине. Стало быть, социология человека — или обезьяны, крысы, собаки, утки — следует по порядку за психологией. Но не пойти дальше означало бы упустить фундаментальное различие между человеком и всеми прочими животными видами. Мартышка, собака или крыса, как мы только что отметили, ведет себя по-разному, находясь среди сородичей и наедине. Следовательно, мы различаем индивидуальный и социальный аспекты поведения этого индивида. Мы можем пойти еще дальше и выделить социальную систему поведения,поставив в центр внимания и истолкования систему как таковую. Итак, мы отличаем друг от друга индивидуальную и социальную системы. Однако — и здесь мы подходим к фундаментальному различию между человеком и прочими видами — когда мы имеем в виду поведение крысы, собаки или обезьяны в индивидуальном или в социальном аспектах, рассматриваем ли мы его в форме индивидуальной системы или социальной системы, детерминантой выступает биологический организм. Мы находим один тип социальной системы или поведения у одного животного вида, другой тип у другого вида; у уток будет один тип социальной организации или поведения, у орлов — другой; львы имеют один тип, бизоны — другой; у акулы он таков, у сельди — иной. У более низких видов социальные системы выступают как функции соответствующих биологических организмов : S = f(0). Но у человека как вида, на уровне символического поведения, дело обстоит совершенно иначе. Человеческое поведение, в усреднение-индивидуальном или социальном аспекте, нигде не выступает как функция организма. Человеческое поведение не варьируется в зависимости от изменений организма; оно варьируется вместе с изменениями экстрасоматического фактора культуры. Человеческое поведение — функция культуры : В = f(C). Если изменяется культура, изменяется и поведение. Итак, не общество или группа замыкают ряд категорий детерминант человеческого поведения. У более низких видов группу действительно можно рассматривать как детерминанту поведения любого из ее членов. Но для человека как вида сама группа определена культурной традицией: найдем ли мы в том или ином человеческом обществе ремесленную гильдию, клан, полиандрическое семейство или рыцарский орден, зависит от его культуры. Открытие этого класса детерминант и отделение средствами логического анализа этих экстра-соматических культурных детерминант от биологических — как в их групповом, так и в их индивидуальном аспектах — стало одним из значительнейших шагов вперед в науке за последнее время. Это утверждение, несомненно, некоторыми будет расценено как экстравагантное. Мы так приучены к тому, что нас потчуют рассказами о чудесах современной науки — я имею в виду физику, химию и медицину — и так свыклись с пренебрежением к общественным наукам, что кому-то вполне может показаться нелепым заявление, будто выделение понятия культуры — один из значительнейших успехов в современной науке. У нас нет ни малейшего желания приуменьшить значение последних успехов физики, химии, генетики или медицины. Некоторые из них, такие как квантовая механика в физике и генетика в биологии, вполне можно назвать революционными. Однако такие успехи имели место в областях, культивируемых наукой в течение нескольких поколений или даже веков. В то же время с выделением понятия культуры науке открылась совершенно новая область. Отсутствие столь значительных достижений в новой науке о культуре не есть, следовательно, свидетельство экстравагантности сделанного нами заявления. Наша наука — новая, она открыла новую область опыта, которую едва только выделили и дали ей определение, и это означает, что еще не было времени для дальнейших достижений. Значительно именно открытие нового мира, а не относительная величина или значимость достигнутого в этом новом мире. Нас столь впечатляют успехи физики или астрономии, что многим трудно поверить, что медлительные «общественные» науки способны когдалибо стать вровень с этими успехами. Такая точка зрения вполне понятна в дни, когда наука способна картографировать распределение галактик в космосе и измерять массы звезд, отстоящих от наблюдателя на миллионы световых лет, а в это время в другой области наука не имеет ясного ответа на вопрос о природе запрета на полигамию в некоторых обществах. Однако предназначение человека на этой планете не сводится только к измерению галактик, расщеплению атома или открытию нового чудодейственного препарата. Социополитико-экономические системы — короче говоря, культуры, — внутри которых живет, дышит и размножается род человеческий, во много раз важнее для будущего Человека. Мы только начинаем понимать это. Но можно ожидать, что в будущем наступит время, когда научное осмысление таких культурных процессов, как полигамия и инфляция, будет считаться столь же значимым, как и определение размеров далеких звезд, расщепление атомов или синтез органических соединений. «Открытие» культуры когда-нибудь встанет в истории науки в один ряд с гелиоцентрической теорией Коперника или открытием клеточной основы всех форм жизни. Как мы пытались показать выше, не следует полагать, будто научное осмысление структуры культурного развития и образующих его процессов может дать человеку контроль над ходом этого развития, больший, чем контроль над солнцем и отдаленными галактиками, приобретенный нами благодаря тому, что мы больше знаем о них. Понимание, научное понимание само по себе есть культурный процесс. Развитие науки есть культурный процесс, равно как развитие музыкального стиля, типа архитектуры или форм корпоративной организации в бизнесе суть культурные процессы. Развитие понимания в астрономии, медицине и культурологии сделает возможным более реалистическое и эффективное приспособление человеческого рода к условиям земли и космоса. Глубокие изменения в науке медленно пролагают себе путь. Человечеству, даже если говорить только об образованных слоях общества, потребовалось много лет, чтобы признать гелиоцентрическую теорию строения солнечной системы и разработать возможности, заложенные в ней. Для того чтобы идея биологической эволюции человека одержала верх над прежними концепциями, также потребовалось известное время. Открытие и исследование психоаналитиками бессознательного встретило враждебность и сопротивление. Следовательно, нет ничего особенно удивительного в том, что и нынешнее продвижение науки в новую область — область культуры — встречает известное сопротивление и противодействие. Можно выделить общую основу всех случаев сопротивления и противодействия сдвигам в науке. Научное истолкование — неантропоморфистское, неантропоцентрическое. Противостояние теориям Коперника, Галилея и Дарвина проистекало из антропоморфической и антропоцентрической, а также супернатуралистической концепции человека и космоса: человек рассматривался как главное создание Творца; он был сотворен по образу Божию; мир был создан для него; он был неподвижен и находился в центре Вселенной; все вращалось вокруг Земли; все истолковывалось в человеческих терминах. Научное истолкование — детерминистское, и это вызывает враждебность у всех, кто руководствуется философией Свободной Воли. Созданные человеком общественные науки очищены от супернатурализма в очень большой степени — хотя и не полностью, как показывает (приведем только один пример) существование антропологической школы отца Вильгельма Шмидта, которая пользуется всеобщим уважением. Однако они по-прежнему в очень большой степени ориентированы антропоморфически и антропоцентрически. В значительной мере они все еще основаны на философии Свободной Воли. Отсюда сразу становится понятным противодействие науке о культуре. Антропоцентрическая точка зрения не может, конечно, мириться с тезисом, что культура, а не человек, определяет форму и содержание человеческого поведения. Философия Свободной Воли не может принять теории культурного детерминизма. Для многих социологов и культурантропологов утверждение, что культура образует особый порядок явлений, что она ведет себя в соответствии с ее собствеными принципами и законами и, следовательно, объяснима только в культурологических терминах, есть «мистическая метафизика». Однако тем, кто противостоит культурологической точке зрения, кажется, что их позиция совершенно реалистическая. Для них столь просто, столь очевидно, что культура не могла бы существовать без человека и что действуют именно люди, реальные люди из плоти и крови, а не какая-то овеществленная сущность, именуемая «культурой»; ведь каждый может увидеть это на самом себе. Как мы уже пытались разъяснить, в науке нельзя всегда опираться на «самоочевидные» особенности здравомыслящего наблюдения и размышления. Разумеется, культура не существует без людей. Очевидно, что именно люди участвуют в голосовании, говорят по-английски или на каком-то другом языке, верят в ведьм или еще во что-нибудь подобное, строят корабли, объявляют войны, играют в пинокль и т.д. Антикультурологи смешивают существование вещей с научным истолкованием вещей. Сказать, что человек питает пристрастие или отвращение к молоку как напитку, значит только установить событие, но не объяснить его. Культуролог вполне понимает, что именно человек, человеческий организм, а не какая-то «отдельная или овеществленная сущность, именуемая «культурой», пьет молоко или отвергает его как нечто отвратительное. Но он знает также, что наблюдение события вовсе не то же самое, что его объяснение. Почему человек питает пристрастие или отвращение к молоку, верит в ведьм или в бактерии и т.д.? Культуролог объясняет поведение человеческого организма исходя из внешних экстрасоматических культурных элементов, которые функционируют как стимулы, вызывающие реакцию и сообщающие ей ее форму и содержание. Культуролог знает также, что культурный процесс объясним исходя из него самого; человеческий организм, взятый коллективно или индивидуально, безотносителен — не к самому культурному процессу, но к объяснению культурного процесса. Нам нет нужды рассматривать нейросенсорно-мускульно-железистую организацию, какую представляет собою человек, при объяснении таких вещей, как кланы, своды законов, грамматики, философии и т.д. Объясняя человеческое поведение, мы поступаем так, как если бы культура имела собственную жизнь, даже как если бы она имела собственное существование независимо от рода человеческого. «Это не мистицизм, — как давно заметил Лоуи, — а солидный научный метод»; подобная процедура, можем мы добавить, допускается во многих развитых отраслях науки, таких, как физика. Закон свободного падения тел применим в условиях полного вакуума. Физики часто решают проблемы, рассматривая механизмы, которые движутся без трения. В учебнике физики я читаю: «Твердое тело — это тело, форма которого не изменяется под воздействием какой-либо прилагаемой к нему силы». Однако следующее предложение гласит: «Такое тело есть идеальное понятие, ибо твердых тел не существует». Если придерживаться философских воззрений наших анти-культурологов, этих физиков следует считать «нереалистическими». Тогда закон свободного падения тел был бы отвергнут на том основании, что он описывает события, никогда в действительности не происходящие. Пришлось бы отклонить лишенные трения механизмы как «нечто мистическое» и отвергнуть твердые тела как «абстракции». Точка зрения анти-культурологов заключается просто в неспособности осознать, что физик может достичь значительных результатов главным образом именно потому, что он работает таким образом. Именно и прежде всего потому, что закон свободного падения тел не описывает каждое отдельное событие, он имеет всеобщее значение и достоверность. «Теперь вполне установлен тот парадокс, что предельные абстракции являются той самой силой, с помощью которой мы контролируем наше осмысление конкретных фактов». Культуролог движется в том же направлении и исходит из того же взгляда и той же техники истолкования, что и физик. Культуры могут существовать без людей не в большей мере, чем механизмы — двигаться без трения. Однако можно рассматривать культуру так, как если бы она была независима от человека, подобно физику, который может рассматривать механизмы так, словно они независимы от трения, или обращается с телами так, будто они и в самом деле твердые. Это — эффективные техники истолкования. Реализм тех, для кого солнце очевидно движется вокруг Земли, для кого свободно падающие тела должны проходить через атмосферу, для кого механизмы, движущиеся без трения, и твердые тела не существуют; реализм тех, кто настаивает на том, что именно люди, а не культура, голосуют, говорят по-английски, красят ногти, питают отвращение к молоку и т.д., — это патетическая форма псевдореализма, которому нет места в науке. «В течение последнего столетия, — пишет Лоуи, — становится все очевиднее, что культура представляет собою... определенную область, требующую для своего изучения особой науки...» Но как нам назвать нашу новую науку? Нам стоило большого труда показать фундаментальное различие между наукой о культуре и такими науками, как социология и психология; следовательно, эти термины здесь не годятся. Термин «антропология» также по многим причинам непригоден. Этот термин используется для обозначения столь многих вещей, что становится почти бессмысленным. Он включает физическую антропологию, охватывающую, в свою очередь, палеонтологию человека, сравнительную морфологию приматов, генетику человека, физиологию и психологию и т.д. Культурная антропология различным образом понимается как психология, психоанализ, психиатрия, социология, прикладная антропология, история и т.д. Можно было бы вовсе не шутя определить антропологию как деятельность, в которую вовлечен человек, носящий профессиональный титул «антрополог». В самом деле, поздний Франц Боас однажды предположил, что «вся группа антропологических явлений может рассеяться и, возможно, что в основе своей эти проблемы являются биологическими и психологическими и вся область антропологии принадлежит одной либо другой из этих наук». Таким образом, Боас не только отказался признать науку о культуре, но даже предположил, что сама антропология «скорее будет все более превращаться в метод, который может применяться в большом количестве наук, нежели сама станет наукой». Следовательно, термин «антропология» для нашей цели непригоден. Однако не очевиден ли ответ на наш вопрос? Не лежит ли решение прямо у нас перед глазами? Можно ли назвать науку о культуре иначе, нежели культурологией? Если наука о млекопитающих — маммология, о музыке — музыковедение, о бактериях — бактериология и т.д., то почему бы науке о культуре не быть культурологией? Наше рассуждение представляется совершенно законным и правильным, наш вывод — здравым и основательным. Однако многие из тех, кто трудится на ниве науки о человеке, столь консервативны, робки или безразличны, что такое радикальное и революционное нововведение, как прибавление нового суффикса к давно знакомому слову, кажется им претенциозным, абсурдным или в каком-либо другом отношении нежелательным. Мы вновь встречаемся с возражениями, выдвигавшимися против употребления Спенсером термина «социология». Как пишет он в своем введении к «Началам социологии», его друзья пытались отговорить его от употребления этого слова на том основании, что это «варваризм». И сегодня некоторые ученые находят, что слово «культурология» жестоко оскорбляет их слух. Так, В. Гордон Чайлд пишет, что «предрассудки, порожденные Litterae Humaniores, слишком сильны, чтобы позволить [ему] принять термин Уайта «культурология». Аналогично Дж.Л.Майрес в своей рецензии на «Расширение сферы науки» называет слово «культурология» «варварским наименованием». Похоже, что те, кто осуждал употребление Спенсером термина «социология» как «варваризм», делали это на этимологических основаниях: оно образовано соединением греческого корня с латинским. Видимо, этого достаточно, чтобы у пуриста мурашки пробежали по телу. Однако, к худу ли, к добру ли, тенденции и процессы живых языков имеют мало отношения к подобной чувствительности. Англо-американский язык с легкостью впитывает в себя слова из других языков — табу, шаман, койот, табак — и еще легче создает новые слова («кодак») или новые формы («trust-buster»). Он не колеблясь прибегает к гибридизации и прочим случайным импровизациям, таким как нумерология, термопара, термоэлемент, автомобиль и т.д., в том числе и социология. «Телевидение» — один из самых последних отпрысков лингвистического смешения. Хотя профессору Чайлду слово «культурология» не нравится, он отмечает, что «подобные гибриды, похоже, отвечают общей тенденции прогресса языка». Х.Л.Менкен, крупный авторитет в области американского языка, находит, что «культурология» «довольно неуклюжее слово, но тем не менее логичное», и он чувствует, что «установлен факт, что его следует употреблять». Мы, как и Спенсер, чувствуем, что «удобство и употребимость наших символов имеют большее значение, чем законность их произведения». В этой связи мы можем привлечь внимание к тому, что на отделениях антропологии Чикагского университета и Чикагского Музея естественной истории иногда пользовались термином «музеология» для обозначения искусства организации и оборудования музеев и управления ими. Если «-ология» истолковывается в смысле «наука о...», то музеология — неверно употребленное слово, т.к. «музейная наука» не более наука, чем «библиотечная наука», «военная наука» или «наука домоводства»; все это искусства, а не науки. Если может стать респектабельным слово «музеология», то почему же им не может стать слово «культурология», для которого есть гораздо больше оправданий на этимологических основаниях? Как прояснено на предыдущих страницах, понятие науки о культуре — старое понятие; оно восходит по меньшей мере к первой главе «Первобытной культуры» Тайлора, написанной в 1871 г. Термин «культурология» относительно мало использовался, но он применялся более чем треть века тому назад в том точном и особенном смысле, в котором используем его мы, и сегодня им пользуются по меньшей мере на трех континентах. В своем сочинении «Система наук», созданном в 1915 г., выдающийся немецкий химик и Нобелевский лауреат Вильгельм Оствальд говорил: « Я, следовательно, много лет назад предложил [выделено нами] именовать обсуждаемую область наукой о цивилизации, или культурологией (Kulturologie)». Нам не удалось обнаружить у него это более раннее употребление данного термина. Четырнадцать лет спустя после выхода в свет «Системы наук» Оствальда социолог Рид Бейн говорит о «культурологии» в написанной им главе сборника «Направления американской социологии», изданного Дж.А.Лундбергом и др. Не вполне, однако, ясен смысл, в котором он его употреблял; похоже, что в одном месте он приравнивает «культурологию» к социологии, а в другом — к экологии человека. Он говорит также о «близком родстве между социальной психологией и культурологией». Я впервые употребил слово «культурология» в печати в 1939 г., полагаю, в «Проблеме терминологии родства», хотя я пользовался им в своих курсах за несколько лет до этого времени. Доктор Ченг-Че-Ю снабдил свою изданную в Беркли в 1943 г. книгу «Контраст восточных и западных культур» подзаголовком «Введение в культурологию». Он писал мне, что прежде использовал не только термин «культурология», но и термин «культурософия» в своих публикациях на китайском. Профессор Иститута антропологии Национального университета Сунь Ятсена в Кантоне Хуань Вэн Шан опубликовал по-китайски ряд статей по культурологии, и мне сообщили, что в настоящее время он работает над книгой по культурологии. Недавно я видел рекламу изданной в БуэносАйресе книги Й.Имбеллони, озаглавленной Epitome de Culturologia. Разумеется, могут быть и другие случаи, не попавшие в поле моего внимания. Китайский язык явно более склонен к таким нововведениям, как «культурология», нежели английский. По-китайски «культурология» будет wen wha (культура) hsueh (наука о...). Оба слова являются обычными терминами в китайском языке, и их соединение, по-видимому, не оскорбляет слух китайских ученых и не ранит их чувствительность. Однако возражения против «культурологии» не только филологические. Лингвистические возражения остаются на поверхности; но глубоко под ними лежат взгляды и ценности, которые будут сопротивляться принятию и употреблению термина «культурология» гораздо сильнее, чем это делают классицисты, взлелеянные в Litterae Humaniores. «Культурология» выделяет некоторую область реальности и определяет некую науку. Делая это, она покушается на первейшие права социологии и психологии. Конечно, она делает даже нечто большее, чем покушение на них; она их присваивает. Т.о. она проясняет, что разрешение определенных научных проблем не лежит, как предполагалось прежде, в области психологии и социологии, но принадлежит к науке о культуре, т. е. может быть осуществлено только ею. Как социологи, так и психологи не желают признавать, что есть такие проблемы, относящиеся к поведению человека, которые находятся за пределами их областей; и они склонны выказывать обиду и сопротивляться наукевыскочке, заявляющей на них свои права. Однако, вероятно, важнее всего то, что культурология отвергает и упраздняет философию, которая веками оставалась дорога сердцам людей и которая по-прежнему вдохновляет и питает многих представителей общественных наук и дилетантов. Это древняя и почтенная философия антропоцентризма и Свободной Воли. «Какая бессмыслица говорить, будто культура делает то или это! Что такое культура, если не абстракция? Не культура делает то или иное; это люди, реальные человеческие существа из плоти и крови. Всякий может убедиться в этом на себе! Сколь абсурдно в таком случае говорить о науке о культуре; какое искажение реальности!» Как показано на предшествующих страницах, сегодня в американской антропологии этот взгляд все еще силен и влиятелен. Итак, культурология предполагает детерминизм. Принцип причины и следствия действует в царстве культурных явлений так же, как и повсюду в нашем взаимодействии с космосом. Всякая данная культурная ситуация определена другими культурными событиями. Если действуют определенные культурные факторы, определенное событие становится их результатом. Наоборот, определенные культурные достижения, как бы страстно их ни желали, не могут иметь места, если не наличествуют и не действуют требующиеся для этих достижений факторы. Это очевидно в метеорологии и геологии, но в истолковании человеческого поведения это все еще называют «фатализмом» и «пораженчеством» или рассматривают как безнравственное-и-следовательно-ложное. Сладкая утешительная иллюзия всемогущества по-прежнему находит широкий рынок и большой спрос. Мы можем наложить руку на свою судьбу и сделать из нее то, что хотим. «Человечество с Божией помощью управляет своей культурной судьбой и свободно в выборе и осуществлении целей...» Преподаватели могут контролировать культурный процесс, «вкладывая определенную систему ценностей в своих учащихся». Психологи когда-нибудь «научно изучат источники ...[войны] в человеческих умах и научно их устранят». Представители общественных наук создадут совершенные формулы для контроля над культурными силами и овладения нашей судьбой, если только федеральное правительство предоставит им финансовую поддержку наподобие той, какая была предоставлена создателям атомной бомбы и т.д. и т.д. Похоже, наука должна стать служанкой современной разновидности магии, а ученый-обществовед — принять на себя роль верховного шамана. Именно в противоборстве с силой и мощью этой страсти к свободной воле, с этим предрассудком антропоцентризма, должна пролагать себе дорогу наука о культуре. Однако эти нелингвистические возражения против культурологии также лишь эффективно подчеркивают потребность в специальном термине, с помощью которого следует обозначить нашу новую науку, и обнаруживают особую пригодность слова «культурология» для этой цели. «Особая область», какой является культура, «требует для своего исследования особой науки», доказывал Лоуи в течение более чем двух десятилетий. Дюркгейм также видел «потребность сформулировать совершенно новые понятия ...[и выразить их] в соответствующей терминологии». В науке мы мыслим и работаем лишь с помощью понятий, выраженных в символической форме. Чтобы мыслить эффективно, чтобы осуществлять основополагающие различения, без которых наука невозможна, мы должны иметь точные инструменты, строгие понятия. «Психология» обозначает особый класс явлений: реакции организмов на внешние стимулы. Но она не отличает культурные явления от не-культурных, и истолкование взаимодействия экстрасоматических элементов в культурном процессе находится за ее пределами. «Социология», как давным давно указали Оствальд и Крёбер, также страдает от «фатального недостатка», не отличая культурного от социального. Она растворяет культуру в своем основном понятии взаимодействия, превращая культуру в аспект или побочный продукт социального процесса взаимодействия, в то время как структуры и процессы человеческого общества суть функции культуры. Фактически в «социологии» мы имеем хороший пример неудачи мышления, вызванной применением неясной и двусмысленной терминологии. Термин «антропология» использовался для обозначения столь многих разных видов деятельности — измерения черепов, выкапывания из земли глиняных черепков, наблюдения за церемониями, изучения кланов, психоаналитического изучения аборигенов, психоаналитического изучения целых цивилизаций, прослеживания истории искусств и ремесел — что теперь его нельзя ограничить особой и своеобразной задачей истолкования культурного процесса и только его одного. «Социальная антропология» практически неотличима от «социологии». Что же такое наука о культуре, как не культурология? С введением этого термина даже для самого неискушенного ума становится ясным, что экстрасоматический континуум символически порожденных событий — вовсе не то же самое, что какой-либо класс реакций человеческого организма, рассматриваемого индивидуально или коллективно; что взаимодействие культурных элементов — не то же самое, что реакции или взаимодействие человеческих организмов. Может показаться, что мы преувеличиваем, заявляя, что смена терминологии может произвести и произведет глубокие изменения в мышлении или в точке зрения на предмет. Однако, как указал Пуанкаре, пока не провели различия между «жаром» и «температурой», невозможно было эффективно размышлять о термальных явлениях. «Истинным первооткрывателем, — говорит Пуанкаре, — стал не тот трудяга, который терпеливо строил некоторые из этих комбинаций, а тот, кто выявил их отношения... Изобретение нового слова часто необходимо для выявления отношения, и это слово будет творческим. Таково, конечно, значение слова «культурология»: оно выявляет связь между человеческим организмом, с одной стороны, и экстрасоматической традицией, какой является культура, — с другой. Оно носит творческий характер; оно утверждает и определяет новую науку. Перевод П. В. Резвых Джеймс Фейблман. Концепция науки о культуре*
А. Проблема существования науки о культуре Мы подошли к завершению нашего исследования сущности человеческой культуры. В ходе изучения у нас сложилась некоторая картина организации человеческой деятельности и ее результатов и появились соображения относительно точного обозначения порядка этой (культурной) деятельности. В последних двух главах мы рассмотрели этот порядок через призму обязательств, возлагаемых на индивида и его социальную группу". Теперь мы должны вновь вернуться к картине организации культуры, дабы посмотреть, какие последствия она будет иметь не столько для практики, сколько для теории.
Если верно, что природа в каждой своей части присутствует целиком и, стало быть, любой фрагмент природы, рассматриваемый сам по себе, непременно содержит многое из свойств целого, частью которого он является, тогда тем же самым условиям должен подчиняться и тот фрагмент природы, который известен нам как культура человека. Иначе говоря, он должен содержать в себе многое из свойств, присущих всей остальной природе, а обобщения, справедливые для других уровней окружающей среды, должны быть применимы также и к человеческой природе. Система изучения природы представляется нам прежде всего как наука. Нам известны науки, соответствующие многим эмпирическим уровням бытия. Существуют такие науки, как физика, химия, биология, психология. Почему бы тогда не существовать такой науке, как социология и наука о культуре? Ибо культура — такой же эмпирический уровень, как и все другие; по крайней мере, мы вправе говорить об этом, если утверждения, представленные в этой книге, могут претендовать на обоснованность. В исследованиях такого рода неизбежно возникает вопрос, может ли существовать наука о культуре. И, исходя из принятых нами предпосылок и приведенных в ходе исследования фактов, мы столь же неизбежно приходим к выводу, что наука о культуре возможна. Мы категорически утверждаем, что не существует таких наук, которые не были бы естественными науками, что социальные группы людей и их культуры являются логическим продолжением природной среды и, будучи частью природы, предполагают необходимость соответствующей естественной науки, которая бы их изучала и пыталась открыть управляющие ими законы. В этой главе мы прежде всего обратимся к исследователям, которые уже рассматривали такую возможность, и приведем некоторые из аргументов, выдвинутых ими за и против науки о культуре. Затем мы соберем воедино некоторые идеи, высказанные в предыдущих главах, которые покажут нам ряд возможных направлений дальнейшего развития науки о культуре. В конце главы мы представим ряд абстрактных аргументов в пользу науки о культуре и попытаемся заглянуть в ее будущее. В определенном смысле возможность существования науки о культуре предполагали все, кто когда-либо размышлял о культуре. Открытие упорядоченности эмпирических явлений в исследуемой области — первый шаг на пути к тому, чтобы облечь знания об этой области данных в форму науки. Наука пытается познать естественные законы, а естественные законы в идеале должны быть выражены в форме уравнений и текста, т. е. математически. Однако еще задолго до того, как этого можно будет достичь, а в некотором смысле даже раньше, чем можно будет сформулировать гипотезы и провести эмпирические исследования, способные их подтвердить или опровергнуть, должен явиться специалист по таксономии и разработать классификацию, которая определит направление всех последующих научных изысканий. Таким образом, оказывается, что именно те ученые, которые когда-то наметили границы изучения культуры, ipso facto совершили первый шаг в направлении создания науки о культуре. Ибо в том случае, когда человек последовательно и кропотливо исследует некую область эмпирических явлений, он невольно содействует развитию науки об этих явлениях, невзирая на то, является это его намерением или нет. Даже беглый взгляд на открытия исследователей культуры и истории человечества подтверждает нашу точку зрения. Те, кто, подобно Геродоту и Тациту, указывает на существование необычных сведений, обращают внимание главным образом на их исключительность. Взгляните, говорят они нам, какие чудесные явления можно найти в мире. Посмотрите на удивительное многообразие людей, существовавших в былые времена. Сколь поразительно разнородными были культуры, в которых они жили! От курьезных обычаев ливийцев до традиций германских племен — ничего подобного прежде не видели и не слышали. Не загоняйте свои представления о порядке в слишком узкие рамки, ибо эти факты должны найти в них свое место. Такие историки, как Фукидид и Гиббон, настойчиво твердили об упадке культуры. Исследователи хода истории и ее смысла — в частности Вико, Шпенглер и Тойнби — были искренне увлечены поисками всеобщей модели хода событий в истории человечества. Они хотели выявить ее форму, найти тот порядок, который в ней воплощен. Это явствует из каждой страницы их сочинений, так что было бы излишне приводить здесь какие-то примеры. Наука изучает функции систем, и мы не имеем возможности связать функции человеческой культурной системы друг с другом до тех пор, пока не выясним, так сказать, ограничительные свойства самой этой системы. Мы хотим выяснить арифметические функции геометрической системы человеческой культуры, но, прежде чем мы сможем сделать это, мы должны обладать определенными знаниями о том, какова эта геометрическая система. Первым шагом в получении такого знания должно стать усвоение того, что было сделано для нас — пусть предварительно, неполно, грубо, во многом ошибочно, но всетаки сделано, — теми авторами, которые наощупь искали знания о масштабах и формах человеческой культуры. Уже Гоббс, Спенсер и Гегель отстаивали концепцию человеческого общества как органического целого, своего рода сверхорганизма, аналогичного живому организму индивида, изучаемому биологией. Сегодня ее решительно защищают некоторые биологи, например, Дженнингс, Нидем и Кеннон. Представление о человеческом обществе как о сфере реальности, подчиняющейся общим законам, которые можно выявить, поддерживалось такими учеными, как Габриэль де Тард, Дюркгейм и Радклиф-Браун. С точки зрения Тарда, такими законами были законы подражания. Дюркгейм понимал социологию как науку, которая должна быть нацелена на установление общих законов. Однако именно Радклиф-Брауну мы обязаны тем великолепием, в которое он облек эту концепцию. Радклиф-Брауну удалось реально сформулировать некоторые из законов этнологической науки; он считает, что такая наука должна быть независима от психологии и базироваться на собственных основаниях. Были, конечно, и другие авторы, разделявшие эту концепцию, но здесь не место перечислять их имена. Мы хотим лишь показать, что идея науки о культуре не должна рассматриваться как нечто новое и сенсационное. Это просто одна из идей, потребность в которой уже с давних пор становилась все более и более очевидной. Наука о культуре должна вобрать в себя множество поднаук и объединить их в единую великую науку. Наука о культуре, которая известна под именами социальной антропологии и этнологии — ибо эти термины, судя по всему, используются как взаимозаменяемые, — должна включить в себя научные дисциплины, которые мы знаем как антропологию, этнологию, социологию и социальную психологию. Между тем до сих пор эти дисциплины преследовали прежде всего свои узкоспециальные цели и были несколько неверно ориентированы. Социальная антропология концентрировала внимание исключительно на примитивных социальных группах. Этнология имела аналогичную ориентацию, сопровождающуюся к тому же особым акцентом на расовых проблемах. Социология ограничивалась статистическими исследованиями реального функционирования институтов в развитых культурах и созданием крупномасштабных гипотез, совершенно не обладая при этом возможностью воспользоваться статистическими данными для подтверждения этих гипотез. Социальная психология изобретала инстинкты, нисколько не углубляясь в вопросы определения своего предмета, и лишь совсем недавно разработала эмпирические методы исследования. Физическая антропология ограничивается в своих изысканиях чисто фактической стороной дела, т. е. исследованием параметров черепа, центра тяжести тела и т.п., не давая при этом сколь-нибудь широких и ярких обобщений. Только исследователи движения культур, главным образом теоретически подготовленные историки, отважились сделать широкие обобщения, касающиеся человеческой культуры. И в то же время не было науки, которая пыталась бы собрать воедино все знания, полученные в разных областях исследований. Ни одна отрасль науки в настоящее время не занимается изучением человеческой культуры в целом. Но именно такая наука нам и нужна. Идеальной формой представления научного знания, как уже говорилось, является представление его в математическом виде, т. е. в виде уравнений и текста. Однако невозможно никакое математическое знание в научной области, которая сама еще не организовалась. Поэтому организация сферы изучения человеческой культуры, т. е. объединение различных направлений исследования, постановка перед ними единой цели и формулировка общего предмета изучения, должна стать первым шагом на пути превращения ее в науку. В этой книге мы попытались обрисовать в общих чертах область изучения человеческой культуры. Мы попытались сформулировать нашу точку зрения на то, каким образом связаны друг с другом различные дисциплины, изучающие разные аспекты человеческой культуры. Однако в процессе решения этой задачи мы высказали также и ряд предположений о возможности измерения культурных ценностей. Это очень важно для превращения исследований человеческой культуры в полноценную науку. Обратимся далее к этим предположениям. Б. Задачи науки о культуре Теория человеческой культуры, предложенная в этой работе, излагается главным образом в первых семи главах. Мы рассмотрим каждую из них в отдельности с позиции анализа наших предложений по оценке параметров культурных ценностей. Глава 1 доказывает очевидность существования таких составляющих человеческой личности, которые определяются взаимодействием с окружающей средой, и описывает эмпирические уровни, на которых эти составляющие должны функционировать.Однажды, возможно, будет найден способ определять силу проявления трех человеческих потребностей — в питании, размножении и познании — внутри социальных групп; что способствовало бы удовлетворению двух первых потребностей и росту воздействия третьей. Как связана познавательная потребность с первыми двумя, с точки зрения функционирования? Иерархия эмпирических уровней — физического, химического, биологического, психологического и социального, — вкупе с множеством иных уровней, располагающихся внутри них или между ними, представляет собой благодатную почву для измерения. Эмпирические уровни должны быть изучены как с количественной, так и со структурной точки зрения. Какова структура эмпирической области и каковы ее количественные показатели? Какова степень роста организации, или, иначе говоря, насколько возрастают размеры и интенсивность организации, по мере того как мы переходим от одного иерархического уровня к другому? Культура состоит из уровней, и понимание их математических аспектов будет иметь важное значение для науки о культуре. Разумеется, каждый эмпирический уровень в определенной степени автономен и независим от всех других, но поскольку сама культура существует на эмпирическом уровне (а именно, на эмпирическом уровне социального) и зависит от всех нижестоящих уровней, то чем скорее мы изучим эти эмпирические уровни, тем скорее сумеем понять человеческую культуру. В гл. 2 рассматриваются психологический уровень веры, а особое внимание уделяется уровню общественного сознания, включающему социальное содержание психики. Уровни верований до сих пор не были надлежащим образом поняты и связаны друг с другом, но они представляют собою еще одну иерархию, поддающуюся оценке. Хотелось бы знать точные границы каждого из этих уровней, равно как и их количественные характеристики. Следует оценить скорость принятия новых верований и освобождения от старых; выяснить кое-какие количественные параметры общественного сознания. Все эти проблемы — психологические, однако следует по ходу дела заметить, что, хотя нам и приходится при исследовании человеческой культуры затрагивать проблемы социальной психологии, это вовсе не означает, что социальные науки о культуре должны базироваться на психологии. Скорее, это означает нечто совершенно противоположное: силы культуры глубоко проникают в психику и достигают тех подсознательных уровней, на которых происходит поддержание социальных верований. Стало быть, социальная психология базируется на науках о культуре. Мы должны иметь в виду, что, занимаясь социально-психологическими проблемами, как и прочими проблемами общественных наук, возникающими в связи с изучением человеческой культуры, нас прежде всего интересует культура, а не психология. Эта ориентация облегчает изучение культуры и проливает свет на природу явлений и теорий социальной психологии. В гл. 3 рассматриваются этос и его культурное воплощение в мифе. В данной главе этос рассмотрен как культурная координата. В более широком контексте культурных связей этос представляет собой интенсивную сторону мифа, а спектр объяснений — его экстенсивную сторону. В этосе дана концентрация того, что в расширенном варианте воплощается в организации культуры. Здесь мы имеем функциональную математическую пропорцию, которую можно будет интерпретировать, как только нам удастся найти способ количественного определения пропорций такого рода. Это могло бы стать одним из первых шагов по созданию индексов науки о культуре. В гл. 4 рассматривается логическая организация культур как целостностей, и прежде всего тот основной элемент культур, вокруг которого они организуются, а именно — доминирующая онтология. Взаимодействия, возникающие при реальном столкновении трех человеческих потребностей с условиями эмпирических уровней среды, являются количественно сопоставимыми функциями. Доминирующая онтология может быть измерена как в плане своей устойчивости, так и с точки зрения масштабов ее проявления. Как логическая система, состоящая из определенных посылок и дедуктивно выводимых из этих посылок следствий, она образует согласованную систему и так же, как все другие логические системы, поддается исчислению. Аналитическое деление культуры на уровни, соответствующие эмпирическим уровням окружающей среды, предполагает, что уровни культуры можно измерять теми же способами, что и эмпирические, описанные в гл. 1. В гл. 5 рассматриваются следующие составляющие культуры: доминирующая онтология, мораль и внешняя ценность блага. Мы видели, что первый из них может быть оценен. Точно так же может быть оценена и мораль. Моральное правило, принятое в социальных группах, имеет определенную конституцию, т. е. определенную организацию и силу, а все, что обладает такими свойствами, предполагает возможность количественного измерения. Что же касается внешней ценности блага, то ее измерение — гораздо более сложная проблема. Ибо степень проявления вещей, благодаря которым культура может быть благом, может быть определена лишь тогда, когда они по объему меньше всего бытия; однако благость, или внешняя ценность, культуры для бытия в целом выходит за рамки человеческого разумения. Все, что обретает бытие, доступно для искусства измерения, говорил Платон; однако сомнительно, чтобы он имел в виду всю целостность бытия. Любая часть бытия может быть измерена в соотношении с другими его частями. Но все бытие бесконечно, по определению; а бесконечное, опять-таки по определению, не может быть измерено. В гл. 5 описана иерархия (социальных) институтов. Одной из координат ценности культуры являются, вероятно, число и устойчивость ее институтов. Они не могут утратить отведенное им в культуре место, т. е. подняться выше или опуститься ниже той позиции, которую им надлежит занимать, — не нанеся при этом ущерба ценности культуры в целом. Оценка числа и устойчивости институтов данной культуры, а также правильная расстановка их в иерархии должны стать одной из относительно простых задач в измерении культурных ценностей. В гл. 5 также рассмотрена проблема законов и развития социального уровня. Законы, разумеется, предполагают возможность измерения; законы всегда таковы. Что касается развития, то детальное рассмотрение его причин и механизмов было отложено до гл. 7, дабы предварить его введением в методы измерения. В гл. 6 рассматриваются различные типы культуры и вкратце анализируются семь отдельных ее типов; в то же время допускается существование множества под-типов. Сравнительные данные, получаемые в результате исследования типов культур, создают основу для конструирования широкой системы измерений. Существует достаточно много способов, чтобы сравнить данные, относящиеся к разным типам, а эти сравнения — оценить: на основе аналитически выделенных элементов культур, на основе числа и устойчивости их институтов, на основе практически всех свойств, о которых мы говорили в других главах как о присущих всем культурам. Кроме того, типы культуры могут быть изучены при помощи методов, которые к ним до сих пор еще не применялись. Развитые типы культуры можно, например, изучить с антропологической точки зрения. То, что сделали Линды в Миддлтауне, можно сделать и в отношении современных культур в целом. Можно добавить сюда также и другие исследования, менее статистические и более смелые по части гипотез. В гл. 7 рассматриваются истоки, зарождение, развитие и упадок культур — короче говоря, весь путь их развития. Существует определенный шаблон развития культур, и — как того и следовало ожидать — развитие культуры представляет интерес для науки лишь постольку, поскольку в нем проявляются те или иные постоянные функции. Для логического анализа развитие и упадок культур не представляют интереса, за исключением степени трансформации. Наука о культуре могла бы посвятить себя изучению тех функций, которые выражены в константах культурного изменения. Кроме того, глава о развитии культур открывает и другие направления научных изысканий. Культуры изменяются как под давлением извне, так и в силу внутренней слабости. Экстенсивность и интенсивность культур можно обнаружить лишь тогда, когда они находятся в движении, т. е. когда они растут, развиваются и сталкиваются с проблемами. Наука о культуре хотела бы выяснить, сколь много включают в себя культуры и насколько прочно укоренено в них то, что они содержат. Для этого она должна сосредоточиться на изучении двух важных координат культурной ценности: собственно ценности, присущей культурам, и совершенства их организации. Эту задачу следует решать на основе исследования реальных культур, т. е. культур, находящихся в движении. В процессе развития культуры оказывают друг на друга влияние. Некоторым из них в условиях культурной диффузии удается сопротивляться такого рода влияниям успешнее, чем другим. В гл. 7 мы видели, что в культурах могут существовать равные потенции к проницаемости и к совмещению сил. Их необходимо изучить с количественной точки зрения. Мы уже говорили, что идеальная форма представления знания —уравнения и текст. В уравнениях фиксируются математические функции, а в тексте разъясняется смысл этих уравнений. Следовательно, в задачи науки о культуре входит прежде всего поиск неизменных функций в изменчивом мире человеческой культуры. Эту задачу можно решить только путем изучения реальных культур, т. е. разрабатывая гипотезы и проверяя их на конкретном эмпирическом культурном материале. Тот, кто увидел, хоть мельком, чрезвычайную сложность, присущую даже простейшим организациям биологического уровня — скажем, структуре протоплазмы, — и помнит, что эмпирический уровень социального содержит много иных уровней помимо биологического, тот поймет, насколько сложны проблемы, встающие перед исследователем общества (или, как мы предпочитаем его называть, исследователем культуры). Ничто эмпирическое не может быть чуждым или закрытым для научного метода, хотя применение науки к социальному уровню и было обречено на некоторую отсрочку. Между тем, то, что сложно, — само по себе еще не невозможно, и в один прекрасный день наука о культуре всетаки состоится. Это может быть и не единая наука, а множество наук, подобное группам физических или биологических наук. Но доминировать в них все-таки будет одна наука, как ныне в своих областях доминируют физика и биология. И этой наукой станет наука о человеческой культуре. В. Перспективы развития науки о культуре В этой книге мы сформулировали цель, стоящую перед исследованиями культуры, — превращение их в науку — и высказали ряд предположений относительно того, каким образом изучение культуры может стать наукой о культуре. Вопрос о том, может ли изучение культуры стать наукой, уже неуместен, ибо теперь мы, разумеется, знаем, что может. Все существующее может быть измерено, а все, что может быть измерено, может стать объектом научного изучения. Между тем, следующий вопрос — скоро ли изучение культуры станет наукой — стоит того, чтобы на него ответить. Чтобы ответить на него удовлетворительно, необходимо дать ответы еще на два связанных с ним вопроса. Первый — это вопрос об условиях, которые сделали возможным для социальных групп в развитых культурах Запада и Востока неограниченно исследовать различные области природного мира. Установки современной жизни, обусловленные беспрецедентным профессом и практическим применением физических и биологических наук, поставили под угрозу не только научные исследования, но и всю организованную деятельность вообще. Хватит ли общественным наукам о культуре времени довести свои исследования до той точки, когда их практическое применение сможет устранить из социальной деятельности элемент случайности настолько, чтобы могли установиться гарантии безопасности для дальнейшей научной деятельности? Нет на свете пророка, который мог бы определенно ответить на этот вопрос. В то время когда пишутся эти строки, мир только что вышел из Второй мировой войны, а результаты победы и характер мира, который нас ждет, все еще внушают сомнения. Пройдет много лет, прежде чем люди, пережившие эту войну, узнают, могут ли они спокойно продолжать свою научную деятельность, не опасаясь, что она вновь будет прервана силами социального развития и изменения. Второй вопрос, от ответа на который зависит будущее общественной науки о культуре, заключается в том, возможно ли быстрое создание такой науки. Разобьем его на две части, так как нам нужно ответить на два следующих вопроса: можем ли показать несостоятельность положения о том что обществоведение не подлежит научному анализу и что обществоведы вряд ли смогут корректно воспользоваться научными методами. Выдумка, будто социальные исследования не подпадают под категорию науки, уходит корнями прежде всего в немецкую философию. Немецкая философия почти безраздельно ответственна за ошибку субъективизма в философии, и именно ей-то мы и обязаны абсолютно ошибочным разделением наук на общественные и естественные. Первые были известны как Geistwissenschaften, вторые — как Naturwissenschaften, первые определялись как нормативные науки, вторые — как эмпирические. Социальные науки были заряжены неизлечимым субъективизмом, в то время как только естественным наукам и позволялось быть объективными. Немецкие мыслители считали, что измерению поддается лишь физическое и объективное. Таким образом, общественные науки представлялись им либо абсурдом, либо, по крайней мере, науками в совершенно ином смысле. В итоге, научный метод оказывался исключительной собственностью естественных наук. Немецким мыслителям можно возразить, что их концепция социальной науки основана на ложной метафизике, а именно на номиналистской метафизике, — на вере в исключительную реальность физических частиц, отягощенной к тому же особым акцентом на субъективной стороне дела, который заключает в себе возможность солипсизма. По существу, мы уже дали ответ на их утверждения, когда излагали в этой книге свою позицию. Надеюсь, мы достаточно хорошо показали, что все области эмпирической реальности организованы иерархически и что такая организация была бы невозможна без вездесущей непрерывности природы. Области эмпирической реальности последовательно наслаиваются друг на друга и отделены друг от друга степенью сложности организации. Следовательно, общие логические методы, в частности научные, должны быть применимы ко всем эмпирическим уровням, если они применимы хотя бы к одному из них. Все области эмпирической реальности — а стало быть, и все науки — в равной степени эмпиричны и в равной степени естественны. Все науки одинаково объективны в том смысле, что предметом их изучения является та или иная система природных объектов. И все они одинаково нормативны в том смысле, что описывают не то, что есть, а то, что должно быть. Последнее утверждение требует определенных разъяснении. Наука пытается открыть законы путем проверки гипотез на предмет их соответствия фактам и другим законам. Но наука никогда не пытается говорить, что происходит на самом деле; она устанавливает только то, что должно происходить. От различия между эмпирическими и нормативными науками можно отказаться, если мы сможем показать, что эмпирические науки являются одновременно нормативными, а нормативные — эмпирическими. Эмпирические науки нормативны в том смысле, что сообщают нам о том, что должно происходить. Физические объекты ведут себя так, как им приходится себя вести, но всегда не так, как они должны были бы себя вести, по той простой причине, что они беспомощно зажаты между законами и случайностями среды. Камень должен был бы падать с ускорением 32 фута в секунду, если бы не было атмосферы. Определить скорость падения в вакууме означает определить идеал, т. е. событие, которое должно было бы происходить. Камни не в силах изменить конкретные обстоятельства, оказывающие влияние на их падение, и ввиду этого не могут сами по себе приблизиться к нормативу, который, как нам известно, управляет всеми явлениями, подпадающими под данное описание. О нормативном аспекте эмпирического сказано довольно; обратимся теперь к эмпирическому аспекту нормативного. События, в которые вовлечены люди, определяются как нормативные, но это не значит, что они лишены эмпирического аспекта. Социальный уровень человеческой культуры, — т. е. человеческие отношения и орудия труда, — это факты, и ничто не способно изменить их природу. Сложность этого порядка фактов и его способность к быстрому изменению ни в коем случае не отрицают его фактическую природу. Люди подчинены эмпирическим законам нисколько не меньше, чем камни. Между тем, люди способны добавить к двум факторам — закону и случайным обстоятельствам среды — еще и третий; они могут, хотя бы частично, контролировать окружающую их среду при помощи материальных орудий культуры и благодаря этому приближаться к нормативному через эмпирическое, в отличие от камней, которые к этому не способны. Это не мешает человеческому социальному уровню стать объектом изучения для науки; это означает всего лишь, что на данном уровне с помощью науки может быть сделано больше, чем на других. Величие перспектив науки прямо пропорционально тем трудностям, которые возникают при попытках создать ее. Но если последние утверждения верны, то что мешает общественным наукам развиваться быстрее по сравнению с другими? Мы уже признали, что социальные факты столь же эмпиричны — и столь же нормативны, — сколь и любые другие, а в силу этого не в меньшей степени поддаются научному изучению. Почему же развитие общественных наук так отстает от развития физических? Ответ на этот вопрос будет также и ответом на вопрос о том, способны ли обществоведы надлежащим образом воспользоваться научным методом. К сожалению, приходится признать, что обществоведы еще очень далеки от понимания научного метода. Они следуют декларируемым исследовательским процедурам отдельных физиков вместо того, чтобы следовать действительным исследовательским процедурам физики в лучших ее проявлениях. Обществоведы нашли согласие в том, что научный метод заключается в беспристрастном сборе бесчисленных фактов, предполагая, что накопление достаточно большого количества данных самопроизвольно приведет их к таким обобщениям, которые можно будет принять в качестве законов социальной жизни. Достаточно сказать, что такая процедура в физике практически никогда не применялась. Некоторые общественные дисциплины, в частности социология, располагают гораздо большим фактическим материалом, нежели когда-либо находилось в распоряжении естественных наук. Более того, такой метод идет вразрез с предпосылками науки вообще, которые предполагают, что отбор фактов должен осуществляться с определенной точки зрения. Факты были бы лишены всякого смысла, если бы не отбирались с какой-то особой точки зрения, представляющей собой некоторую имплицитную гипотезу, на проверку которой, в свою очередь, и нацелены отбираемые факты. Непонимание этого в значительной мере подрывает силы исследовательской процедуры социальных наук. Социальные науки опасаются выдвигать всеобъемлющие гипотезы, но физические науки этого не боятся и формулируют предположения, касающиеся самых обширных совокупностей фактов, и проводят фактические исследования для проверки этих гипотез. В любом научном методе присутствуют оба направления: исследования, нисходящие до мельчайших фактов, и индукции, восходящие до самых широких теорий. Наука желает знать, насколько мельчайшие факты согласуются с ее широчайшими теориями. Итак, в общественной науке мы до сих пор располагаем лишь фактами и не имеем никаких теорий, а это значит, что в наших руках находятся факты, лишенные raison d' etre. Почему дело обстоит так? Общественные науки обладают всеми материальными предпосылками для развития: есть области эмпирических фактов для изучения, есть люди доброй воли, хоть и отсутствует необходимый метод исследования. Их неудача обусловлена прежде всего двумя факторами: трудностью изучения чрезвычайно сложной области явлений и трудностями, проистекающими из неправильного понимания метода. Последние можно преодолеть, изучая логику научного метода, прежде всего роль гипотез в развитии науки. Преодоления же первого затруднения можно ожидать лишь на пути долгих и кропотливых исследований. Проблема не станет простой, если мы осознаем ее сложность, но она станет несколько проще, если мы откроем способы приближения к ее решению. Общественные науки, до сих пор с опаской относящиеся к рационалистическому методу, которым злоупотребляли в средние века, когда от разума ждали ответов на все вопросы о фактах без какого бы то ни было обращения к самим фактам, исходят в своей работе из ложного допущения, будто научный метод не может быть рационалистическим методом. Одного разума недостаточно, если он пытается все частности и мельчайшие подробности вывести из знания универсалий. Эту ошибку рационалистического догматизма научный метод наконец-то преодолел. Однако преодоление нельзя считать полным, если научный метод, не разобравшись в сути дела, бросается в другую крайность и впадает в ошибку эмпирического догматизма, предполагая, что универсалии вообще никак не соотносятся с эмпирическим материалом. Истина заключена в том, что в научном методе должны быть совмещены рациональные рассуждения и факты. При отсутствии фактов разуму не с чем работать, а при отсутствии разума нечему работать над фактами. Сочетание одних фактов с другими, ввиду имеющихся между ними сходств и различий, непосредственно предполагает использование логики, или рационального рассуждения. Естественные науки уже пришли к пониманию того, что разум является неотъемлемым элементом научного метода; социальным наукам еще только предстоит это осознать. Возможности научного метода и удивительные открытия, которые он нам сулит, выходят за рамки человеческого воображения. Разуму редко предоставлялся шанс продемонстрировать свои возможности. Такое случалось лишь дважды: в греческой философии и в современной науке. В обоих случаях в человеческой душе остались глубокие отметины, которые, быть может, уже не изгладятся никогда. В средние века разум был беспомощно привязан к откровению; со времен Ренессанса над ним довлели то догмы субъективного номинализма, то психологизм, а сам он оставался столь же беспомощным. Чтобы исправить положение дел, необходимо признать власть разума, опирающегося на факты как на свой единственный авторитет. Объединившись, разум и факты смогут сделать для развития человеческой культуры гораздо больше, чем что бы то ни было. Применение научного метода к области социокультурных явлений неизбежно приведет к созданию подлинной общественной науки о человеческой культуре, которая принесет с собой как величайшие достижения в сфере познания, так и огромные преимущества для практической деятельности, в которых мы сегодня так настоятельно нуждаемся. Перевод В. Г. Николаева Клиффорд Гирц. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории культуры*
I В книге «Философия в новом ключе» Сьюзен Лангер (Langer S. Philosophy in a New Key) пишет о том, что некоторые идеи с удивительной быстротой распространяются в интеллектуальной среде. Они одновременно решают столько фундаментальных проблем, что создается впечатление, будто они могут решить все проблемы, сделать понятными все непроясненные вопросы. Их все сразу подхватывают, видя в них ключ к новой абсолютной науке, концептуальный центр, вокруг которого можно построить всеобъемлющую систему анализа. Неожиданная мода на такую grande idee, вытесняющая на время все другие идеи, рождается, пишет она, благодаря тому, что «активно работающие и восприимчивые к новому умы сразу начинают ее изучать. Мы пытаемся примерить ее ко всему, в связи со всем, экспериментируем со всеми возможными приложениями ее непосредственного значения, со всеми следующими из нее обобщениями и со всеми очтенками ее смысла». Однако как только мы уже освоились с новой идеей и она вошла в обойму расхожих теоретических концепций, наши ожидания уравновешиваются ее реальным практическим значением, и наступает конец ее чрезмерной популярности. Всегда остается несколько энтузиастов, по-прежнему видящих в ней ключ ко всем тайнам Вселенной, но более спокойные мыслители привязывают ее уже лишь к тому комплексу проблем, решению которых эта идея действительно может способствовать. Они стараются применять ее лишь там, где она действительно должна найти применение, и не связывают ее с тем, к чему она не имеет отношения. Если эта идея действительно плодотворная, она надолго и прочно входит в наш интеллектуальный арсенал. Но у нее уже нет былого налета величия, всеохватывающего масштаба, бесконечной универсальности ее возможного применения. Второе начало термодинамики, закон естественного отбора, принцип бессознательной мотивации, организация средств производства — эти идеи не объясняют всего и даже всего, связанного с человеком, но кое-что они все же объясняют; и мы должны выделить то, к чему они действительно имеют отношение, и откреститься от псевдонауки, которую на первых порах они породили. Не знаю, все ли значительные научные концепции прошли этот путь. Но, безусловно, по этой модели развивалась концепция культуры, вокруг нее сформировалась научная дисциплина антропология, которая постоянно стремится ее ограничить, уточнить, сфокусировать и сохранить. Ограничить концепцию культуры до ее реальных размеров, тем самым подтвердить ее непреходящее значение, но не преуменьшить его — этой задаче так или иначе служат собранные здесь статьи, хотя и посвящены они разным темам. В каждой из них я стремился, иногда открыто, но чаще через анализ конкретных вещей, предложить более узкую, конкретную и, по моему убеждению, более состоятельную с точки зрения науки концепцию культуры, чем знаменитое тайлоровское определение «в широком этнографическом смысле»1, которое в свое время дало толчок научной мысли, но сейчас уже, как мне кажется, больше затемняет, чем проясняет суть дела.
Книга Клайда Клакхона «Зеркало для человека» (Kluckhohn С. Mirror for man), одно из лучших введений в антропологию, показывает, в какое концептуальное болото могут завести нас рассуждения о культуре в тайлоровском духе. На двадцати семи страницах главы, посвященной этому понятию, Клакхон умудрился по очереди определить культуру как: 1) «обобщенный образ жизни народа»; 2) «социальное наследие, которое индивид получает от своей группы»; 3) «образ мыслей, чувств и верований»; 4) «абстракцию поведения»; 5) созданную антропологами версию поведения группы людей; 6) «сокровищницу коллективного знания»; 7) «стандартный набор ориентации среди повторяющихся проблем»; 8) научаемое поведение; 9) механизм для нормативного регулирования поведения; 10) «набор приемов приспособления к окружающей среде и к другим людям»; 11) «осадок, который дает история», и, уже явно в отчаянии переходя к образам, как карту, сито и матрицу. По сравнению с такой теоретической неопределенностью даже немного ограниченная и не совсем универсальная, но внутренне согласованная и, что еще важнее, четко сформулированная концепция культуры будет шагом вперед (справедливости ради заметим, что Клакхон и сам это прекрасно понимает). Эклектизм бесперспективен не потому, что существует лишь одна столбовая дорога, по которой следует идти, а потому, что дорог много: надо выбирать. Концепция культуры, которой я придерживаюсь и конструктивность которой пытаюсь показать в собранных в этой книге статьях, по существу семиотична. Разделяя точку зрения Макса Вебера, согласно которой человек — это животное, опутанное сотканными им самим сетями смыслов, я полагаю, что этими сетями является культура. И анализировать ее должна не экспериментальная наука, занятая выявлением законов, а интерпретативная, занятая поисками значений. Подвергая анализу загадочные на первый взгляд социальные факты, я ищу им объяснение. Но подобное доктринальное заявление само по себе требует некоторого объяснения. II Операционализм как методологическая догма никогда не был продуктивен в области общественных наук, исключениями являются лишь несколько специфических областей: скиннеровский бихевиоризм, тестирование интеллекта и т.д., — и сейчас он уже практически не существует. Но, несмотря на это, у него была своя сильная сторона, и она до сих пор актуальна, как бы мы ни иронизировали по поводу попыток операционально определить харизму или отчуждение: если вы хотите понять, что собой представляет та или иная наука, вам следует рассмотреть не ее теоретическую основу, и не ее открытия, и, разумеется, не то, что говорят о ней апологеты; в первую очередь вам следует посмотреть, чем занимаются практикующие ученые. В антропологии, во всяком случае в социальной антропологии, ученые-практики занимаются этнографией. И начинать разбираться в том, что представляет собой антропологический анализ как отрасль знания, следует с уяснения, что такое этнография или, точнее, что значит заниматься этнографией. И тут, надо сразу заметить, дело не в методе. Согласно изложенной в учебниках точке зрения, заниматься этнографией — значит устанавливать контакт, выбирать информантов, записывать (транскрибировать) тексты, выявлять родственные связи, размечать карты, вести дневник и т.д. Но вовсе не это, не приемы и не навыки, составляет специфику этой работы. Ее специфика состоит в своего рода интеллектуальном усилии, которое необходимо приложить, чтобы создать, говоря словами Гилберта Райла, «насыщенное описание». Райл развил свою мысль о «насыщенном описании» в двух недавних статьях (перепечатанных во втором томе его «Избранных трудов»), посвященных тому, чем, главным образом, занимается «Le Penseur»: «Думать и размышлять» и «Обдумывать мысли». Представьте себе, пишет он, двух мальчишек, моргающих правым глазом. Один совершает движение веком непроизвольно, другой подает тайный сигнал приятелю. Оба движения с физической точки зрения идентичны; если рассмотреть их просто-как-движения, сделать некое «феноменалистическое» наблюдение, невозможно отличить, кто из них моргнул, кто подмигнул, а может, оба моргнули или оба подмигнули. В то же время, пусть неприметная с фотографической точки зрения, разница между обычным морганием и подмигиванием весьма существенная; это хорошо понимает каждый, кто хоть раз по ошибке принял одно за другое. Подмигивание — это коммуникация, причем коммуникация вполне определенного рода, которая 1) имеет сознательный характер, 2) направлена на конкретного человека, 3) передает определенное сообщение, 4) и делает это в соответствии с социально установленным кодом и 5) в тайне от остальной компании. Как отметил Райл, тот, кто подмигнул, не совершал двух разных действий, он не моргнул и подмигнул одновременно, но тот, кто моргнул, совершил только одно — он моргнул. Подмигнуть — это значит сознательно моргнуть в случае, когда существует социальный код, согласно которому это действие есть конспиративный сигнал. Вот что это такое: крупица поведения, крупица культуры и — voila!— жест. Но это только начало. Предположим, продолжает он, есть еще и третий мальчик, который, «чтобы развеселить своих дружков», решил подразнить первого подмигнувшего мальчика и повторил его движение, только нарочито неумело, неуклюже, некрасиво и т.д. Он при этом сделал, конечно же, то же самое движение, что и первый, моргнувший, и второй, подмигнувший: сомкнул верхнее и нижнее веко правого глаза. Но этот мальчик уже и не моргнул, и не подмигнул, он передразнил чужую попытку подмигнуть. На этот случай тоже существует социально значимый код (он будет мигать с бульшими усилиями, преувеличенно, может быть, гримасничая — с обычными приемами клоуна), и этот мальчик тоже передает сообщение. Но на этот раз основной лейтмотив действия не тайна, а насмешка. Если другим покажется, что он действительно подмигивает, то вся затея пропадет даром, правда, результат вследствие этого получится другой, не такой, как если бы все подумали, что он просто моргает Можно развивать эту мысль дальше: не уверенный в своих мимических способностях, будущий клоун может дома попрактиковаться перед зеркалом, и в этом случае он будет не моргать, не подмигивать, не передразнивать, а репетировать; хотя, с точки зрения фотокамеры, радикального бихевиориста или иного сторонника протокольной точности отчетов, в этом случае он, как и во всех предыдущих, будет просто быстрыми движениями смыкать верхнее и нижнее веко правого глаза Можно и дальше, действуя логически, почти до бесконечности, усложнять ситуацию. Например, тот, кто подмигивал, мог на самом деле пытаться ввести в заблуждение остальных, делая вид, что имеет с кем-то из присутствующих тайный сговор, которого не было; и в этом случае соответственно меняется смысл и наших спекуляций на тему передразнивающего и репетирующего перед зеркалом. Но суть моих рассуждении сводится к тому, что между тем, что Райл назвал бы «ненасыщенным описанием» действий репетирующего, передразнивающего, подмигивающего, моргающего и т.д. («быстрым движением смыкают верхнее и нижнее веко правого глаза»), и «насыщенным описанием» того, что они на самом деле делают («репетирует перед зеркалом, как он будет передразнивать приятеля, когда тот будет кому-то тайно подмигивать»), лежит предмет исследования этнографии: стратифицированная иерархия наполненных смыслом структур, в контексте которых возможно моргать, подмигивать, делать вид, что подмигиваешь, передразнивать, репетировать, а также воспринимать и интерпретировать эти действия и без которых все эти действия (включая и нулевое морганье, которое как категория культуры в такой же степени не подмигивание, в какой подмигивание является не морганьем) не будут существовать, независимо от того, что кто-то будет делать с верхним и нижним веком своего правого глаза. Подобно многим байкам, которые оксфордские философы любят сочинять для себя, все эти моргания, подмигивания, мнимые подмигивания, передразнивания мнимого подмигивания и репетиции передразнивания мнимого подмигивания на первый взгляд кажутся нарочито придуманными. Чтобы внести в повествование эмпирическую ноту, позволю себе процитировать, намеренно без какого-либо предварительного комментария, вполне типичный отрывок из моего собственного полевого журнала. Этот кусочек показывает, что, хотя пример Райла для наглядности был несколько упрощен, он весьма точно отображает смешанные структуры умозаключений и скрытых смыслов, сквозь которые этнографу все время приходится продираться: «Французы [по словам информанта] только недавно появились. Между этим городом и областью Мармуша, находившейся в горах, они устроили около двух десятков небольших фортов, расположив их таким образом, чтобы было удобно следить за окружающей территорией. Но при этом они так и не могли гарантировать безопасность, особенно по ночам, и поэтому система торговли mezrag (договорная) фактически продолжала существовать, хотя считалось, что она упразднена. Однажды ночью, когда Коэн (который свободно объясняется по-берберски) был в горах, в Мармуше, два других еврея, торговавших с соседними племенами, пришли кое-что у него купить. Какие-то берберы из соседнего племени хотели ворваться к Коэну, но он выстрелил в воздух. (Традиционно евреям не позволялось носить оружие, но в то смутное время многие пренебрегали запретом.) Это привлекло внимание французов, и мародеры скрылись. Но на следующую ночь они вернулись; один из них переоделся женщиной, постучался в дверь и рассказал какую-то историю. Коэн заподозрил недоброе и не хотел пускать «ее», но другие евреи сказали: «Ничего страшного, это всего-навсего женщина». Они отперли дверь, и вся шайка ввалилась внутрь. Разбойники убили двух евреев, но Коэн забаррикадировался в соседней комнате. Он слышал, как грабители собирались сжечь его заживо в лавке, после того как они вынесут весь товар, поэтому он открыл дверь и, размахивая вокруг себя дубиной, выскочил в окно. Он отправился в форт, чтобы ему перевязали раны, и сообщил о случившемся местному коменданту, капитану Дюмари, говоря, что хотел бы получить свой 'ар — т.е. четырех— или пятикратную стоимость украденного товара. Грабители были родом из племени, еще не подчинившегося французам, в данный момент это племя восстало против французских властей. Коэн просил санкции на то, чтобы пойти вместе с владельцем своего mezrag, племенным шейхом из Мармуши, собирать положенное ему по традиционному праву возмещение за понесенный ущерб. Капитан Дюмари не мог официально дать ему на это разрешение, поскольку французы запретили отношения mezrag, но он разрешил ему это изустно, сказав при этом: «Если тебя убьют, то это меня не касается». Таким образом, шейх, еврей и небольшой отряд вооруженных мармушанцев отправились за 10-15 километров в район восстания, где французов не было, подкравшись, захватили пастуха племени, к которому принадлежали грабители, и украли его стадо. Люди из этого племени погнались за ними на конях, вооруженные ружьями и готовые к бою Но увидев, кто именно похитил их овец, они успокоились и сказали" «Хорошо, давайте поговорим». Они не смогли отрицать случившееся — что люди из их племени ограбили Коэна и убили двух его гостей — и не были готовы начинать серьезную распрю с мармушанцами, к этому неминуемо привела бы расправа с отрядом, забравшим овец. Итак, они начали переговоры, и говорили, говорили, говорили прямо среди тысяч овец и, наконец, сошлись на том, что Коэн должен забрать 500 овец. Две вооруженные группы конных берберов выстроились по разные стороны равнины, зажав между собой стадо, Коэн же в черном плаще, в ермолке и шлепанцах ходил один среди овец и неспешно, одну за другой, выбирал для себя самых лучших. Итак, Коэн получил своих овец и погнал их в Мармушу. Французы из форта услышали, как они идут («Ба, ба, ба», — радостно говорил Коэн, вспоминая, как это было), и спросили: «Это еще что такое?». Коэн ответил: «Это мой 'ар». Французы не поверили, что он действительно сделал все, как собирался, обвинили его в пособничестве восставшим берберам, посадили в тюрьму и отобрали овец. Семья же Коэна в городе, не получив о нем никаких известий, решила, что он погиб. Вскоре французы его отпустили, и он вернулся домой, но без овец. В городе он пошел жаловаться французскому полковнику, контролировавшему весь район. Но полковник сказал: «Ничего не могу поделать. Это меня не касается». Процитированный вот так, без комментариев, этот отрывок (впрочем, как и любой другой отрывок, если его аналогичным образом цитировать) уже показывает, насколько необычайно «насыщенным» является этнографическое описание, даже если оно не носит систематического характера. В завершенных антропологических работах, в том числе в собранных в этой книге, это обстоятельство — то, что так называемый наш материал на самом деле есть наши собственные представления о представлениях других людей о том, что из себя представляют они сами и их соотечественники, — скрыто от глаз, потому что в большинстве своем фоновая информация, которая требуется, чтобы проанализировать конкретное явление, ритуал, обычай, идею и т.д., вводится заранее. (Предупредив, что описанная выше небольшая драма произошла в горах центрального Марокко в 1912 г. и была рассказана и записана там же в 1968 г., мы уже в значительной степени предопределим восприятие этого текста.) Ничего страшного в этом нет, этого невозможно избежать. Однако в результате возникает отношение к антропологическому исследованию как к деятельности, в которой преобладает наблюдение, а не интерпретация. На самом же деле главным в нашей работе является экспликация и — еще того хуже — экспликация экспликаций. Подмигивание по поводу подмигивания по поводу подмигивания. Анализ, таким образом, представляет собой разбор структур сигнификации (structures of signification) — того, что Райл называл установленными кодами. Это не очень удачно, поскольку создает впечатление, будто речь идет о работе шифровщика, хотя на самом деле эта работа под стать литературному критику — определение их социального основания и социального значения. Применительно к приведенному выше тексту разбор следует начать с выделения трех разных рамок интерпретации, присущих данной ситуации, а именно еврейской, берберской и французской; затем надо показать, каким образом (и почему) в то конкретное время и в том конкретном месте их соединение породило ситуацию, в которой цепь непонимания низвела традиционную форму до уровня социального фарса. В этой истории Коэн, а вместе с ним и весь древний паттерн общественных и экономических отношений, в границах которого он действовал, наткнулись на смешение языков. Я ниже еще вернусь к этому излишне сжатому афоризму, а также к деталям самого текста. Сейчас важно лишь подчеркнуть, что этнография — это «насыщенное описание». Реально этнограф постоянно — за исключением неизбежных ситуаций, когда он занимается обычным сбором данных, — сталкивается с множественностью сложных концептуальных структур, большинство их наложены одна на другую или просто перемешаны, они одновременно чужды ему, неупорядочены и нечетки, и он должен так или иначе суметь их понять и адекватно представить. И это относится даже к самому приземленному уровню его полевой работы: к опросу информантов, наблюдению ритуалов, выявлению терминов родства, прослеживанию линий перехода собственности из рук в руки, переписи хозяйств... к ведению дневника. Заниматься этнографией — это все равно, что пытаться читать манускрипт, — на чужом языке, выцветший, полный пропусков, несоответствий, подозрительных исправлений и тенденциозных комментариев, но написанный не общепринятым графическим способом передачи звука, а средствами отдельных примеров упорядоченного поведения. III Культура, каковую и представляет этот инсценированный документ, имеет общественный характер, подобно клоунаде с подмигиванием или эпизоду с овцами. Хотя она идеациональна, но существует не в чьей-то голове; хоть не обладает физической субстанцией, не является тайным знанием. Бесконечные в силу своей бесконечности споры антропологов по поводу того, «субъективна» или «объективна» культура, сопровождаемые взаимными интеллектуальными оскорблениями («идеалист!» — «материалист!»; «менталист!» — «бихевиорист!»; «импрессионист!» — «позитивист!»), как правило, неверно истолковываются. Поскольку поведение человека (в большей его части; ведь случается и просто моргнуть) рассматривается как символическое действие — действие, которое обозначает, подобно звукопроизводству в речи, красящему пигменту в живописи или звуку в музыке,— вопрос о том, является ли культура паттернированным поведением, или расположением духа, или одновременно и тем и другим, теряет смысл. И если речь идет о подмигивании или об эпизоде с овцами, интересоваться следует вовсе не их онтологическим статусом. Он таков же, как у скал или у наших надежд, — это все явления нашего мира. Интересоваться следует их значением: что именно — насмешка или вызов, ирония или гнев, высокомерие или гордость — выражается в них и с их помощью. На первый взгляд это очевидная истина, но существуют несколько способов скрыть ее от глаз. Один их них — представлять культуру как самостоятельную «суперорганическую» реальность, обладающую собственными движущими силами и целями, т.е. реифицировать ее. Другой — настаивать, будто она заключается в грубом паттерне поведенческих реакций, которые можно наблюдать в том или ином узнаваемом сообществе, т.е. редуцировать ее. Но несмотря на то что оба ведущих к путанице подхода существуют и, без сомнения, будут продолжать существовать, главным источником теоретической неразберихи в антропологии служит концепция, возникшая в ответ на них и к настоящему времени распространившаяся достаточно широко; она утверждает, если говорить словами ее, очевидно, главного глашатая Уорда Гудинафа, что «культура [находится] в умах и сердцах людей». Существующее под названиями «этнонаука», «компонентный анализ» или «когнитивная антропология» (терминологические искания здесь отражают глубинную неопределенность) направление утверждает, что культура состоит из структур психологии, посредством которых индивиды или группы индивидов формируют свое поведение. «Культура общества, — гласит ставшая уже классической для этого направления цитата из Гудинафа, — состоит из того, что следует знать и во что следует верить, чтобы вести себя приемлемым для других членов общества образом». И уже из точки зрения на то, что представляет собой культура, формируется точка зрения, тоже достаточно безапелляционная, на то, что представляет собой ее описание, — вычленение системы правил, этнографического алгоритма, следуя которому можно было бы сойти (если абстрагироваться от внешнего вида) за туземца. Таким образом, в этой концепции чрезмерный субъективизм соединился с чрезмерным формализмом, и результат не заставил себя ждать: разгорелись споры о том, отражает ли конкретный анализ (результаты которого могут быть представлены в виде таксономии, парадигм, таблиц, схем и прочих ухищрений) то, что туземцы «на самом деле» думают, или же просто некие спекуляции, логически эквивалентные этому, но по существу иные. Поскольку на первый взгляд такой подход напоминает представленный в данной книге и может быть по ошибке принят за него, полезно остановиться на нем подробнее и объяснить, что различает эти две концепции. Оставим на некоторое время подмигивание и овец и рассмотрим, например, квартет Бетховена как явление культуры — для наших целей это будет более наглядно. Никто, я думаю, не отождествит его с партитурой, с умением и знанием, необходимыми, чтобы его исполнить, с пониманием музыки, присущим его слушателям и исполнителям, и, если уж помнить о любителях редуцировать и реифицировать, с конкретной версией его исполнения или с некой мистической сущностью, выходящей за пределы материального существования. «Никто» звучит, пожалуй, слишком категорично, поскольку всегда находятся неисправимые. Но то, что квартет Бетховена есть развитая во времени тональная структура, последовательный ряд оформленного звука — одним словом, музыка, но не чьи-то знания чего-то или верования во что-то, в том числе и в то, как ее следует исполнять, — это точка зрения, с которой большинство людей, подумав, согласятся. Чтобы играть на скрипке, необходимо обладать определенным навыком, мастерством, знанием и способностями, кроме того, надо быть в настроении играть и (вспомним старую шутку) иметь скрипку. Но игра на скрипке несводима к навыку, мастерству, знанию и т.д., даже к настроению или (с этим согласны даже приверженцы концепции «материальной культуры») к скрипке. Чтобы заключить торговый договор в Марокко, нужно сделать ряд вещей определенным образом (в том числе под пение Корана перерезать горло ягненку перед собравшимися взрослыми мужчинами своего племени), а также обладать определенными психологическими характеристиками (в том числе желанием что-то приобрести). Но торговый договор несводим к перерезанию горла ягненка или к желаниям, хотя он вполне реален, как это поняли семеро родственников нашего мармушанского шейха, когда он подверг их казни за кражу у Коэна какойто паршивой и малоценной овечьей шкуры. Культура имеет общественный характер, потому что таков характер значения. Нельзя подмигнуть (или передразнить подмигивающего), не зная, что считается подмигиванием, не понимая, как физически сомкнуть ресницы; нельзя совершить кражу овец (или сделать вид, что собираешься это сделать), не понимая, что значит украсть овцу и как организовать эту акцию. Но если, исходя из этого, сделать заключение, что знать, как надо подмигивать, — это и есть подмигнуть, или знать, как украсть овцу, — это и есть кража овцы, то произойдет ошибка ничуть не меньшая, как если, подменив «насыщенное описание» «ненасыщенным», отождествить подмигивание с морганьем или кражу овцы с охотой на дикое животное, дающее шерсть. Когнитивистское заблуждение, будто культура состоит (процитируем еще одного поборника этого движения, Стивена Тайлера) из «ментальных феноменов, которые могут [в смысле «должны»] быть анализируемы формальными методами, аналогичными с принятыми в математике или в логике», имеет столь же разрушительное для этой концепции последствие, как и бихевиористское и идеалистическое заблуждения, против каковых оно и выдвинуто. А может и большее, поскольку его ошибочность не столь очевидна, и искажения носят более тонкий характер. Всеобщая атака на теории частного характера значения со времен раннего Гуссерля и позднего Витгенштейна стала настолько органичной частью современной общественной мысли, что нет необходимости здесь вновь возвращаться к этому вопросу. Важно лишь проследить, чтобы эти свежие мысли достигли антропологии; в особенности, прояснить, что высказывание, будто культура состоит из установленных обществом структур значений, прибегая к которым люди могут посылать и получать тайные сигналы, воспринимать оскорбления и отвечать на них, ничуть не ближе к высказыванию, будто культура — психологический феномен, характерная черта чьего-то сознания, какой-либо личности, когнитивной структуры или чего-нибудь еще, чем к высказыванию, что тантризм, генетика, продолженная форма глагола, классификация вин, обычное право или понятие «обусловленное проклятье» (им Вестермарк объяснил 'ар, которым Коэн обосновал свои притязания на возмещение ущерба) существуют. Если кто-то из нас, привыкших подмигивать на чужие подмигивания, окажется, например, в Марокко, то не отсутствие знаний о том, каким образом происходит познание (хотя особенно, если признать, что у них и у нас оно происходит одинаково, такие знания нам весьма пригодятся), помешает нам понять, чем руководствуются в своих действиях местные жители, а незнакомство с воображаемым миром, внутри которого их действия являются знаками. Раз уж мы упомянули Витгенштейна, то будет уместным его же и процитировать: «Мы... говорим о некоторых людях, что они для нас очевидны. В связи с этим важно заметить, что один человек может быть полнейшей загадкой для другого. Мы можем удостовериться в этом, попав в чужую страну с совершенно чуждыми нам традициями и, что важно отметить, даже основательно зная язык этой страны. Мы не понимаем людей. (И вовсе не потому, что не понимаем, что они друг другу говорят.) Мы не можем найти с ними общий язык». IV Если рассматривать этнографическое исследование с точки зрения личного опыта, то оно заключается в том, чтобы искать общий язык, а это непростая затея, которая удается обычно лишь в некотором приближении. Если же рассматривать письменный труд антрополога как научное предприятие, то он заключается в попытке сформулировать некие основы, на которых, как это обычно безосновательно кажется, можно найти этот общий язык. При этом антропологи, по крайней мере я, вовсе не стараются стать туземцами или подражать им. Эту цель могут ставить перед собой лишь романтики и шпионы. Мы ищем возможности вести с ними разговор в широком смысле этого слова, подразумевая под этим нечто значительно большее, чем просто беседа; а это задача гораздо сложнее, чем это кажется со стороны, даже если собеседником выступает не иноземец. «Если процесс разговора от имени другого может показаться кому-то таинственным, — заметил как-то Стэнли Кэвел, — то это лишь потому, что он недооценивает таинственность процесса разговора с другим». Если взглянуть на нашу проблему таким образом, то цель антропологии — расширение границ человеческого дискурса. Конечно, это не единственная цель — другими служат образование, развлечение, практические советы, моральное совершенствование, а также выявление природных законов в поведении человека, — и антропология не единственная наука, которая эту цель преследует. Но как раз этой цели может с наибольшей отдачей служить семиотическая концепция культуры. Как взаимодействующие системы создаваемых знаков (так я буду называть символы, игнорируя провинциальное словоупотребление) культура не есть сила, которой могут быть произвольно приписаны явления общественной жизни, поведение индивидов, институты и процессы; она — контекст, внутри которого они могут быть адекватно, т.е. «насыщенно», описаны. Пресловутая антропологическая притча с экзотическими (для нас) берберами-всадниками, евреями-торговцами и французскими легионерами, таким образом, предстает как средство замещения приевшегося чувства фамильярности, которое скрывает от нас таинственность нашей способности общаться друг с другом и быть понятыми. Рассматривая обычное событие в необычных обстоятельствах, мы больше обращаем внимание, вопреки тому, как это обычно считается, не на случайный характер поведения человека (нет ничего случайного в том, что кража овец в Марокко была воспринята как оскорбление), а на степень вариативности его значений в зависимости от того паттерна жизни, который наполняет его информацией. Понимание культуры народа делает явной его нормальность, не редуцируя его особенности. (Чем больше я пытаюсь понять марокканцев, тем более логичными и менее похожими на других они передо мной предстают.) Оно представляет этот народ доступным: помещение людей в контекст их собственных банальностей рассеивает туман таинственности. Именно такой маневр, который обычно называют «посмотреть на вещи с точки зрения действующего лица», на языке науки — «понимающий» подход (verstehen approach), или, более технично, «эмический анализ», способствует распространению мнения, будто антропология — это разновидность чтения мыслей на расстоянии или фантазий на тему «остров людоедов» и что любители лавировать меж десятков забытых философских систем должны заниматься ею с большой осторожностью. Нет ничего более важного для уяснения сути антропологической интерпретации, а также того, до какой степени это есть интерпретация, чем точное понимание, что значит — а также, что не значит — сказать, что наши описания символических систем других народов должны иметь ориентацию на действующих лиц2.
Это означает, что описание культуры берберов, евреев или французов должно быть выполнено с использованием тех конструкций, в которые, по нашим представлениям, берберы, евреи и французы сами себя мысленно помещают, и тех формул, в которых они сами описывают, что с ними происходит. Но это не означает, будто эти описания могут быть отождествлены с берберами, евреями и французами, что они являются частью той реальности, которую они якобы описывают; они принадлежат антропологии, т.е. входят в систему научного анализа в развитии. Они должны быть выполнены исходя из тех же позиций, из которых люди сами интерпретируют свой опыт, потому что описывать следует именно то, что люди сами считают; но они антропологические, потому что их выполняют антропологи. Обычно не обязательно особо подчеркивать то обстоятельство, что объект изучения — это одно, а само изучение — другое. Достаточно очевидно, что физический мир — это не физика, и что «Комментарий к «Поминкам по Финнегану» — это не «Поминки по Финнегану». Но в случае с изучением культуры анализ проникает в самое тело объекта изучения, т.е. мы начинаем с нашей интерпретации того, что имеют в виду наши информанты или что они думают, будто имеют в виду, и потом это систематизируем — между (марокканской) культурой как материальным фактом и (марокканской) культурой как теоретическим построением нет четкой границы. И она еще более стирается по мере того, как последняя предстает в форме описания действующим лицом (марокканских) представлений обо всем, от ярости, чести, святости и справедливости до племени, собственности, отношений патронажа и лидерства. Короче говоря, антропологические работы представляют собой интерпретации, причем интерпретации второго и третьего порядка. (По определению, только «туземец» может создать интерпретацию первого порядка: это ведь его культура3.) Таким образом они суть фикции, фикции в значении «нечто созданное», «нечто смоделированное» — вот первоначальное значение fictio, — но не в значении неверные, неправильные, придуманные. Создать ориентированное на субъекта описание событий 1912 г. в Марокко с участием шейха-бербера, купца-еврея и французского воина — это творческий акт, ничем не отличающийся от описания действий, происходивших во Франции в XIX в., с участием провинциального французского доктора, его глупой, изменяющей ему жены и ее безалаберного любовника. В последнем случае действующие лица будут представлены как не существовавшие на самом деле, а события как не происходившие реально, в то время как в первом они будут представлены как реальные или как реально происшедшие. Это разница весьма существенная, это именно то, что не удалось понять мадам Бовари. Суть этой разницы не в том, что история мадам Бовари придумана, а история Коэна записана. Условия создания и цель (не говоря уже о стиле и качестве) этих рассказов различаются. Но они в равной степени являются «fictio» — «созданными».
Антропологи не всегда должным образом оценивали тот факт, что антропология существует не только в торговой лавке, в форте в горах, в погоне за овцами, но и в книге, в статье, в лекции, в музейной экспозиции и в последнее время даже в фильме. Понять это — значит осознать, что граница между способом репрезентации и сущностным содержанием в анализе культуры точно так же не может быть проведена четко, как и в живописи; это обстоятельство подвергает сомнению объективный статус антропологического знания, поскольку позволяет предположить, что источником его служит не социальная реальность, а фантазия ученого. Такая угроза существует, но не надо ее бояться. Этнографическое описание представляет интерес не способностью ученого нахвататься фактов в дальних странах и привезти их домой, как маску или статуэтку, но его умением прояснить, что же происходит в этих отдаленных местах, помочь разгадать загадку: что за люди там живут? — загадку, которую естественным образом порождают диковинные факты, выхваченные из контекста. Конечно, при этом возникает серьезная проблема верификации — или, если «верификация» слишком сильное слово для столь слабой науки (лично я предпочитаю «оценку»), проблема того, как отличить хорошую работу от плохой. И тут проявляются достоинства нашего подхода. Если под этнографией понимать «насыщенное описание», а выполняют его этнографы, то независимо от масштаба конкретной работы, будь это отрывок из полевого журнала или монография, не уступающая размером труду Малиновского, главный вопрос заключается в том, отделены ли в ней подмигивания от морганий и настоящие подмигивания от мнимых. Степень убедительности наших экспликаций измеряется не объемом неинтерпретированного материала, описаний, оставшихся «ненасыщенными», а силой научного воображения, открывающего нам жизнь чужого народа. Как говорил Торо, не стоит совершать кругосветное путешествие, чтобы считать кошек в Занзибаре. V Существует предположение, что нецелесообразно до начала исследования выделять в поведении особенности, которые нас более всего интересуют. Иногда его переиначивают, и получается, что именно эти особенности нас и интересуют, самим же поведением следует заниматься лишь очень поверхностно. Культуру надлежит рассматривать, настаивают далее апологеты этой точки зрения, как чисто символическую систему (обычно еще говорят: «исходя из самой культуры», «в ее собственных терминах»), изолируя ее элементы, обращая внимание на внутренние взаимоотношения этих элементов и затем характеризуя систему в целом, в соответствии с центральными символами, вокруг которых она организована, с базовыми структурами, внешним выражением которых она является, и с идеологическими принципами, на которых она основана. Хотя такой герметический подход к явлениям, безусловно, шаг вперед по сравнению с подходом к культуре как к «научаемому поведению» и «ментальным феноменам» и источник наиболее плодотворных теоретических концепций в современной антропологии, тем не менее я вижу в нем угрозу (которая уже начинает реализовываться) отрыва культурного анализа от его непосредственного объекта — неформальной логики реальной жизни. Нет смысла очищать концепцию от ошибок психологизма ради того, чтобы тут же погрузить ее в пучину схематизма. Поведением, безусловно, следует заниматься и довольно тщательно, потому что именно в потоке поведения — или, точнее, социального поведения — проявляются, артикулируются культурные формы. Они проявляются, конечно же, и в различных артефактах, и в разных формах сознания; но их значение зависит от роли, которую они играют (Витгенштейн сказал бы — от их «употребления») в текущем паттерне жизни, а не от их внутренних взаимоотношений. Речь идет о том, как Коэн, шейх и «капитан Дюмари» не понимали смысла действий друг друга, когда один из них занимался торговлей, другой защищал честь, а третий устанавливал колониальное господство, отчего и возникла наша пасторальная драма и в чем, собственно говоря, и заключается ее суть. Чем бы ни были и где бы ни существовали символические системы «сами по себе», эмпирический доступ к ним мы получаем, исследуя явления жизни, а не составляя однородные паттерны из абстрактных фигур. Из этого следует далее, что проверка на соответствие не может служить основной проверкой верности культурного описания. Культурные системы должны иметь минимальный уровень соответствия, иначе мы не могли бы называть их системами, и, как правило, он бывает значительно выше. Но больше всего соответствий встречается в параноидальном бреде и россказнях мошенника. Сила наших интерпретаций не может основываться, как это сейчас нередко бывает, на том, насколько они соответствуют друг другу и согласованы друг с другом. Ничто, по моему убеждению, не дискредитировало культурологический анализ в большей степени, чем конструирование безупречных описаний формального порядка, в реальном существовании которого так трудно бывает себя убедить. Если антропологическая интерпретация создает прочтение того, что происходит, то отделить ее от того, что происходит — от того, что, по словам определенных людей, они сами делают или кто-то делает с ними в определенное время и в определенном месте — равносильно отделению ее от практического приложения, т.е. обессмысливанию. Хорошая интерпретация чего угодно — стихотворения, человека, истории, ритуала, института или установления, общества — ведет нас к самой сути того, что она интерпретирует. Когда вместо этого она ведет нас к чему-то другому, например, к восхищению собственным совершенством или красотой евклидова геометрического порядка, то в ней можно находить некий внутренний шарм, но он не будет иметь никакого отношения к тому, что нас в данный момент занимает, — а именно к объяснению всей этой катавасии с овцами. Наша история с овцами — их якобы кража, возвращение с возмещением убытков, их политическая конфискация — это есть по сути социальный дискурс, пусть он, как я уже отмечал ранее, изложен разными языками и большей частью действием, а не словами. Требуя свой 'ар, Коэн апеллировал к торговому договору; признав его требование справедливым, шейх тем самым пошел против племени грабителей; взяв на себя ответственность за содеянное, племя грабителей возместило убытки; желая показать и шейхам, и торговцам, кто здесь хозяин, французы стали стучать имперским кулаком. Как и в любом дискурсе, код не определяет поведение, то, что реально было сказано, вовсе не обязательно должно было быть сказано. Коэн мог и не настаивать на своих претензиях, поскольку в глазах колониальных властей они выглядели незаконными. По тем же соображениям и шейх мог не поддержать его требования. Племя грабителей, активно сопротивлявшееся французам, могло решить, что Коэн с шейхом приехали от имени завоевателей, и начать сопротивляться, а не вступать в переговоры. Французы, в свою очередь, будь они более гибкими (какими они и стали несколько позже, при маршале Лиотэ), могли позволить Коэну оставить себе овец, признав тем самым преемственность торговых отношений и их относительную независимость от их власти. Существовали и другие возможности: мармушанцы могли признать действия французской администрации чрезмерно серьезным оскорблением и восстать против завоевателей; французы могли не ограничиться наказанием Коэна, но и призвать к порядку помогавшего ему шейха; Коэн мог решить, что невыгодно заниматься торговлей в горах Атласа, лавируя меж восставших племен и войск колонизаторов, и уйти в более спокойные места, в город. Примерно это и происходило по мере того, как укреплялось колониальное господство. Но в мою задачу не входит описывать, что происходило и что не происходило тогда в Марокко. (Этот простой инцидент может служить отправным пунктом изучения многих сложных проблем социального опыта.) Моей задачей является показать, в чем состоит антропологическая интерпретация: проследить кривую социального дискурса, сделать ее доступной для изучения. Этнограф «вычерчивает» социальный дискурс; записывает его. Тем самым он превращает его из происшедшего события, которое существовало только в момент, когда происходило, в сообщение, которое существует в записи и к которому можно многократно возвращаться. Шейха давно уже нет, он был убит или, каксказали бы французы, «усмирен»; «капитан Дюмари», его усмиритель, жив, вышел в отставку и предается воспоминаниям где-то на юге Франции, а Коэн в прошлом году, как беженец, или паломник, или умирающий патриарх возвратился «домой», в Израиль. Но то, что они в широком смысле слова «сказали» друг другу в Атласских горах 60 лет тому назад, сохранилось — хотя далеко не в совершенном виде — для изучения. «Так что же, — спрашивает Поль Рикёр, у которого и заимствована в целом, хотя и несколько переиначена, идея записанного события, — что именно фиксирует запись?» «Не сам акт речения, но «сказанное» в речи; под «сказанным» в речи мы понимаем сознательное словесное оформление существенного для цели дискурса, благодаря чему изреченное (sagen) стремится стать высказанным (Aus-sage). Короче говоря, то, что мы записываем, есть noema [«мысль», «содержание», «суть»] речения. Это смысл акта речи, но не сам акт речи». Дело не только в этом «сказанном» - если оксфордские философы любят притчи, то философы-феноменологисты любят длинные фразы; но это высказывание подталкивает нас к более точному ответу на наш главный вопрос: «Чем занимается этнограф?». Он пишет4. Это может показаться весьма неожиданным открытием, а для тех, кто хорошо знаком с новейшей «литературой», — совершено неприемлемым. Но стандартный ответ на наш вопрос — «Он наблюдает, фиксирует, анализирует» — своего рода концепция veni, vidi, vici — может иметь гораздо более далеко идущие последствия, чем это очевидно на первый взгляд. Прежде всего, следует указать на то, что расчленить эти три фазы приближения к истине на практике не представляется возможным; собственно говоря, как самостоятельные операции они не существуют.
На самом деле ситуация еще более деликатная, поскольку, как уже отмечалось, то, что мы записываем (или пытаемся записывать), не есть социальный дискурс как таковой, к которому мы, не являясь за незначительным и весьма специфичным исключением его действующими лицами, не имеем непосредственного доступа; это лишь малая его часть, открывшаяся нам для понимания через наших информантов5. На самом деле, конечно, дела обстоят не так ужасно, как может показаться, поскольку не все критяне — лжецы, и вовсе не обязательно знать всё, для того чтобы что-либо понять. Однако все это ставит под сомнение представление об антропологическом анализе как о концептуальной манипуляции с обнаруженными фактами, логической реконструкции обыденной реальности. Симметрично раскладывать кристаллы смысла, очищенные от материальной сложности, в которую они были ранее помещены, а затем объяснять их существование автогенными принципами порядка, универсальными свойствами человеческого сознания или общими основами Weltanschauungen6 — значит воображать науку, которая на самом деле не существует, и представлять реальность, которой на самом деле не может быть. Культурный анализ состоит (или должен состоять) в угадывании значений, оценке догадок и в выводе интерпретирующих заключений из наиболее удачных догадок, но не в открытии Континента Смысла и картографировании его безжизненного ландшафта.
VI Итак, можно выделить три особенности этнографического описания: оно носит интерпретативный характер; оно интерпретирует социальный дискурс; интерпретация состоит в попытке выделить «сказанное» из исчезающего потока происходящего и зафиксировать его в читаемой форме. Кула исчезла или видоизменилась, а «Аргонавты наших дней» существуют. Но есть и еще одна, четвертая, особенность такого описания, по крайней мере она свойственна мне: оно микроскопично. Это вовсе не значит, что нет крупномасштабных антропологических интерпретаций обществ в целом, цивилизаций, событий всемирного масштаба и т. п. Именно расширение антропологического анализа, применение его к более широкому контексту, наряду с теоретическими достижениями, привлекает к нему всеобщее внимание, оправдывает нашу работу. Ведь на самом деле никого, даже Коэна, не интересуют (впрочем, возможно, Коэна и интересуют) овцы как таковые. В истории есть незаметные, но важные вехи, своеобразные «бури в стакане воды», но эта байка явно не из их числа. Но это значит, что антрополог, как правило, выходит к более широким интерпретациям и абстрактному анализу через этап очень подробного изучения чрезвычайно мелких явлений. Он имеет дело с теми же крупными категориями реальности, с какими другие — историки, экономисты, политологи, социологи — сталкиваются, но в роковой момент: с Властью, Переменами, Верой, Угнетением, Работой, Страстью, Авторитетом, Красотой, Насилием, Любовью, Престижем; но он имеет с ними дело в достаточно узком контексте — в местечке вроде Мармуши и в жизни человека вроде Коэна — чтобы употреблять эти слова без больших букв. В этом узком, домашнем, контексте общечеловеческие константы, «громкие слова, которых мы все боимся», приобретают вполне домашний вид. В этом преимущество нашего подхода. И без того достаточно уже громких слов. Тем не менее задача, как перейти от собрания этнографических миниатюр вроде нашей истории с овцами, состоящей из ряда реплик и баек, к крупномасштабной культурной реконструкции народа, эпохи, континента или цивилизации, решается не так просто, при всей ценности конкретики и здравого смысла. Она стала главной методологической проблемой науки, возникшей среди племен Индии, африканских родов, на островах Тихого океана, а потом поддавшейся амбициям, и эта проблема решается не самым удачным образом. Модели, разработанные антропологами, чтобы оправдать движение от локальной конкретики к глобальным обобщениям, виновны в неудаче этих попыток в не меньшей степени, чем на это указывали критики — социологи, у которых есть методика выборок, психологи, использующие результаты экспериментов, и экономисты, оперирующие совокупностями. Среди этих моделей наиболее важны «микрокосмическая» модель «Джоунсвилль-как-США» и «естественный эксперимент» на о-ве Пасхи. Или «огромный мир — в зерне песка»7, или «дальний берег вероятного».
Ошибочность идеи «Джоунсвилль-как-США в миниатюре» (или «США-как-Джоунсвилль увеличенный») настолько очевидна, что объяснения требует лишь то, как удалось людям в нее поверить самим и убедить в ее верности других. Представление, будто суть национального общества, цивилизации, великой религии или чего-то еще в сжатом и упрощенном виде можно увидеть в так называемом «типичном» маленьком городке или деревеньке, — очевидная ерунда. В маленьком городке или деревеньке можно наблюдать только (увы!) жизнь маленького городка или деревеньки. Если микроскопическое исследование строго локализовать, то его значение действительно будет целиком зависеть от верности посылки, будто большое познается в малом; в противном случае не будет смысла его вообще проводить. Но эти исследования нельзя рассматривать как строго локализованные. Место исследования не есть предмет исследования. Антропологи не изучают деревни (племена, маленькие города, поселения..); они проводят свои исследования в деревнях. Можно изучать разные вещи в разных местах, и кое-что — например, влияние колониального господства на установленные рамки моральных ожиданий — лучше всего изучать в небольших изолированных обществах. Но это не превращает место в объект изучения. В отдаленных районах Марокко и в Индонезии я бился над теми же проблемами, что и другие представители общественных наук решали в областях, расположенных ближе к центру, — например, как так получается, что наиболее настоятельные претензии человека к человечеству несут на себе печать групповой гордости, — и мои выводы были столь же убедительны, что и их. Можно добавить лишь новое измерение, что очень нужно сейчас, когда общественные науки очень быстро решают поставленные перед ними проблемы; но это и всё. Конечно, место имеет большое значение, если вы собираетесь писать об эксплуатации народных масс, понаблюдав за тем, как яванский издольщик копает землю под тропическим ливнем или как марокканский портной при свете двадцатисвечовой лампочки расшивает кафтан. Но предположение, будто это дает представление о проблеме в целом (и снабжает вас некоторым моральным преимуществом, позволяющим свысока смотреть на тех, кто лишен такой привилегии) — идея, которой лишь совсем несведущий может серьезно увлечься. Идея «естественной лаборатории» тоже оказалась пагубной, не только потому, что аналогия ложная, — что это за лаборатория, где ни один параметр не может быть изменен? — но потому, что она ведет к представлению, будто данные этнографического наблюдения более точные, более существенные, более надежные и в меньшей степени обусловленные обстоятельствами, чем данные других общественных наук. Огромное естественное многообразие культурных форм — это огромный (и разорительный) источник не только антропологических знаний, но и теоретической проблемы: как согласуется такое многообразие с биологическим единством человеческого вида? Но даже метафорически это многообразие нельзя назвать экспериментальным, поскольку контекст, в котором существует каждая форма, меняется так же, как меняются формы, и невозможно (хотя некоторые и пытаются) отделить игреки от иксов. Известные исследования, стремившиеся доказать, что жителям Тробрианских островов был свойствен Эдипов комплекс «наоборот», что на Чамбули половые роли «перевернуты», что индейцы пуэбло лишены агрессивности (по крайней мере на юге), хотя и основывались на эмпирических данных, но так и остались «гипотезами, не получившими научной верификации». Это интерпретации, истинные или ложные, полученные тем же путем, что и другие, и им свойственна такая же неубедительность, как и другим интерпретациям; попытка же исследовать их методом физического эксперимента — не что иное, как методологический «фокус». Этнографические разыскания — это не привилегированное знание, но это знание особого рода, еще одна страна в мире знания. И рассматривать их как нечто большее (или меньшее) — значит исказить и сами эти разыскания, и их импликации, которые гораздо важнее для социальной теории, чем собственно быт примитивных народов. Еще одна страна в мире знания: пространные описания давней поездки за овцами (а действительно хороший этнограф подробно описал бы, какой породы были овцы) имеют обобщающее значение, потому что они представляют собой социологическое- сознание в совокупности с живым фактическим материалом, на который оно может опереться. В антропологических разысканиях имеют значение их комплексный характер, их обстоятельность. Придать действительную актуальность мегаконцепциям, которыми страдают современные общественные науки, таким как легитимация, модернизация, интеграция, конфликт, харизма, структура... значение, сделать возможным размышлять не только реалистично и конкретно о них, но, что более важно, творчески и продуктивно с шс помощью, можно только обладая материалом, добытым в результате длительной, преимущественно (хотя не исключительно) качественной, самоотверженной и непременно тщательной полевой работы в ограниченном контексте. Методологическая проблема, которая проистекает из микроскопического характера этнографии, реальна и сложна. Но ее нельзя решить, рассматривая некий отдаленный регион как отражение всего мира или как социологический эквивалент камеры Вильсона. Ее следует решать — или, по крайней мере, пока оставить в покое — исходя из того, что социальные события означают больше, чем они сами есть, что то, откуда приходит интерпретация, не может предопределить всех последствий ее приложения. Мелкие факты говорят о крупных событиях, подмигивания — об эпистемологии, а поход за овцами — о революции, потому что они для этого предназначены. VII Итак, мы, наконец, добрались до теории. Самый распространенный грех интерпретативного подхода к чему-либо — к литературе, сновидениям, симптомам болезни, культуре — состоит в попытках противостоять концептуальным умозаключениям и таким образом удержаться от систематического изучения явления. Либо вы улавливаете интерпретацию, либо нет, видите суть дела или не видите, принимаете ее или нет. Ловушка спонтанности делает интерпретацию самоценной или, что еще хуже, подлежащей оценке лишь предположительно достаточно развитыми способностями того, кто ее выдвигает; любая попытка разобраться в ее сути с привлечением иных средств, кроме ей самой присущих, считается ошибкой и — нет страшнее оскорбления для антрополога — этноцентризмом. Но для области исследования, которая осмеливается называть себя наукой (лично я не осмеливаюсь называть, а настаиваю на этом), этого явно не достаточно. Нет причин, по которым концептуальная основа культурной интерпретации должна быть не так ясно сформулирована и тем самым в меньшей степени подвержена четким канонам оценки, чем, например, наблюдения в биологии или опыта в физике — разве что потому, что терминология для таких формулировок слабо разработана, если не сказать более. Мы вынуждены говорить намеками, потому что у нас нет более четкого языка. И в то же время следует признать, что некоторые особенности культурной антропологии делают теоретическое развитие в этой области особенно затрудненным. Прежде всего, это необходимость, чтобы теория была в большей степени приближена к «почве», чем это бывает в науках, где шире применяется абстрактный подход. В антропологии эффективны краткие теоретические отступления; более пространные легко могут завести нас в логические мечтания, академическое увлечение формальной симметрией. Смысл семиотического подхода к культуре, как я уже говорил, состоит в том, чтобы открыть нам доступ к концептуальному миру, в котором обитают наши сюжеты, и дать возможность в самом широком смысле этого слова разговаривать с ними. Конфликт между стремлением проникнуть в неведомый нам мир символических действий и потребностями технического оснащения теории культуры, между необходимостью понять и необходимостью анализировать в результате становится глубоким и неустранимым. Поистине, чем дальше развивается теория, тем глубже становится этот конфликт. Такова первая особенность развития теории культуры: она сама себе не хозяйка. И поскольку она неотделима от спонтанности «насыщенного» описания, ее свобода формироваться сообразно собственной внутренней логике весьма ограничена. Обобщения, которых удается достичь, проистекают из тонкостей в различиях, а не из размаха абстракций. Отсюда следует необычность способа, каким вырабатывается наше знание культуры вообще... культур... конкретной культуры: оно выплескивается струйками. Анализ культуры не следует по равномерно восходящей кривой кумулятивных разысканий, он подобен дискретной, но тем не менее связанной последовательности все более и более смелых вылазок. Одни исследования базируются на других, но не в том смысле, что они продолжают начатое другими, а в том, что, обладая большей информацией и концептуальной основой, они более глубоко изучают то же самое. Каждый серьезный анализ культуры начинается с самого начала и доходит туда, куда удается добраться, пока не будет исчерпан интеллектуальный импульс. При этом используются уже известные ранее факты, разработанные концепции, проверяются сформулированные прежде гипотезы; но это движение не от уже доказанных теорем к доказательству новых, а от неловких попыток добиться самого элементарного понимания к как-то обоснованным притязаниям на то, что оно достигнуто и начат новый этап. Исследование удачно, если оно более проницательно, — что бы это ни означало — чем предыдущие, но оно не стоит у них на плечах, а наперегонки бежит рядом. И по этой, наряду с прочими, причине очерк, эссе, будь он длинной в 30 или в 300 страниц, стал наиболее подходящим жанром для интерпретаций культуры и изложения теории; поэтому если вы попытаетесь искать систематические теоретические труды по этому предмету, то вас постигнет разочарование, и тем большее, если удастся их найти. В нашей области даже «итоговые» статьи редки, и, как правило, они являют собой интерес исключительно библиографического характера. Мало сказать, что наиболее существенные теоретические «прорывы» достигаются в конкретных исследованиях, — так происходит во многих областях знания, — но чрезвычайно сложно выделить их и объединить в нечто, что можно было бы назвать «теорией культуры». Теоретические обобщения столь невысоко поднимаются над интерпретациями, что вдали от них они теряют смысл и лишаются всякого интереса. Так происходит не потому, что в них недостает обобщения (без обобщения не было бы теории), но потому, что, оторванные от фактического материала, они кажутся банальными или пустыми. Развитие в этой области происходит таким образом, что можно выбрать направление теоретического развития в связи с одной попыткой этнографической интерпретации и применить ее в другой, при этом добиваясь больших точности и соответствия; но невозможно написать «Общую теорию культурологической интерпретации». В принципе-то можно, но толку от этого будет немного, поскольку главная цель теоретических построений в нашей области — не создать свод абстрактных правил, а сделать возможным «насыщенное» описание, не обобщить разные исследования, а добиться высокого уровня обобщения в каждом из них. Высокий уровень обобщения в каждом случае, по крайней мере в медицине и в психологии, достигается в клиническом заключении (катамнезе). Оно начинается не с ряда наблюдений и попыток вписать их в общий порядок вещей, а с ряда предполагаемых знаков и попыток вписать их в умопостигаемую картину заболевания. Меры соответствуют общим теоретическим посылкам, но в симптомах (даже если их можно измерить) подчеркиваются особенности, т.е. они диагностируются. В изучении культуры знаками являются не симптомы или кластеры симптомов, а символические действия или кластеры символических действий, цель же состоит не в терапии, а в анализе социального дискурса. Но теория используется — для того, чтобы распознать неочевидное значение вещей — таким же образом. Таким образом, мы подошли ко второй особенности теории культуры: она не может ничего предсказать. Врач-диагност не может предсказать заболевание корью; он лишь определяет, что кто-то болен корью, иногда он может предупредить, что кто-то может скоро ей заболеть. Однако такое ограничение, действительно существующее, обычно неверно истолковывают и преувеличивают, оно же должно означать, что интерпретация культуры происходит post facto, что, подобно крестьянину из старой истории, мы сначала делаем дырки в заборе, а потом рисуем вокруг них бычьи глаза. Трудно отрицать, что так происходит довольно часто. Но следует отрицать, что это — неизбежное следствие клинического подхода к использованию теории. Верно, что клинический стиль теоретических формулировок, концептуализации нужен для создания интерпретаций того, что уже есть, а не для предсказания последствий экспериментальных манипуляций или предугадывания будущих состояний данной системы. Но это вовсе не означает, что теория должна лишь подходить к данным реалиям (или, точнее, создавать их убедительные интерпретации); она должна также подходить — интеллектуально — к реалиям, которые будут дальше. И хотя мы формулируем наши интерпретации на основании подмигиваний или случайного похода за овцами, впоследствии, иногда спустя много времени, теоретические рамки, позволившие сделать наши интерпретации, должны быть способны создать правомерные интерпретации иных социальных феноменов, представленных нашему вниманию. Приступая к насыщенному описанию, идущему дальше очевидного и заметного с первого взгляда, от первоначального замешательства к тому, чтобы разобраться, в чем все-таки дело, и встать на твердую почву, исследователь не чувствует себя (не должен, по крайней мере) интеллектуально безоружным. Теоретические идеи в каждом новом исследовании не вырабатываются абсолютно заново, они, как я уже говорил, заимствуются из других, сходных, исследований, совершенствуются и применяются для интерпретации новых проблем. Если они оказываются неспособными решать подобные проблемы, то их перестают использовать и постепенно они совсем выходят из употребления. Если они продолжают быть полезными, высвечивают новые грани понимания, то их все более совершенствуют и продолжают использовать8.
Подобный взгляд на функцию теории в интерпретативной науке предполагает, что различие, существующее, хоть и всегда относительное, в экспериментальных науках между «описанием» и «объяснением», в нашем случае предстает в качестве различия еще более относительного между «записыванием» («насыщенным описанием») и «спецификацией» («диагнозом») — между определением значений, которые имеют определенные социальные действия для самих действующих лиц, и констатацией, как можно более развернутой, того, что дает нам почерпнутое таким образом знание об обществе, в котором оно почерпнуто, и об общественной жизни в целом. Наша сверхзадача — обнажить концептуальные структуры, несущие информацию для действий наших объектов наблюдения, т.е. «сказанное» в социальном дискурсе, и создать систему анализа, которая поможет вычленить из других детерминант поведения человека то, что является неотъемлемым свойством данных структур, принадлежит им постольку, поскольку они есть то, что они есть. В этнографии задача теории состоит в том, чтобы обеспечить словарный запас, который помог бы выразить то, что говорит за себя символическое действие, т.е. роль культуры в жизни человека. За исключением пары статей, посвященных более фундаментальным вопросам, в работах, собранных в данной книге, теория служит именно этой цели. Набор самых общих, «академичных» понятий и систем понятий — «интеграция», «рационализация», «символ», «идеология», «этос», «революция», «идентичность», «метафора», «структура», «ритуал», «мировоззрение», «действующее лицо», «функция», «сакральное» и, конечно, сама «культура» — вплетен в корпус «насыщенного» этнографического описания в надежде придать обычным явлениям жизни научную велеречивость9. Это сделано с целью достичь широкомасштабных выводов на основании изучения узких, конкретных, «концентрированных» фактов, подкрепить общие рассуждения о роли культуры в коллективной жизни, используя эти факты в соответствии с теоретическим обоснованием. Так что не только интерпретация сопровождает подачу материала непосредственного наблюдения, но и теория, на которую эта интерпретация опирается. И мой интерес к истории Коэна, равно как и интерес Райла к подмигиванию, родился из неких соображений очень общего характера. Модель «подмены языка», точка зрения, что социальный конфликт возникает не тогда, когда культурные формы перестают функционировать вследствие их слабости, неопределенности, забвения, но скорее тогда, когда, как в случае с передразниванием подмигивания, эти формы под влиянием необычных ситуаций, непривычных интенций вынуждены функционировать необычным образом, почерпнута мною вовсе не из истории Коэна. Я привнес ее в историю Коэна, почерпнув предварительно из общения с коллегами, студентами и предшественниками. Наше безобидное на первый взгляд «послание в бутылке» — нечто большее, чем простое описание границ значений торговцев-евреев, воинов-берберов и колонизаторов-французов или даже их взаимодействия. Это аргумент в пользу того, что необходимо менять систему координат наблюдаемых явлений, чтобы воссоздать паттерн культурного взаимодействия. Общественные формы — это «вещество», из которого сделана культура. VIII Существует индийское предание — до меня, во всяком случае, оно дошло как индийское предание — об англичанине, которому рассказали о том, что весь мир стоит на платформе, которая покоится на спине слона, который, в свою очередь, стоит на спине черепахи. Он поинтересовался (наверное, был этнографом; они всегда так себя ведут), на чем же стояла черепаха. На другой черепахе. А та, другая? «О, сахиб, под ней были тоже черепахи, и так до самого основания». Таково, собственно говоря, положение вещей. Не знаю, сколько еще можно эксплуатировать мою запись о Коэне, шейхе и «Дюмари» (похоже, я и так уже перестарался), но я твердо уверен в том, что, как бы долго я этим ни занимался, так и не приближусь к основанию. И ни разу не удалось мне добраться до основания, о чем бы я ни писал, ни в очерках, собранных в этой книге, ни где-либо еще. Культурологический анализ вопиюще неполон. И, хуже того, чем он глубже, тем более неполон. Странная это наука, ее наиболее исчерпывающие утверждения зиждутся на наиболее зыбком основании, и все попытки добраться куда-либо, не теряя сути дела, лишь увеличивают подозрения, и у вас, и у других, что вы идете куда-то не туда. Но именно это, наряду с дурацкими вопросами, с которыми приходится приставать к уставшим от них людям, и составляет суть работы этнографа. Существует несколько способов этого избежать — подменить культуру фольклором и собирать его; подменить ее культурными чертами и считать их; подменить ее институтами и классифицировать их; подменить ее структурами и играть с ними. Но это всё уловки. Дело в том, что принять семиотическую концепцию культуры и интерпретативный подход к ее изучению — значит" считать утверждение в этнографии, если заимствовать ставшую знаменитой фразу У.Б.Галли, «преимущественно спорным». Антропология, по крайней мере, интерпретативная антропология, — это наука, продвижение в которой отмечено не столько укреплением консенсуса, сколько изысканностью споров. Совершенствуются лишь колкости, которыми мы друг друга осыпаем. Тяжело наблюдать, когда чье-то внимание порабощено заведомой односторонностью. Монологи здесь не так важны, поскольку выводов много быть не может; необходимо лишь поддерживать дискуссию. И если собранные в этой книге очерки и имеют какое-то значение, то оно не в том, что они утверждают, а в том, о чем они свидетельствуют: о растущем интересе не только в антропологии, но в общественных науках в целом, к роли символических форм в жизни общества. Значение, это неуловимое и неверно определяемое псевдоединство, которое раньше мы с готовностью отдавали на растерзание философам и литературным критикам, вернулось в самое сердце нашей дисциплины. Даже марксисты цитируют Кассирера, даже позитивисты — Кеннета Берка. Моя собственная позиция заключается в том, чтобы пытаться противостоять субъективизму, с одной стороны, и каббализму — с другой; пытаться удержать анализ символических форм как можно ближе к конкретным явлениям и событиям общественной жизни, к общественному миру обычной жизни и организовать его таким образом, чтобы связи между теоретическими формулировками и дескриптивными интерпретациями не были прикрыты ссылками на сомнительные науки. Я никогда не разделял точку зрения, что раз уж полная объективность в этих случаях недостижима (что само по себе, безусловно, верно), то можно дать полную волю эмоциям. Как заметил Роберт Солоу, это все равно, что утверждать, что раз полная асептика невозможна, то вполне допустимо оперировать в канализационном коллекторе. Но, с другой стороны, не привлекли меня и уверения, будто структурная лингвистика, компьютерная инженерия или какая иная прогрессивная наука поможет нам, без пристального изучения, лучше понять людей. Ничто не может дискредитировать семиотический подход к культуре быстрее, чем увлечение интуиционизмом и алхимией, независимо от того, как элегантно выражена интуиция и как современно под пером ученого выглядит алхимия. Всегда существует опасность, что в поисках глубоко лежащих черепах культурный анализ может утратить связь с «уровнем земли» — с политической, экономической, социальной реальностью, которая окружает людей в ежедневной жизни, — и с биологическими и физическими потребностями, на которых этот уровень зиждется. Единственная защита против этого и против того, чтобы превратить культурный анализ в своего рода социологическое эстетство, — основывать анализ в первую очередь на таких реальностях и на таких потребностях. Именно таким образом я писал о национализме, о насилии, об идентичности, о природе человека, о легитимности, революции, этничности, урбанизации, о статусе, смерти, времени и, более всего, о конкретных попытках конкретных народов поместить эти вещи в осмысленные и понятные им рамки. Рассматривать символические измерения социального действия — искусство, религию, идеологию, науку, право, мораль, здравый смысл — это не значит отвернуться от экзистенциальных проблем жизни в поисках эмпирической реальности лишенных эмоций форм; это значит заняться ими в полной мере. Предназначение интерпретативной антропологии не в том, чтобы ответить на самые сокровенные наши вопросы, но в том, чтобы сделать для нас доступными ответы других, тех, кто пасет других овец на других пастбищах, и тем самым включить эти ответы в доступную нам летопись человечества. Перевод Е.М.Лазаревой ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ
А. Существование культурных типов В конце предыдущей главы мы отметили, что культура оказывает на индивида значительно большее влияние, чем другие факторы, такие как расовая принадлежность, социальное наследие и т.п., которые столь высоко оценивались в традиционной этнологии. Для того чтобы сделать это положение более очевидным, в данной главе мы сосредоточимся на анализе воздействия культуры на индивида. Это подведет нас к выявлению различий между типами культуры, отличий, основанных на разнице культурных составляющих у индивидов. К этим данным в качестве иллюстративного материала мы присовокупим анализ нескольких примеров. (...) Представляется возможным выделить пять самостоятельных типов культуры и в общих чертах наметить еще два. Эти типы мы условимся называть до-первобытный, первобытный, военный, религиозный, цивилизационный, научный и пост-научный. Этот перечень не является исчерпывающим, но включает в себя основные типы культуры, известные сегодня. Несомненно, по мере интенсивного развития исторических исследований, будут описаны и другие типы культуры, а также новые типы будут открыты по ходу дальнейшего развития человечества. Здесь мы рассмотрим только вышеперечисленные типы культуры. Из названных семи первые четыре обозначены нами как «ранние», а последние три — как «развитые». Термины «ранние» и «развитые» являются описательными и не предназначены для определения их хронологической последовательности. Хронологический порядок культур соответствует некоторой диалектической модели, которая, по крайней мере частично, отделяет его от истории. Типы культуры являются ло>гическими системами реальных ценностей и поэтому могут выстраиваться в любой последовательности. В последующих разделах этой главы мы рассмотрим каждый из культурных типов. Конечно, не следует думать, что реальные культуры целиком и полностью соответствуют названным культурным типам. Эти типы, как уже говорилось, являются идеальными, а реальные культуры только приблизительно соответствуют им. Кроме того, реальные культуры являются фиксированными образованиями, они охватывают одновременно более одного типа культуры, ломают границы идеальных типов и, как правило, представляют собой некий переходный тип. Поэтому предложенные нами категории могут дать лишь приблизительное представление. Несмотря на очевидную ограниченность, противостоящую попыткам совместить идеальные культурные модели с реальными условиями, категории культурных типов обоснованны и обладают аналитической действенностью. Поэтому мы попытаемся найти самые конкретные и наглядные примеры. Б. Четыре ранних типа культуры Четыре ранних типа культуры, которые мы рассмотрим, это — (1) до-первобытный, (2) первобытный, (3) военный, и (4) религиозный. (1) До-первобытный тип культуры. Одно время бытовало мнение, что существуют лишь два типа культуры, а именно: первобытный и цивилизованный. Предполагалось, что все первобытные народы находились на одном уровне культурного развития, а все иные народы более или менее «цивилизованы», и поэтому в равной степени «развиты». Но это очень далеко от истины. Так называемые первобытные культуры существуют на многих стадиях развития, так же как и цивилизованные. С позиции прогресса предпочтительнее, чтобы этот культурный ряд не прерывался, а качественные различия в этом непрерывном потоке делаются лишь для того, чтобы нам было удобнее их изучать, хотя для такого разграничения есть все основания. Безусловно, существует множество фаз развития первобытной культуры. Современный австралийский абориген намного меньше продвинулся вперед, чем таитяне, открытые капитаном Куком, а жители Соломоновых островов намного ниже по своему культурному развитию, чем представители некоторых племен Центральной Африки. Аналогичные различия можно заметить и между людьми до-первобытного типа культуры. Вероятно, художники, расписавшие пещеры южной Испании и Франции, оставили далеко позади обладателей более ранных черепов. Люди эпохи Мустье, Ориньяк, Мадлен и Солютре, должно быть, имели какие-то формы социальной организации и элементарные культуры, которые позволили им выжить на ледниковом лессе. Культура периода неолита, которая содержит свидетельства о начале вторжения человека в природу и изменении (пока еще незначительном) своей окружающей среды, была намного выше палеолитической культуры. Обладатель тринильского черепа должен был принадлежать к культуре более низкого порядка, чем обладатель пилтдоунского. Очевидно, что термин «до-первобытная» культура можно отнести к целому ряду фаз развития, предшествовавших первобытной. Мы можем отважиться предположить, что до-первобытный человек кочевал, существовал как паразит за счет лошади, используя это животное как пищу и транспорт; мы можем предположить и то, что изменения, происшедшие с лошадью со времени, когда она была добычей, до превращения в домашнее животное, не особенно повлияли на его социальную природу, поскольку в первую очередь человек думал о собственном выживании. Мы можем догадываться, но не можем знать. Область (познания) обширна и туманна. Основной вопрос до-первобытной культуры, обращенный к ее носителям, возможно, состоял в следующем: «Насколько нужен именно ты, чтобы мы все выжили?» Выдающийся индивид — это человек, наиболее приспособленный в делах насущных: добывании пищи, отражении нападений и уничтожении врагов (будь то животные или люди), умении найти жилище, продолжении рода. Положение человека в до-первобытной культуре определялось очень просто и жестко: господством выдающегося индивида над другими членами социальной группы, властью, которая в сущности полностью опиралась на физическую силу. Поэтому в каждой социальной группе до-первобытной культуры было место только для одной выдающейся личности1.
Физический и биологический уровни окружающей среды оказывали жесткое влияние на до-первобытную культуру. Взаимодействия практически не было. До-первобытный человек, вероятнее всего, не вторгался в природу, принимал ее такой, какая она была, искал у нее поддержки своего рискованного существования и оставил практически неизменной. Язык ограничивался наименованиями небольшого количества предметов, контакты между культурами отсутствовали, повсюду был распространен до-первобытный тип культуры. Известно, что в мезолите существовали погребальные обряды, свидетельствующие о наличии представлений о смерти и загробной жизни. Наличие искусства, хотя и несколько грубого, вера в руководящую роль божественных существ, предписывающих соблюдать определенные погребальные обряды, указывают на возможное существование онтологических представлений. Наличие онтологии (в до-первобытной культуре. — Ред.) отрицали из-за недостаточного количества сведений; однако уже само существование жизни на стадии «человек», где зарождаются обычаи и общественные институты, одновременно свидетельствует и о зарождении онтологии. Размышления о демиурге и жизни после смерти включаются в процесс начального познания — человек должен был, хотя и редко, и робко, но задаваться вопросом: «Что все это значит?» Мы не можем определить, какой была эта онтология, и достигнем немногого, гадая, какой она могла быть. Мир «полон разных вещей», и предполагать, что одна из них должна была существовать, не означает, что мы можем описать ее точно. Итак, прежде всего — осторожность. Внешняя простота вводит в заблуждение, и исследование почти всегда показывает — то, что кажется простым, на самом деле очень сложно. Мы обнаруживаем это всякий раз, когда пытаемся дать оценку чему-то примитивному. Это положение справедливо и в отношении кроманьонца, и в отношении человека, соорудившего свайные озерные постройки; и относительно перехода древнего человека от собирательства к производству продуктов, который неминуемо должен был повлечь за собой соответствующие изменения в основных представлениях о сущности бытия. Возможно, когда-нибудь мы узнаем, какими они были. В то же время не следует ожидать, что скудные археологические сведения дадут нам достаточно информации о фазе допервобытного развития. Безусловно, не существовало такого явления, как до-логическое мышление, теоретически обоснованное Леви-Брюлем. Как показал Ч.С.Пирс, уже самые ранние представления людей должны были содержать и идею отрицания, наиболее важную в логическом отношении, и ту, которую он называет до-логической, поскольку она должна быть освоена еще до того, как стало возможным постижение закономерностей мышления. По утверждению Элизе Реклю, в наиболее примитивной из существующих — культуре австралийских аборигенов — бытующие суеверия являются умозаключениями, к которым они пришли путем логических дедукций и ложных посылок. Несколько более мы можем быть уверенными в том, что основным институтом до-первобытной культуры была семья. Мак-Леннан утверждал, что архаическое общество было полигамным и матриархальным, затем стало патриархальным с мужской полигамией и изначально носило тотемический характер. Это сформировало первую стадию, для которой характерны полигамия, матриархат и тотемизм, ту самую, которая названа здесь до-первобытной. Сомнительно, однако, что мы обладаем достаточной информацией, чтобы дать точное определение. До-первобытная культура была скорее всего культурой охотников, скотоводство было неизвестно. Безусловно, в до-первобытной культуре социальные институты не были жестко разграничены. Для до-первобытного человека типично только то, что он почти полностью находился во власти природы. В качестве орудий труда он использовал подходящие предметы естественного происхождения, не особенно изменяя их; охотился ради пропитания, жил в пещерах, приспосабливая себя и свои привычки к окружающей среде. Убийство животных было проявлением постоянной борьбы, столь же опасной для человека, как и для его жертвы. Социальная организация была неразвита, возможно, даже ограничивалась семьей, стимулов от психологических и социальных контактов почти не было. До-первобытная культура представляла собой перманентную, непрекращающуюся борьбу за простое выживание, исход которой не был ясен, а успех зависел от полной самоотдачи каждого представителя данной культуры. (2) Первобытная культура. На стадии первобытной культуры мы встречаемся с первым типом высокоорганизованных обществ. Первобытные культуры включали меньшее количество составляющих, чем другие типы общества, как, например, религиозные, но их структура была намного сложнее, чем предполагалось ранее. Устройство первобытного общества было предельно компактным. Первобытная культура представляла собой фазу, для которой характерны подражательный язык, анимизм, экзогамия и мифологемность. Дюркгейм подверг резкой критике предположение, что все первобытные культуры принадлежат к единому культурному типу, и был, вероятно, прав, поскольку каждый тип содержит разнообразные подтипы. Фриц Гребнер, к примеру, различал у первобытных обитателей побережья Тихого океана шесть разновидностей первобытного культурного типа, которые он обозначил как: тасманский, древнеавстралийский, тотемический, дуальный, меланезийский и полинезийский. То, что исследователи XIX в. описывали как низшие племена и высшие нации, или «примитивные» и «цивилизованные», сточки зрения исследователя культурных систем оказалось различием в степени содержательности и совершенства социальной организации. Примитивные общества не обладали составляющими цивилизации, но у них была более совершенная социальная организация. Это означает, что то, что оно включает в себя, высоко организовано. Обычаи и институты социальной группы формируют и окрашивают человека настолько, что его существование становится невозможным вне ее. Однако ясно, что не в этом дело. В первобытной культуре, как и в любой другой, есть место для выдающейся личности. Вероятно, лучше всего показать онтологию первобытной культуры и то влияние, которое общество как целое оказывает на индивида, проанализировав стремления носителя данной культуры. Основной вопрос первобытной культуры, обращенный к ее представителям, звучит следующим образом: «Насколько ты вовлечен в сообщество?»2. Выдающийся индивид -- это не тот, кто отклоняется от принятых норм, а скорее, наоборот, тот, кто их тщательно соблюдает и воспроизводит культурный образец традиционного образа жизни. Общественная жизнь так тесно и высоко организована, что любой человек, который восстает против нее или хочет изменить установленный порядок обычаев и институтов, ipso facto престает быть членом этого общества. Он — изгнанник и больше не может принимать участия в жизни своего сообщества; он должен либо покинуть его, либо погибнуть от наказания. И в этот момент и потом его не оценивают как выродка. На него просто смотрят как на неспособного выполнить обязанности, которые возлагались на индивида невероятно сложным сводом установлении, типичных для первобытных культур. Любой, считающий парадоксальным утверждение, что индивид в анимистическом обществе является более индивидом, когда он максимально социализирован, должно быть, руководствуется тяготеющими над ним стандартами его собственной культуры, что ведет к непониманию первобытной ситуации. Не следует полагать, что принадлежность к сообществу не является вьвдающимся личным достижением человека. Когда общество предъявляет слишком высокие требования к индивиду, как это безусловно было в известных первобытных культурах, очень немногие окажутся в состоянии выполнять все то, что от них требуется. Те, кто с этим справляется, являются поистине выдающимися личностями и, как правило, отличаются тем, что в обществе их уважают и поощряют всевозможными почестями и наградами.
Было бы естественным предположить, что по мере продвижения к более высоким уровням культуры, будет увеличиваться степень ее влияния на окружающую среду. И это действительно так. Культуры, находящиеся на низших уровнях, такие как до-первобытная, в большей мере, чем культуры высших уровней, зависят от окружающей (природной) среды, в которой им приходится существовать. Высокие уровни культуры, такие как цивилизационный и научный, испытывают больше влияние от контактов с другими культурами, чем первобытные общества. Это остается справедливым даже несмотря на то, что все типы культуры испытывают на себе определенное воздействие окружающей среды: физическое, химическое, биологическое, психологическое и социальное. Первобытный тип культуры подвергается более сильному воздействию физического и биологического уровней природы. Этнологи часто отмечают, что первобытные народы по своей способности приспосабливаться к экстремальным природным условиям похожи на высших животных. Негры Золотого Берега и эскимосы в этом отношении могут служить примером слияния людей с природой до такой степени, что вне ее их существование немыслимо. Экстремальные условия физической окружающей среды обусловливают возникновение экстремального типа физиологического приспособления. Правители империи Инков осознавали необходимость существования двух армий: одной для военных действий в Андах и другой — у моря. В ходе исследований обнаружилось, что люди сумели физиологически приспособиться к этой ситуации не хуже, чем горные бараны. Проблема питания решается таким же образом. Человек ест то, что он может добыть, цивилизованный человек может привезти себе издалека ту еду, к которой он привык, но первобытный зависит от того, что он может добыть прямо здесь и сейчас. Когда бы то ни было и где бы то ни было, он ел все, что было съедобно. Способ производства в первобытном обществе основывался на общине. Разделение труда существовало в интересах всего сообщества. Контакты с культурой более высокого уровня в психологической и социальной сферах для низшей культуры означают вырождение, дезинтеграцию или вымирание в той или иной форме. Для первобытной культуры проблема столкновения с чем-то неожиданным и превышающим ее способности к преодолению препятствий не только тормозит продвижение вперед, но делает невозможным и сохранение того, что уже было достигнуто. Контакт с более высокой культурой является для первобытной культуры вызовом, который она вряд ли готова принять. На первобытном уровне язык достигает ступени имитации. Слова часто по своему звучанию схожи с тем, что они предположительно выражают. Появляется элементарный синтаксис, и за очевидными намерениями говорящего начинает просматриваться смысл. Среди институтов первобытной культуры ведущее место занимают кровнородственные группы, которые являются более сложной, расширенной формой семейной организации. Институт магии является той лженаукой, в основе которой лежит метод аналогии. Формальное обучение сводится к участию в (ритуальных) танцах. В развитых культурах медицина основывается на знании биологии, в первобытной культуре ее заменяет религия. Тотемизм и экзогамия обусловливают политические аспекты (нормы) существования кровнородственных групп. Способ сельскохозяйственного производства сводится к скотоводству и ручному земледелию, пашенное земледелие и фермерство еще не известны. Общественным управлением занимается совет старейшин. Изобразительные искусства занимают такое же почетное место, как и религия. На стадии первобытной культуры существует небольшое количество не вполне оформившихся институтов. Религия носит анимистический характер и сохраняет божества до-первобытной культуры, являющиеся персонифицированными силами природы: солнце, которое каждый день рождается и умирает; бледноликая женщина — луна; мстительный шторм и т. п. На стадии первобытной культуры боги и люди взаимодействуют; человек беспомощен в руках капризных богов. Сами боги — воплощение мифов о природе. Но первобытная культура в добавление к природным божествам создает божества, помогающие людям выжить, в том числе и «культурных героев». Появляются Кецалькоатль, Гефест и им подобные. Первобытный анимизм просто трансформировал эти божества и увеличил их число: полубоги и сверхъестественные обитатели лесов, равнин, гор и долин, фавны и сатиры, нимфы непокоренного мира и т.д. Всем правят, если не законы, то по крайней мере высшие явления, которые представляют собой не чудеса, но вполне естественное дело: они создают необходимый порядок вещей. Всем правит эта сравнительно простая система, вместе с тем суровая и обладающая постоянными свойствами. (З)Военный тип культуры. Этот тип культуры является первым, значительным шагом вперед в развитии, по сравнению с первобытной фазой. Во многих отношениях военная культура далеко ушла от первобытного типа, в том числе в сфере социальной организации. Так как некоторые характеристики военной культуры являются составной частью сложных типов, было бы неплохо их проанализировать. Военная, или материалистическая культура начинается с безусловного принятия номиналистского постулата, гласящего, что реально, объективно существуют лишь отдельные предметы. Вот почему военная культура проявляется в первую очередь в двух видах деятельности: торговой и военной. Торговля руководствуется принципом получения максимума возможного и от единичных физических предметов, и в военных действиях: завоевать торговые пути и расширить границы. Следовательно, военная культура является хищнической, грабительской и алчной. Появилась письменность; других серьезных изменений в этой области не произошло. Технические изобретения следуют одно за другим, создаются обширные библиотеки, а архитектура становится доминантой искусства. Основной вопрос военной культуры, обращенный к ее представителям: «Хорошо ли ты повинуешься?». Идеальная личность должна презреть дружеские связи и заявить о себе как о лидере. Налицо подавляющая власть меньшинства и баранья покорность большинства. Организация военных культур не так высока, как можно ожидать, потому что цели у них проще, а амбиции намного ниже, чем в других культурах. Индивидуум обязан отказаться от личных чувств во имя великих интересов и достижения общей цели. Героизм и самопожертвование на войне становятся высокопочитаемыми добродетелями, а все остальное в данной культуре подчинено этому простому итогу. Мужчины существуют для войны, а женщины — для воспроизводства воинов, все остальное глупость: нечто подобное провозглашал Ницше, объясняя мировоззрение военных. Военная культура скорее регламентирована, чем организована. Внешние отличия здесь, возможно, не усматриваются, но по сути это разные вещи. Когда в рамках любых иных культур человеку говорят: «Делай свою работу. Выполняй свои обязанности или иди с миром», — в рамках военной культуры человеку указывают: «Следуй своему предназначению и прекрати бояться». Влияние физической и биологической составляющих окружающей среды на военный тип культуры невероятно велико. Результат, который она получает от использования природных источников, изменения, которые в ней происходят вследствие этого, следут осмыслить. Победоносные ассирийские войска были первыми в мире, полностью экипированными железным оружием. Военные обрекали себя на суровое существование даже тогда, когда им не приходилось переносить невзгоды походной жизни в пустынях или горах. Резко отличаясь от правящего меньшинства, большинство воинов жили очень скромно, практически мало заботясь о физическом комфорте, изысканной еде или мягкой и удобной одежде. Спартанцы считали жизнь в суровых природных условиях своего рода школой. Они практически ничего не делали для того, чтобы избежать естественных трудностей. Человек военной культуры умел закалиться так, чтобы ходить под дождем. Способ производства военного типа культуры основывается на рабстве. Один класс работает на другой, но при этом ничего не получает за свою работу. Контакты с другими культурами, в психологическом и социальном плане, не имели особых последствий для этого типа культуры. С другими культурами они поступали просто: все, что не могли забрать или увезти с собой, уничтожали. Как мы видели ранее, общественные добродетели сосредоточены не в материальных предметах, а в идеях и чувствах: это ценности и принципы, которые можно ощущать и осознавать, но нельзя потрогать, попробовать или понюхать. На военную культуру, как правило, оказывает влияние лишь самое худшее, сохранившееся от культур, в контакт с которыми она вступает, — все остальное разрушается и уничтожается. Но военная культура достаточно хрупка; она живет за счет меча и должна погибнуть от меча. Ассирийская Ниневия, атакованная со всех сторон халдеями и мидийцами, в течение двух лет оказывала сопротивление осаде, но в конечном итоге пала. Военные культуры не затухают медленно; они резко прекращают свое существование, и конец их обычно насильственный. Безусловно, в кончине такого рода нет исторической необходимости: это означает, что природа культуры военного типа относится к тем, что зависят от шаткого равновесия крайних сил и не могут оказать сопротивления даже малейшему вызову. Военная культура в конце концов оказывается побежденной тем, против чего она воевала. Институты, которые занимают в ней главенствующее позиции, предназначены для реализации военной политики. Экономические институты также находятся в выгодном положении. Воспитание сводится к выработке выносливости, слава о которой передается сквозь века и известна как «спартанская добродетель». Обработка земли ведется в специальных хозяйствах, сохраняется ручное земледелие. Важную роль играют мужские и женские тайные общества. Изобразительные искусства находятся в полном упадке. Религия зависима от политики и военных действий. Совершенствуется транспорт и системы связи, снижается значение семьи. На стадии военного типа культуры экономика делает большой шаг вперед. Зарождаются общественные институты, но их очень немного и они не очень сложны по структуре. Характерной чертой религии военного типа является поклонение не природным божествам, помогающим в борьбе за существование, не богу грома или богу урожая, а богам войны. Идея выживания сменяется идеей обладания вещами ради них самих, поскольку, они, например, могут доставлять приятные ощущения. Почитаются Мардук и Марс, их нужно умилостивить, к ним можно обратиться с просьбами: молиться, чтобы боги даровали воинам бесстрашие и славу. В обмен на победу храмы этих богов расширяются. (4) Религиозный тип культуры. Следующий тип культуры, который мы рассмотрим, — это религиозный, или духовный тип. Религиозная культура сильно отличается от военной и в некотором смысле является просто реакцией на нее. Религиозная культура отвергает непосредственную и активную деятельность, поскольку ее идеал — пассивность и неопределенность. Религиозная культура начинается с откровенного принятия постулата крайнего реализма, гласящего, что только универсалии реальны. Согласно этому постулату, фактически существующие материальные предметы нереальны, вводят в заблуждение и, конечно, с точки зрения религиозной культуры, иногда несут зло. К слову сказать, существование зла является великой проблемой для религиозной культуры. Поэтому она обращается к единственному средству — молитве. Все подчинено поклонению Богу, и жизнь в этом мире отрицается во имя другой жизни после смерти. Инструментами культуры, например языком, овладевают, чтобы достичь максимума эффективности в их использовании. Основной вопрос религиозной культуры, обращенный к ее носителям, звучит так: «Насколько ты набожен?». Идеальной является наиболее богопослушная личность. В этом типе культуры присутствуют как строгая регламентация жизни, так и сильная организация. Общей целью выступает отказ от какой-либо значимости земной жизни, которая основана на реальности чувственного опыта во имя достижения загробной жизни. Содержание религиозных культур предполагает, что их последователи огромными армиями спасения уйдут от действительности в тот край, в ту жизнь, которая начинается после окончания земной человеческой. Степень конформизма, которую должен проявлять человек, чрезвычайно высока, но не в силу совершенства социальной организации. Наоборот, основной задачей являются уход от конкретных ценностей и достижение всеобщего отрицания жизни. Идеальной личностью является та, чья жизнь проходит в ревностном служении Богу; в награду за это она может считать себя воплощением частицы, непосредственно связанной с Создателем Вселенной. Для религиозной культуры существуют единственный итог и единственный смысл. Влияние окружающей среды на религиозный тип культуры, возможно, наименьшее по сравнению со всеми другими. Основной догмат этого типа культуры предполагает, что его последователи будут более или менее безразличны к природной среде и будут обращаться к ней лишь по необходимости, для того чтобы не прерывать основного своего занятия — поклонения Богу. Главным принципом в отношении биологических потребностей становятся аскетизм, воздержание или ограничение в сексуальном опыте, умеренность и пост — в питании. Религиозный человек должен как можно реже подходить к чувственному уровню жизни, на котором ведущими интересами выступают питание и размножение. Способ производства в религиозном обществе — феодальный. Разделение труда иерархическое, класс священнослужителей правит теми, кто производит продукцию, На психологическом и социальном уровнях религиозной культуры закладывается фундамент абстрактного языка. Значение слов не сводится лишь к конкретным и эмоциональным символам. Религиозная культура — это время абстрактных богов; они олицетворяют не конкретные силы природы, а единство Вселенной и абстрактные идеи логики, ценности и т.п. Католическая Троица символизирует именно это и только это: единство, логику и ценность, представленную Богом-Отцом, Христом и Святым Духом. Теперь поклонение богам преисполнено чистоты, и для большей части молящихся оно ограничивается обожанием; чувство любви им не присуще. Любовь заменяется идеей взаимодействия богов и людей: можно умолить капризных богов изменить их решение. Религиозная культура — это период чудес. Религиозный порядок отличается от природного тем, что первый вмешивается во второй. Основным социальным институтом религиозного типа культуры выступает именно тот, который и следовало ожидать, — церковь. Образование почти целиком сводится к религиозным целям. В сельском хозяйстве почти полностью осуществлен переход к пашенному земледелию, хотя на этой культурной ступени еще неизвестна обработка земли с использованием мощных орудий. Возвращаются изобразительные искусства, появляются профессиональные художники, музыканты и т.п., несущие чистое искусство. Истинная наука находится еще в зачаточном состоянии, лженауки, такие как алхимия, астрология, магия, процветают. Это происходит потому, что они растут на той же почве, что и рациональная теология, а именно, на допущении, что логика конструктивна; что ведет к возникновению утверждений, основанных на ложных логических построениях, таких как: «подобное притягивает подобное», «противоположности отталкиваются» и т.д. Появляется философия, ограниченная требованиями религии. Транспорт и коммуникации, которые так успешно развивались в рамках военной культуры, в религиозной приходят в упадок. Наблюдается спад в экономике. К семье возвращается ранее утерянная ею значимость. Религиозная культура открыта, и в ситуациях контактов с другими впитывает религиозные элементы иных культур. Примером этого типа культуры с соответствующим доминирующим институтом может служить западноевропейская католическая церковь в средние века. Ахцент на бытие в потустороннем мире делает невозможным исчерпывающее изучение достижений религиозной культуры: мы не можем знать, была ли загробная жизнь представителей религиозного типа культуры лучше или хуже жизни представителей других типов культур, к примеру военного, в загробном мире. Поэтому мы вынуждены оценивать культуру соответственно тому, что сотворено ею в земной жизни, и лишь по этим позициям сравнивать культурные типы. Следовательно, можно говорить, что в этой культуре что-то лучше, а что-то хуже, чем в других. Религиозная культура склонна закрывать двери перед научными исследованиями; в отношении культурного прогресса она всегда играла запрещающую или ограничивающую роль. В общем, этот тип культуры был более консервативен, чем того в действительности требовали его догматы. С другой стороны, его универсальная включенность по многим направлениям представляет собой большой шаг вперед по сравнению с предшествующими типами культуры. Идея братства людей, общая для большинства религиозных культур, является существенной компенсацией за ошибочный отказ от реальной действительности во имя призрачного потустороннего рая. Мы закончили наш краткий обзор четырех ранних культур и переходим к анализу трех «развитых» культурных типов. В. Три развитых типа культуры Тремя развитыми типами культуры, которые мы здесь рассмотрим, являются (5) цивилизованный, (6) научный и наконец, (7) пост-научный. (5) Цивилизованный тип культуры. Цивилизованную культуру можно сравнивать с религиозной, поскольку в большинстве случаев она была реакцией на последнюю. Будучи намного значительнее, чем просто реакция, которая является случайностью, она создала собственные позитивные ценности; а возникнуть могла и иным путем. Цивилизованная, или урбанистическая, культура начинается с принятия постулата психологического номинализма, согласно которому целое представляет собой только простую сумму слагаемых; реально, объективно существуют лишь единичные предметы, которые не могут быть познаны как таковые сразу и полностью; мы должны довольствоваться лишь действительностью, которую можем познать чувствами, с помощью телесных ощущений, мысленно, посредством деятельности нашего мозга. Литература и искусство развиваются как способы самовыражения. То же самое относится и к науке, поскольку существуют законы мышления, являющиеся неотъемлемой частью непознаваемого внешнего мира. Все формы общественного принуждения, как и социальной организации, умаляются во имя атомизма, согласно которому индивиду не может быть навязана какая-либо власть. Основной вопрос цивилизационного типа культуры, обращенной к ее представителям, — «Насколько индивидуальны ваши ощущения?» Человек должен быть уникален в своих реакциях, а идеальной личностью является та, которая в состоянии выработать собственные критерии ощущений, чувств, мыслей и действий. Поэтому однородность общества достигается путем невероятных усилий к объединению таких уникальных индивидуумов. Для этого типа культуры характерно разнообразие. Высоко ценится рациональность, понимаемая как собственный образ мысли. Здесь нет правил мышления, а лишь апелляция к человеческой разумности, основанной на самоочевидности. В социальной жизни отсутствует общая цель. Личность в этой жизни должна сама добиться удовлетворительной оценки своего существования. Вера в загробную жизнь отсутствует, и даже служение обществу является целью лишь для тех старомодных людей, которые все еще не потеряли совесть. Таким образом, цивилизованная культура имеет очень слабую организацию, представляет собой общество, склонное к стяжательству, в котором обязательное место занимают привилегии. Примером такого типа культуры служит европейское общество XVII и XVIII вв. Влияние природной среды на цивилизованный тип культуры значительно. Природа не подвергается большим изменениям: ее щадят и ее боятся. Раздел механики в физике оказывается наивысшей возможной ступенью соприкосновения с реальностью, а поскольку атомы слепо движутся в пустом пространстве, обращаться с ними надо осторожно. Человек цивилизованного типа культуры знакомится с законами механики и изучает все, что касается этих законов, а не сами эти законы. Он получает максимальное удовольствие от жизни, окружив себя всевозможными приспособлениями, какие только в состоянии придумать, чтобы достичь комфорта. Он больше обеспокоен тем, чтобы защитить себя от разрушительного воздействия физической среды, чем ее изменением. Для цивилизованного общества характерен капиталистический способ производства. Ведущим является класс обладателей денег, живущих за счет ренты. Экономические классы цивилизованного типа культуры привлекают к себе пристальное внимание, как посредники физического и биологического уровней окружающей среды. Цивилизованный человек пребывает в поисках разнообразия, следовательно, на него огромное влияние оказывают межкультурные контакты. Он стремится перенимать новшества из всех существующих культур, будь то цивилизованная или религиозная, научная или первобытная. Его язык становится все более и более абстрактным. Его философия поверхностна, и это может изменять культуру в результате контактов; или, наоборот, все объединяется в рамках цивилизованной культуры и согласуется с ее постулатами. Институты цивилизованного типа четко определены. Социальные группы составляют установленные подуровни, т. е., социальные организации образуют части целого; так, например, деловые корпорации являются социальной организацией в рамках общей экономики. В цивилизационных культурах низшую ступень иерархии занимают учреждения; транспорт и коммуникации продвинулись далеко вперед в своем развитии. Образование, а вместе с ним и внедряемые в жизнь научные достижения процветают. То же относится к чистому и прикладным искусствам. В религиозном отношении цивилизованные культуры откровенно атеистичны. Раз не существует жизни после смерти, то нет и потребности в сверхъестественном боге. Природа и законы механики служат источником всех действительных ценностей. В известном смысле это превращает каждого человека в своего собственного бога, поскольку он не верит ни в реальность божества, ни в реальность социальной организации. Человек, личность, становится мерой всего — и божественного, и человеческого. Наличие морали в этом мире становится, хотя и не настоятельной, но проблемой религии: в слепом механистическом мире, в котором первостепенная значимость принадлежит индивиду, его ощущениям и чувствам, невозможно узнать, что хорошо, а что плохо. Отношение к религии у человека цивилизованного типа культуры вызывающе скептическое. (6) Научный тип культуры. Самым высоким из известных на сегодня типов культуры является научный. Несмотря на то что ему недостает некоторых завоеваний других типов (к примеру, такого как религиозный), факт остается фактом: он во многих отношениях продвинулся вперед относительно любого другого типа культуры. Истоком научной культуры является постулат реализма, гласящий, что сфера раз и навсегда установленных и вечных универсалий и ценностей не менее реальна, чем мир изменчивой действительности и ее производных единиц. Все сущее действительно, и действительность может быть познана немедленно. В этом типе культуры доминирует теория, согласно которой известные естественнонаучные законы действуют не только на физическом, но практически на любом уровне бытия. Жизнь управляется идеей, что открытие естественных законов удовлетворит любознательность в поиске истины, и будет способствовать улучшению условий существования. Основным побудительным мотивом деятельности является исследование, а основной целью исследований — открытие законов природы. Исследовательская деятельность становится культурной доминантой и своей задачей считает увеличение объема знаний о природе и поиск рентабельности этого знания. Образцом такого рода может служить культура современной Европы и Америки. Основной вопрос научного типа культуры, обращенный к ее представителям, звучит следующим образом: «Насколько ты любознателен?». Идеальной является наиболее любознательная личность, которая одержима постоянным поиском тайн природы бытия. Критерием величия становится степень всепоглощающей любознательности личности, и то, насколько она стремится, а порой и страстно желает, посвятить свою жизнь поиску и ошибкам экспериментальных проверок своих гипотез о сущностях и процессах, лежащих в основе существования реального мира. Целью этого общества не является ни жизнь после смерти, как это было в религиозной культуре, ни чувственный подарок, как это было в цивилизованной культуре. Целью культуры научного типа становится непрерывное совершенствование возможного будущего для реально существующего мира, в котором, благодаря усилиям познания истины, условия существования общества будут постоянно улучшаться. Эта смена целей ставит научный тип культуры на уровень, близкий по некоторым чертам первобытному культурному типу. Научная культура тоже анимистична; ее носители верят, что все в природе живо, что жизнь и самосознание — это не более чем высокий уровень чувственности, которой в какойто, хотя бы в самой минимальной степени, обладают все реально существующие структуры. И первобытная, и научная культуры склонны завышать ценность социальной жизни, как более значимой для индивида, чем сама личная жизнь, с той разницей, что научная культура не желает стоять на месте, не хочет быть такой неизменной и стабильной, как первобытная, но стремится продвигаться вперед в выбранном направлении к новым социальным достижениям. Таким образом, научная культура предоставляет индивиду возможность целиком и полностью идти собственным жизненным путем, отличным от жизненных путей большинства других людей, но обеспечивающим личности на его индивидуальном пути удовлетворение от реального служения целям общества. У научного типа культуры имеется отдаленная, но актуальная цель, и она содержит перспективу общего понимания социальных ценностей, к которым следует стремиться. Влияние физической и биологической окружающей среды на научный тип культуры выражается в знании и использовании природных ресурсов. Представитель данной культуры не Столько озабочен необходимостью покорить или, наоборот, игнорировать физическое или биологическое окружение, сколько занят его постижением. Так, он совершенствует различные виды приспособлений для собственного удобства, но, с другой стороны, не может использовать их должным образом. Выгода для человека является побочным продуктом, а не целью поиска истины. Он безразличен к плохому или хорошему, но не потому, что таковы его убеждения, а просто в силу того, что действительные и несомненные его интересы находятся вне этого. Психологически и социально человек научного типа культуры сосредоточен на поисках лучшего общества, а его неудачи в достижении оного пропорциональны его успехам в научных областях. С одной стороны, он всецело включен в общественную организацию, а с другой, — он пренебрегает ею. Его язык сложен, появляются языки профессиональные. Он не допускает вмешательства в свои собственные поиски, которые могут обернуться для него тем самым неизведанным путем, которым ранее не ходил никто в рамках данной культуры; но он действительно трудится, во многих случаях весьма неловко, над достижением великого общества, в котором все известные людям ценности будут реализованы. В научном типе культуры институты четко определены и каждый занимает свое место в общепринятой иерархии. Высшую ступень занимают фундаментальные и прикладные науки, или технологии. Характеристикой научного типа культуры является машина — орудие, расширение областей ее использования и применения. В научном типе культуры ведущее положение среди дисциплин возвращает себе логика. В искусстве предпочтение отдается не чистым, а декоративным видам. Семья уже давно не занимает доминирующего положения, и низшие институты расцениваются соответственно той роли, которую они играют: не как самоцели, а как необходимые инструменты для более высоких институтов. Личность научного типа культуры возвращается назад к религии, но не к той жестко организованной, которая существовала в рамках религиозного типа. Его боги скорее абстрактны, чем конкретны, и он обращается к ним во время работы, на протяжении своей повседневной жизни, а не в местах, специально приспособленных для этой цели, и вовсе не так, как предписывается обрядом. Существует взаимодействие не человека и богов, а человека и того единственного бога, которого человек научного типа культуры признает, а именно: природы. Люди бессильны против законов природы, но, понимая это, могут использовать их. Теологией человека научного типа культуры является космология, в основе которой лежат сложные постулаты метафизического реализма. (7) Пост-научный тип культуры Пост-научный, или рациональный, тип культуры — последний, который мы проанализируем. Пост-научный тип культуры отличается от научного так же, как до-первобытная культура отличается от первобытной. Познание первобытной культуры было затруднено отдаленностью прошлого, так же и наши краткие замечания, относящиеся к пост-научной культуре, затруднены отдаленностью будущего и являются в высшей степени умозрительными и предположительными. Ибо именно пост-научный тип культуры в будущем займет место научного. Во многих отношениях он похож на предшествовавший культурный тип, но в рамках пост-научного типа будут исправлены ошибки его предшественника и будет совершено то, что ранее считалось невозможным. Пост-научный тип культуры скорее всего начнется с откровенно реалистического постулата и продолжится тем, что из поля зрения будет сознательно исключен критерий действительности; действительным будет считаться все, что появляется, и все феномены будут расцениваться как реальные. Основными занятиями пост-научного типа культуры будут наука, философия и искусство. Лидирующая роль останется за исследовательской деятельностью, а главной целью исследований будет знание. Удовлетворение и удовольствие будут цениться столь же высоко, как и знание, и сами будут превращаться в способ познания, потому что отношения обладают такой же значимостью, как и ценности. Основной ворос пост-научной культуры, обращенный к ее носителям, скорее всего будет звучать так: «Насколько ты совершенен ?». Идеальной личностью данного культурного типа будет та, которая сможет соединить в себе предельную специализацию со всеобъемлющим интересом и пониманием. Как и в первобытной культуре, индивидуальные отличия будут измеряться степенью включенности в общество, и личность, которая наилучшим образом сможет воспринимать общественные ценности, обязательно получит преимущество и признание. Пост-научная культура ближе всех подойдет к созданию совершенного общества, ближе, чем до сих пор подходила какая бы то ни было культура. Ее цель — создание рая на Земле — не может быть полностью достигнута; к ней можно лишь максимально приблизиться, и то скорее всего только после многих веков социальных катаклизмов, во время которых общество так же часто поворачивает вспять, как и добивается успехов. Непосредственная физическая и биологическая окружающая среда в период пост-научного типа культуры полностью окажется под контролем. Экономические функции будут выполняться механически. На Земле начнется освоение территорий, прежде не включенных в сферу жизнедеятельности человека. Природная среда также будет привлекать к себе пристальное внимание и превратится в область, в значительной мере находящуюся под контролем. В пост-научной культуре всему будет отведено свое собственное место, не будет конфликтов между теорией и практикой, вместо этого люди поймут, что фундаментальная наука продуктивна и необходима для практической деятельности и что практика является действительным воплощением фундаментальной теории. Человек пост-научного типа культуры будет жить, непрестанно жертвуя во имя достижения знания. Он поймет, что лишь то, чему предшествует теоретическое обоснование, может быть внедрено в практическую жизнь. В психологической и социальной областях пост-научная культура найдет способы применения научного метода к решению психологических и социальных проблем. Языки, в том числе общепринятый язык культуры, будут искусственными. Синтаксис будет целенаправленно систематизирован, и возникнет определенная словесная однородность; слова будут иметь лишь одно значение, ими будет передаваться лишь точный смысл, в то время как дополнительные, побочные оттенки значения, т. е. то, что еще и подразумевается, практически отойдут в прошлое. Идеи, так же, как и формы правления, будут исследоваться соответствующей процедурой, основанной на строгом научном методе и идеальных предлагаемых образцах, которым в определенном смысле необходимо следовать. Естественные законы физической и социальной природы будут познаны и в большей мере будут учитываться и применяться на практике. Художники в своей работе будут основываться на предшествующей традиции, а не начинать каждый раз с начала, так что искусство тоже выиграет от того, что будет по своим методам социальным. Короче говоря, все институты культуры пост-научного типа будут приведены в соответствие с тем, какими они должны быть согласно их реальной значимости. Носитель постнаучного типа культуры будет испытывать религиозные чувства, но не станет полагаться на то, что здравый смысл не уведет его дальше целеполагающих философских направлений. Философия будет наиболее рациональной дисциплиной, направляющей другие науки и исследования и координирующей их. Чистые науки будут заняты поисками истины о природе вещей, прикладные науки будут использовать знания, полученные чистыми науками, а все прочие институты, располагающиеся на иерархической лестнице ниже прикладных наук, будут эффективно обслуживать всех находящихся выше на иерархической лестнице. Трудно представить религию пост-научного типа культуры. Возможно, люди научатся молиться в уединении, так же как научились сообща вести исследовательскую работу. Человек пост-научного типа, возможно, не будет ощущать желание порочить как относительно нечистое то, что неотделимо от священности, потому что будет уверен, что все созданное Богом в равной мере богоподобно. Так, поскольку наука должна вскоре положить конец теологии, теология пост-научного типа культуры войдет в теологическую веру и станет одной из специфических сущностей пост-научной культуры. Необходимо сделать несколько общих замечаний относительно все типов культуры, о которых здесь шла речь. Во-первых, должно быть ясно, что данные культурные типы абстрактны, а не конкретны. Мы не описываем никаких реально существовавших культур и настаиваем на том, чтобы именно это было понято, во избежание возможных ошибок при использовании и трактовке данного материала. Если мы сравним паттерны (образцы) типов культур с реально существующими культурами, мы ясно увидим, что возможны лишь отдельные совпадения. Вероятно, никогда не было и никогда не будет такой реальной культуры, которая бы полностью совпадала с одним из описанных культурных типов и ничего общего не имела бы со всеми остальными. Культура современной Европы представляет собой сочетание цивилизованного и научного культурных типов, в котором также присутствуют и остатки религиозного. Греческая культура была сочетанием военного, религиозного, цивилизованного и научного культурных типов с преобладанием цивилизованного и научного. Культурные типы являются абстрактными и идеальными, и то, что они никогда полностью не совпадают с тем, что есть в действительности, вовсе не противоречит тому, что они существуют и находят свое применение как эталоны, до тех пор, пока могут быть использованы. Мы никогда не обнаруживаем отдельно атомы и их движение или лес и деревья , однако полезно и правильно проводить между ними различия. Во-вторых, необходимо отметить, что эти типы культуры ни в коей мере не следует понимать как хронологическую последовательность. Этот ряд: до-первобытный, первобытный, военный, религиозный, цивилизованный, научный и пост-научный не является абсолютным, в соответствии с которым великие культуры рождались и развивались, хотя некоторую хронологическую последовательность, несомненно, можно заметить. Может быть так: до-первобытная культура предшествует первобытной, ее сменяет военная и т. д.; но мы имеем дело с диалектической, а не просто с видовой прогрессией. Реальные культуры сами представляют определенный синтез, и в добавление к этому во многом совпадают; им присущи быстрые взлеты и резкие падения. Так, напрамер, культура Европы с XIV по XVII в. продвинулась от религиозного к цивилизованному типу культуры; в то время как нацистская Германия усиленно старалась вернуться от научного типа назад к военному. Отнесение реально существующей культуры к какому-либо культурному типу условно. В общем, можно сказать, что уровень культуры прямо пропорционально зависит от того, насколько высока степень социальной организации, благодаря которой получают развитие первостепенные проблемы, и обратно пропорционально зависит от механизма решения этих проблем на более низких уровнях. Например, человек до-первобытной культуры занят исключительно решением проблемы выживания; человек военного типа культуры занят добычей материальных благ с помощью силы, количество которых превышает необходимое для того, чтобы просто выжить; человек пост-научного типа культуры вовлечен в решение проблем на уровне социального контроля с помощью научного метода. Для людей более высокого типа культуры проблемы, заботившие отдаленных предков, стоявших на более низких ступенях развития, теперь решаются автематически. Им не надо молиться о том, чтобы пошел дождь, так как у них есть системы ирригации; превентивная медицина заполнила ту нишу, которую когда-то занимали магия и колдовство, предназначенные для излечения больного. Абстрактная шкала культурных различий должна быть проанализирована конкретно, хотя сама по себе она пока остается абстрактной. В-третьих, все культурные типы в равной степени реализуются в меру своих возможностей. Культура определяется конкретным бытием, носителями которого, прямо или косвенно, выступают отдельные представители данной культуры, взятые вместе или порознь. Незначительные расхождения в онтологической теории, модифицированные определенного рода умозаключениями, обусловленными разнообразием условий существования, приводят к фантастически вариативным культуралистским выводам. Влияние культуры на индивида чрезвычайно сильно и затрагивает все сферы и моменты его существования. При этом, не бывает такого носителя данного конкретного культурного типа, который не был бы в состоянии стать носителем другого; для этого необходимо оказаться в ином культурном окружении и пребывать там достаточно длительное время, чтобы испытать на себе его воздействие и приспособиться к новой обстановке. <...> Выделенные типы культуры являются скорее идеальными и абстрактными, чем существующими в действительности. Реальные культуры представляют собой сочетание различных типов. Эти перечисленные типы культуры не создают хронологической последовательности. Несмотря на то что культуры неравноценны, все типы, в меру своих возможностей, реализуются. Пер. С. И. Левиковой, Л.А. Мостовой Алфред Л. Крёбер. Стиль и цивилизации''
Нам остается рассмотреть ряд самых общих проблем, касающихся стилей и их отношения к цивилизациям. В первую очередь мы остановимся на проблеме взаимоотношений стиля и гения и на некоторых связанных с ней темах. Затем попытаемся выяснить, можно ли свойства, подобные тем, что выделяют стиль в искусстве, обнаружить в отличных от искусства областях культурной деятельности — в науке например: мне предстоит обосновать положительный, хотя и с определенными оговорками, ответ на этот вопрос. Далее мы поразмышляем над тем, насколько продуктивным в научном отношении может оказаться предположение, что цивилизации также обладают некоторыми свойствами стиля, — это может относиться как к их сущности, так и к особенностям поведения в истории. Я не собираюсь слишком углубляться в эту тему: главенствующее место — в той или иной форме — проблемы цивилизаций займут в последующих главах этой книги. И, наконец, в заключение я хотел бы обосновать предположение, что аналоги определенным качествам стиля могут быть обнаружены и в природе, в тех сферах, которые никак не связаны с деятельностью человека, а именно — в формах самой жизни. Это потребует рассуждении на некоторые философские темы — о том, например, какое воздействие непосредственность нашего познания оказывает на ход развития науки и как наше понимание цивилизаций влияет на понимание отдельного человека. Вернемся, однако, к проблеме соотношения стиля и гения. С тем, что между ними существует определенная взаимосвязь, согласится, вероятно, каждый. Весь вопрос в том, какова эта взаимосвязь? Первое, что можно услышать в ответ: именно гении, именно великие люди и создают стиль, и уж безусловно — все самое лучшее в рамках этого стиля. И с этим нельзя не согласиться: именно их творчество главным образом и формирует стиль и в особенности то, благодаря чему этот стиль останется в памяти последующих поколений. Возможен и другой, с ориентацией на социальные процессы, ответ, согласно которому стиль — это длящееся во времени событие исторического масштаба, на фоне которого великие, впрочем, как и менее великие, люди выглядят как отдельные вехи на пути движения потока. «Звенья в цепи стиля» будет, может быть, и стершейся, но более конкретной и не столь «прилизанной» метафорой; «отдельные точки на линии развития стиля» — отражением ситуации на языке, более близком к математическому. Между этими — столь различными, на первый взгляд, утверждениями — на самом деле нет противоречия. С практической точки зрения, с точки зрения здравого смысла, каждый стиль состоит из результатов деятельности людей, связанных с этим стилем. Именно эти люди и создают — в буквальном смысле слова — тот или иной стиль — и это совершенно бесспорно. Тогда, когда нас интересуют отдельные личности и их произведения, тогда, когда мы оперируем категориями биографий, ничего другого нам и не требуется. В этом случае стиль — это только фон, на котором ярким пятном выделяется личность, находящаяся в центре нашего внимания. Но по мере того как наш интерес приобретает историческую — историческую в широком смысле или сравнительно-историческую — направленность, все, что связано с отдельными личностями, отодвигается на второй план, а на первый выходит сам стиль, как некое целое, как некое движущееся целое. Дело не в том, что какие-то личности оказываются теперь вне поля зрения, а в том, что внимание переключается на процессы иного, внеличностного, масштаба. В расчет теперь принимаются скорее взаимоотношения между личностями, чем личности сами по себе. Объектив нашего воображаемого микроскопа отодвигается настолько далеко, что в фокусе оказывается не отдельный человек, а гораздо более широкое поле, и единственное, что отчетливо различимо в этом поле, — это общая конфигурация и взаимоотношение отдельных частей. Римляне, которые жили в рамках той же цивилизации, что и греки, но с временной дистанцией, достаточной для того, чтобы посмотреть на них как бы издалека, из исторической перспективы, — уже они, эти древние, признавали, что великие имена появляются по ходу истории отнюдь не равномерно, не россыпью, а в своеобразных сгущениях, подобно созвездиям на небе. Это наиболее очевидно в изящных искусствах — там, где стили господствуют. Три величайших трагика античности жили в Афинах в пределах одного столетия — вся остальная античность не знала им равных, а фактически они не имели равных себе на протяжении двух тысяч лет. Где еще появляются такие живописцы высочайшего дарования, которых можно сравнить с плеядой художников Итальянского Возрождения? Лет 10—12 назад, в книге «Конфигурации развития культуры» («Configurations of Culture Growth»), я посвятил несколько сотен страниц тому, чтобы собрать и подробно изложить примеры подобного рода. По мере того как эта работа подходила к концу, я все более и более поражался, насколько немногочисленны — в любом виде искусства — примеры художников первой величины, стоящих вне какого-либо созвездия, так сказать, шальных одиночек. Я уверен, что любой, кто всерьез займется сбором собственного материала на эту тему или найдет время для перепроверки моих данных, придет точно к такому же выводу. Стоит нам сосредоточить свое внимание не на отдельных людях, а на взаимоотношениях, как они — эти люди — сразу теряют всю свою независимость и включаются в состав конфигураций. Если в каком-то отношении верно, что люди создают стиль, то верно и то, что в другом отношении они сами являются его продуктами. Во всяком случае, в результате работы над этой книгой у меня сложились несколько отличные от общепринятых представления о гении. Я целиком согласен с тем, что гения отличает обладание какими-то уникальными способностями — одной или несколькими, — намного превосходящими способности обычного человека; иногда, быть может, речь идет о чрезвычайно всестороннем развитии способностей. Я признаю,— как и все, вероятно, — и то, что все эти исключительные способности в основе своей — прирожденные. Но если это действительно так, то следует ожидать, что рождение людей с гениальными способностями должно происходить более или менее равномерно, с вероятностью, характерной для появления любой случайности: один гений на десять тысяч рождений, один гений на миллион — пропорция будет зависеть только от того, на каком уровне мы установим планку гениальности. Соблюдения этой пропорции можно с уверенностью ожидать от каждого отдельно взятого народа в пределах достаточно длительного периода, на протяжении которого, как можно предполагать, в генетической природе этого народа не происходит ощутимых изменений. Более того, существуют по крайней мере некоторые основания считать, что эта равномерная пропорция должна так же равномерно распределяться и между народами — во всяком случае до тех пор, пока не будет доказано, что народы отличаются друг от друга по своим способностям, — а это пока еще не было сделано. Безусловно, реализованные, полностью проявившиеся в жизни, способности следует отличать от способностей потенциальных, достающихся нам по наследству. Истинный математический гений с высочайшими потенциальными способностями, родившийся в такой среде, где умеют считать только до ста, не изобретет математического анализа или теории чисел, не откроет даже геометрии или алгебры, хотя вполне может додуматься до способа выполнения простого умножения. Мой собственный взгляд на гения как раз и вытекает из принципа, заложенного в этом примере, — если его применить в более широком масштабе. Можно считать доказанным, что гениальные способности даются от рождения, но реализуются они или нет — зависит только от культурного окружения, в котором потенциальные гении оказываются уже после рождения. Я сделал некоторые подсчеты, согласно которым даже в условиях величайших цивилизаций в истории с их богатой и разнообразной культурной средой,— если взять эти цивилизации в целом, без разделения на периоды большей или меньшей продуктивности — по крайней мере, три четверти потенциальных гениев, а возможно, и девять десятых от их числа, так и не достигли того расцвета, благодаря которому могли бы добиться признания последующих поколений и стать настоящими гениями. Ну а если мы возьмем все человечество на всем протяжении его истории, включая те народы, которые жили не только в условиях цивилизаций — более или менее великих, но и в условиях полуцивилизаций, варварства и дикости, то доля состоявшихся гениев будет, безусловно, еще меньшей, — быть может, только 2 или 3%. Все это звучит как суровый обвинительный приговор человеческой культуре. Да, это так, — но только до тех пор, пока мы не будем ясно представлять себе, что если бы не было культуры, то этот процент и вовсе равнялся бы нулю. Если же в это обвинение против человеческой культуры внести некоторые поправки в том смысле, что это еще весьма несовершенный инструмент, — что ж, с этим я буду полностью согласен. Все мы, в целом, признаем, что в чисто интеллектуальных сферах деятельности гениальность проявляется с не меньшей силой, чем в сфере искусства. Хорошо известно и то, что гении в философии и науке появляются плеядами — примерно так же, как гении в поэзии, драме, музыке, живописи и скульптуре. Но в историческом поведении науки существует, тем не менее, одно важное отличие от искусства. Наука — на первый взгляд — движется вперед кумулятивно, сохраняя и накапливая все достижения прошлого в независимости от смены исторических эпох и даже при переходе от одной цивилизации к другой. Принято считать, что в науке каждый следующий период имеет возможность начинать с того, на чем остановился предыдущий. Искусству же, как я уже говорил, напротив, всегда, казалось бы, приходится начинать все с самого начала. Искусство действительно, во всяком случае в очень значительной мере, каждый раз начинает все сначала, если и заимствуя в искусстве других цивилизаций, то заимствуя немногое. Некоторое накопление, аккумуляция, может, конечно, происходить, но в целом этот процесс нельзя назвать типичным или играющим заметную роль в истории искусств. Я полагаю, что такая двойственность, такое различие во взглядах на науку и искусство существует только благодаря известной неопределенности, присущей широко распространенным представлениям о науке, в то время как серьезный анализ показывает, что наука содержит две компоненты, или две группы компонент, одна из которых более, а другая — менее — сродни искусству. Различие между этими двумя компонентами лежит главным образом в их мотивации. Если первичным является стремление к познанию, познанию как таковому, как самоцели, и за этим стремлением не скрывается поиск пользы или выгоды, развитие науки происходит практически так же, как и развитие искусства. В этом случае наука движется вперед рывками или взрывами, каждый из которых решает определенный круг проблем. Как только эти проблемы оказываются разрешенными с помощью новых научных методов и главное становится ясным, количество новаторских, глубоких открытий уменьшается и наука замедляет ход своего развития, если, конечно, не принимать в расчет множества открытий уточняющего характера. И только с развитием совершенно нового направления — яркий пример тому генетика или ядерная физика — вновь появляются оригинальные открытия чрезвычайно важного значения, а вместе с ними и новая волна гениев. Возникающие на этом этапе новые интерпретации кумулятивны, собирательны в том смысле, что они не уничтожают всего, что было известно прежде. К старым, уже знакомым данным добавляются новые, имеющие более актуальное значение, но сами они при этом, как правило, не отбрасываются: их поновому интерпретируют, придают им иной, более широкий смысл. Однако цели и задачи решающей — творческой — деятельности -- изменились, и цикл развития начинается заново. Таков, на мой взгляд, путь развития фундаментальной, или чистой науки, и он очень напоминает тот путь, который проходит в своем развитии искусство. Я мог бы употребить здесь другой термин — «теоретическая наука», но мне помешала это сделать та ложная, но широко распространенная дихотомия, которая разделяет науку на высший пласт теории и низший — информации о феноменах. Именно эта дихотомия, как можно предполагать, порождает те сложные словесно-логические построения, которые на поверку оказываются столь же бесплодными, как и простое собирание фактов. По-настоящему успешная фундаментальная наука отличается тем, что теория, метод и факты не стратифицированы в ней наподобие кастовой системы, а, напротив, интегрированы на одном функциональном уровне. Вторая важнейшая компонента науки — та, что преследует прежде всего утилитарные цели, будь-то борьба с болезнями или технические усовершенствования, облегчение быта или рост производства, экономия средств или времени. Эту утилитарную компоненту не следует рассматривать как низшую по отношению к другой компоненте науки. Я нарочно избегаю такого рода оценочных суждений. Но поведение этой утилитарной компоненты, если мы обратимся к истории, действительно отличается своеобразием. Оно кумулятивно, собирательно в очень большой степени. Ведь практическую выгоду нельзя забыть, от нее нельзя отказаться ради новизны как таковой: нововведения в этой области возможны только в том случае, если, внося какие-то полезные усовершенствования, они не слишком сильно отличаются от того, что уже существует. Именно благодаря близости к технике и тесной связи с экономикой и промышленностью прикладная наука — а о ней, собственно, и идет речь — развивается, по всей видимости, более равномерно, менее пульсирующе, чем наука чистая, фундаментальная. Этот вывод находит подтверждение в истории. Великая эпоха греческой математики, астрономии и физики не сопровождалась заметным прогрессом в технике. С другой стороны, различные усовершенствования сбруи и седел, позволившие значительно увеличить эффективность использования лошади, изобретение плуга с отвалом для глубокой вспашки почвы, широкое распространение ветряных и появление водяных мельниц, использование силы ветра и воды не только для помола зерна, но и для давления винограда, валяния шерсти и распилки дерева, создание механических часов и артиллерии, изобретение очков и книгопечатания — все эти технические изобретения, начало которым было положено еще в период средних веков, — предшествовали по времени тому взлету европейской науки, который начался с Коперника и Галилея. От Архимеда и Гиппарха до Коперника — более полутора тысяч лет чрезвычайно медленного движения в фундаментальной науке, но вторая половина этого малоплодотворного периода отличается значительным прогрессом в технике. Становится, таким образом, очевидным, что две главные компоненты науки развиваются с меньшей корреляцией по отношению друг к другу, чем интеллектуальная составляющая — по отношению к изящным искусствам, а утилитарная — к технике и промышленности. Но если в своем поведении фундаментальная наука хотя бы в одном отношении демонстрирует такую близость к изящным искусствам, то возникает вопрос, не существует ли и других корреляций между поведением науки и искусства, не могут ли существовать в науке какие-либо указания на стили, более или менее сравнимые с теми, которые считаются столь неотъемлемым достоянием искусства. Первая реакция на это предположение будет, вероятно, негативной — на том основании, что наука имеет дело с поиском истины, отражающей объективную реальность, которой полагается быть единственной и неизменной, в то время как стили меняются по желанию людей. Даже если искусство отражает реальность, что может быть оспорено, достоверность составляет только одну из целей искусства и цель — очень часто — второстепенную. Психологи, однако, все более и более убеждаются в том, что человеческое восприятие — это не просто одна из разновидностей механического отражения реальности, что оно зависит от нашей настроенности, от заложенной в нас «сетки», на которую влияют врожденные особенности, культурное окружение и привычки. Понятия же стремятся следовать за ощущениями, но в то же самое время еще более искажают их. И поэтому две различные цивилизации будут безусловно так влиять на своих членов, что и воспринимать и понимать реальность они будут по-разному. Мне могут возразить, что задача науки как раз и заключается в проникновении сквозь эти субъективные обстоятельства в ту неизменную объективную реальность, которая находится за ними, и это, конечно, верно. Но дело заключается в том, что выйти за пределы этих субъективных обстоятельств способна только изощренная наука, искусно владеющая экспериментом и вооруженная точными инструментами. У своих же истоков всякая наука должна нести довольно тяжкое бремя обусловленности, влияния культурного окружения; здесь-то и может проявиться — как в поведении науки, так и в научных результатах — величайшее разнообразие различных манер и стилей. Насколько я знаю, первым, кто осознал, что в науке, по крайней мере в некоторой степени, проявляется релятивизм, характерный для всей человеческой культуры, был О.Шпенглер. Во всяком случае, он впервые серьезно обосновал этот тезис, хотя, как это обычно с ним и случалось, переоценил его значимость. Наиболее последовательно принцип относительности Шпенглеру удалось проследить на примере математики, и это, быть может, вполне естественно, поскольку математика, лишенная феноменального содержания, является, в определенном смысле, гораздо более бесспорной интеллектуальной деятельностью, чем все остальные науки, и поэтому на нее более заметное влияние оказывает матрица соответствующей культуры. Однако Шпенглер, исходя из понимания культуры как абсолютно замкнутого, подобно монаде Лейбница, организма, глубоко верил в то, что различные культуры порождают совершенно различные науки, приводя для доказательства этого положения достаточно много примеров. В греческой науке, например, Вселенная всегда оставалась ограниченной и геоцентрической в полном соответствии с ориентацией греческой культуры в целом на непосредственно воспринимаемое, чувственное и телесное. Именно поэтому, согласно Шпенглеру, грекам трудно было принять бесконечную Вселенную и гелиоцентричность: такие представления могли возобладать только в какой-то иной, отличной от греческой, цивилизации, более восприимчивой именно к такому пониманию космического пространства. Здесь вполне уместны некоторые сомнения как относительно того, на самом ли деле эти ограничения были изначально присущи греческой цивилизации или существовали скорее благодаря тому, что астрономия еще находилась на ранней стадии своего развития, так и относительно того, лежала ли в основе нашей западной цивилизации и была ли ей органически присуща иная, чем у греков, ориентация, или главную роль в преодолении системы Птолемея сыграл сам факт появления этой цивилизации на два тысячелетия позже греческой. Разрешить эти сомнения вряд ли поможет простое сопоставление различных точек зрения, ведь Шпенглер, с одной стороны, был страстно убежден, что все настоящие культуры должны были иметь различные науки так же, как различные философии и искусства, а историки науки, с другой стороны, склонны молчаливо признавать, что существует только одна наука и она всегда должна была быть таковой1.
Существуют, однако, данные, о которых Шпенглер не знал, но которые хорошо демонстрируют разительное отличие развития математики в Восточной Азии по сравнению с тем, что происходило на Западе, где влияние греческой математики, распространившееся не только на Европу, но и на Индию и на мусульманский мир, привело к созданию систем если и не единообразных, то, во всяком случае, взамосвязанных. Эти данные содержатся в сообщениях профессиональных математиков Миками и Д.Э.Смита, сделанных в 1912 и в 1914 гг., в связи с чем отпадают возможные обвинения в их сознательном искажении под влиянием шпенглеровских концепций. Суть дела, вкратце, такова. Вплоть приблизительно до 1200 г. н.э. китайская математика была развита весьма слабо и едва ли выходила за рамки арифметических операций. В XIII в. в Китае появляется разновидность алгебры неустановленного пока происхождения, известная как метод «небесного элемента». Своего наивысшего развития она достигает при Цинь Чиу-шао в 1247 г. и Чу Ши-чи в 1303 г. Ее наиболее характерной чертой считается использование единицы-«монады» для обозначения неизвестной величины. Она оперировала не только с положительными, но и с отрицательными величинами, для обозначения их использовались соответственно красный и черный цвета. Трудно себе представить, что эта алгебра была полностью местного, китайского, происхождения, без всякого постороннего влияния; однако нет почти никаких свидетельств об использовании в ней арабских или индийских символов или приемов. Это направление в алгебре никогда не было частью классической китайской системы образования, нет и никаких упоминаний о том, что она находила себе какое-либо серьезное практическое применение в технике, астрономии или в каких-то утилитарных областях. Обучение происходило вне официальных институтов: учителями становились те, кто уже был знаком с этой алгеброй, и обучали они всех, кого привлекала эта дисциплина и кто хотел бы заниматься ею ради нее самой. Эта алгебра не включалась в экзамены на должность и была понятна лишь немногим официальным ученым. Она рассматривалась как неклассическое и народное учение, которое официальные ученые довольно часто понимали неправильно, а впоследствии и вовсе забыли. Когда спустя некоторое время вновь появился интерес к этой алгебре, многие важнейшие книги, посвященные ей, оказались утерянными. Снова они были обретены только в XIX в. — благодаря копиям, сохранившимся в Корее. Из Кореи это или искусство, или наука попадает в Японию, где влачит малозаметное существование вплоть до конца XVI в., а в начале правления Токугавы возрождается вновь и развивается далее рядом японских ученых, величайший из которых, Секи Кова (1648 — 1708), был современником Ньютона. Последователи учения продолжали развивать его различные ответвления вплоть до 1868 г., до эпохи Мэйдзи, причем достаточно оригинальные ответвления продолжали появляться и в XIX в. Некоторые из этих японских математиков были аристократического происхождения, но их искусство рассматривалось, как и в Китае, как разновидность народного интеллектуального спорта, который, так же как, скажем, шахматы на Западе, имел свою литературу и школы и сам признавал выдающихся мастеров своего дела. Трудно описать словами необычную математическую систему. Некоторые особенности этой системы, указывающие на ее отклонение от всех остальных, можно, тем не менее, продемонстрировать следующими примерами. Эта система имела дело с эллипсом, циклоидой, цепной линией и другими кривыми, но не знала параболы или гиперболы. Она изучала сечения цилиндра, но не конуса. Для измерения площади круга использовались вписанные квадраты и производные от квадрата фигуры, но никогда — шестиугольники, не использовались и какие бы то ни было многоугольники, описанные около окружности. Некоторые из этих особенностей не производят глубокого впечатления, но их достаточно, чтобы продемонстрировать независимость этой алгебры от западной математики. Помимо всего прочего, нет никаких следов происхождения этой восточноазиатской алгебры из геометрии, впрочем, как и знакомства с какой бы то ни было геометрией вообще. Фактически восточноазиатская цивилизация не имела систематизированной геометрии до тех пор, пока европейские миссионеры не принесли сюда геометрию Евклида. Допуская, что начальный толчок этой алгебре могло дать пока еще не выявленное влияние с Запада, следует признать, что все ее последующее развитие было чисто китайским и японским. Я думаю, что эту алгебру можно в целом рассматривать как самостоятельный стиль в математике, со своими оригинальными посылками, методологией и проблемами. Если она не сыграла сколько-нибудь важной роли в восточноазиатской культуре, то, вероятно, только потому, что, когда она зарождалась, сама эта культура была уже достаточно древней, давно сложившейся, со строго определенной системой образования и научного знания, в ней почти не оставалось места для того, чтобы новая математика могла внести существенный вклад в решение тех или иных престижных или утилитарных задач. Ученость на Дальнем Востоке ассоциировалась главным образом с культурой письма и художественной словесностью. Существовали и технические знания, находившиеся на высоком уровне, но они были эмпирическими и едва ли хоть в чем-то опирались на науку, которая оставалась несистематизированной и неупорядоченной. Восточноазиатекая цивилизация так никогда и не создала пространства, в котором могли бы успешно развиваться серьезные фундаментальные науки. Лучше других наук к развитию в вакууме оказалась приспособлена математика. Из-за нехватки культурной почвы восточноазиатская алгебра не смогла долго просуществовать ни в Китае, ни, впоследствии, в Японии, где ее развитие было более длительным, но за время своего относительно краткого существования она сумела создать собственный отличительный стиль. Здесь уместно добавить, что мы привыкли смотреть на математику и науку в целом как на универсалии, лишенные специфических культурных скреп, связей со своими культурами — а если мы их замечаем, то считаем, что они приносят лишь вред. Говоря, что наука интернациональна, мы одновременно подразумеваем, что она интеркультурна. Если у какого-то народа отсутствует наука, мы имеем обыкновение отрицать за этим народом и цивилизованность в целом, почти так же, как если у него отсутствует письменность. Короче говоря, в своем современном состоянии наука реально достигла уровня полного внутреннего слияния, того уровня, к которому, как я уже отмечал, неминуемо приближаются и визуальные искусства. Мы склонны поэтому забывать, что на начальных этапах своего развития у различных народов и в различных странах наука отличалась своеобразием, зависела от культуры этих народов или стран и демонстрировала гораздо большее стилевое разнообразие, чем наука сегодняшняя, которая вариативна не столько в пространстве, сколько во времени. Свидетельством тому, что в науке некогда существовали разнообразные стили, могут послужить три различные системы для обозначения нуля и положительных чисел, изобретенных далеко друг от друга в пространственном и временном отношении — вавилонская, майя и индийская, две из которых пользовались настолько незначительным влиянием в своих культурах, что не смогли долго просуществовать. Можно сослаться на фундаментальные различия в математике, астрономии и календаре у таких близко расположенных и существовавших одновременно цивилизаций, как месопотамская и египетская. Можно, наконец, вспомнить греков, превративших египетскую геометрию из метода измерения земли для исчисления налогов в собственную чистую науку. Все это, в итоге, еще раз подтверждает, что историческое поведение науки мало чем отличается от поведения искусств и что стиль — или по крайней мере нечто родственное стилю — в истории науки прослеживается точно так же, как и в истории искусств. Теперь мы переходим к нашей третьей теме — стиль применительно к целым цивилизациям. Насколько оправданно и насколько полезно в научном отношении распространять понятие стиля на культуры в целом? Если мыслить в традиционном духе, то это может означать, что следует собрать воедино все различные стили, существовавшие в рамках данной цивилизации и тщательно изучить их взаимодействия и взаимовлияния. Но можно также предположить, что все эти взаимодействия порождают своеобразный суперстиль, который поддается определению или,.по крайней мере, описанию. Если подобного рода супер- или общекультурный стиль действительно существует, было бы, безусловно, чрезвычайно интересно выделить его — это имело бы большое теоретическое значение. Но прежде я хотел бы остановиться на одном тезисе, к более подробному рассмотрению которого вернусь немного позже. Всякий общекультурный стиль, который можно выявить, следует обязательно рассматривать как смешанный по происхождению, вторичный и производный. Если ход наших рассуждений будет обратным и этот общекультурный стиль будет постулирован первичным, мы неизбежно будем выводить хорошо известные конкретные стили в культуре из гораздо менее известной, менее определенной и имеющей к тому же весьма туманное происхождение целостности. То место, которое занимают отдельные частичные стили в культуре в целом, не может быть окончательно выяснено до тех пор, пока не прослежены все их взаимодействия и не становится видимой общая сумма качеств, характерных для данной культуры. Но сама процедура получения выводов должна вести нас от частностей ко все большему и большему целому, в противном случае мы можем увязнуть в недоказуемых интуитивных озарениях или даже впасть в мистицизм. Чем больше целое, тем неизбежно более сложен его состав. Но если сложная конструкция выстраивается из частностей или подтверждается ими шаг за шагом, она имеет шанс хотя бы в главном оказаться верной — по крайней мере для своего времени — и достаточно важной, в то время как один решительный удар, подобный тому, каким был разрублен гордиев узел, почти наверняка попадет мимо цели. Большинство проблемных узлов следует развязывать. Те, которые можно разрубить, вообще говоря, уже давным-давно разрублены. Любой профессиональный этнолог, регулярно участвующий в полевых экспедициях, но не слишком интересующийся проблемами сугубо абстрактного или универсального характера, в большинстве случаев имеет дело с небольшими сообществами, состоящими всего из нескольких тысяч человек, собственная культура которых, как правило, не отличается многообразием форм, но зато имеет ярко выраженные отличия от культур других бесписьменных народов, особенно тех, которые находятся на известном удалении. Степень изолированности районов обитания значительна, что создает благоприятную почву как для самобытности и специализации культуры в изолированных регионах, так и для развития тесной координации и гомогенности культуры внутри каждого такого небольшого сообщества. Кроме того, объем культуры в данном случае весьма скромен, по сравнению с культурами великих цивилизаций, что позволяет без чрезмерных усилий изучить эту культуру в ее основных чертах и облегчает восприятие ее как целого с точки зрения исторической перспективы. Это одна из тех уникальных возможностей, которые таит в себе профессия этнолога — к этому следует добавить опыт живого, непосредственного контакта с совершенно необычным образом жизни. Неудивительно поэтому, что этнологи, впрочем, как и антропологи вообще, проявили необычайную склонность к переносу подходов, выработанных ими на материале небольших культур, на изучение культур великих цивилизаций, искренне веря, что эти великие культуры также обладают всеобъемлющим единством и тесной внутренней координацией, которые могут быть отчетливо сформулированы. Достаточно интересно, что в этих формулировках, — независимо от того, относятся они к великим цивилизациям или к небольшим культурам, — антропологи очень часто используют язык психологии. В качестве примера можно привести знаменитую книгу Р. Бенедикт «Модели культуры» («Patterns of Culture»), в которой делается попытка обрисовать стиль, характерный в целом для каждой из трех специально отобранных небольших культур. Когда приводятся примеры, иллюстрирующие те или иные положения, используется привычный язык, которым обычно характеризуют культуру: в этих случаях речь идет об обычаях, верованиях, нравах, идеалах. Но по мере обобщения появляется все больше и больше психологии, и итоговая характеристика дается в терминах, которыми психологи обычно характеризуют темперамент, более того — в терминах психиатрии: культура зуньи характеризуется как аполлоническая, культура добу как параноидальная, культура квакиутль как мегаломаническая. Можно сослаться на ряд других работ — М.Мид, Бейтсона, Горера, работу все той же Бенедикт, посвященную изучению японской культуры, «Хризантема и меч» («The Chrysanthemum and the Sword»). Эти авторы подобным же образом склонны оперировать понятиями национального характера или темперамента — причем национальный характер представляется им квинтэссенцией повседневного, построенного на обычае поведения. Я пока не могу исчерпывающе объяснить этот феномен. Вполне может быть, что это просходит благодаря особой склонности этнологов к психологии. Но причина может лежать и в самой природе вещей Можно предположить, что когда мы отвлекаемся от каких-то отдельных сфер жизни — художественной или научной, моды или способов приготовления пищи — и пытаемся обрисовать стиль или характерные особенности цивилизации в целом, обобщение подобного рода неизбежно переходит на психологический уровень. А может быть, использование понятийного аппарата, традиционно использующегося для описания культуры, неизбежно оставляет нечто, требующее дополнительного описания, и попытка обобщения — от отдельных направлений или сфер в культуре к цивилизации в целом — просто не может не привести нас к психологии? Признаюсь, я недостаточно ясно понимаю сложившуюся ситуацию. Однажды я сделал осторожную попытку обрисовать в общих чертах психологию одной бесписьменной культуры, с которой был хорошо знаком, — намереваясь определить тип личности, который формируется в условиях данных общественных институтов, форм культуры и системы ценностей. Когда я показал это описание психологам, они, как мне показалось, восприняли эту работу как вполне традиционное исследование культуры, почти не содержащее в себе характеристики психологии. Это выглядит так, как будто границу, разделяющую смежные дисциплины, нам пришлось бы проводить по тем областям, на которые они сами претендуют или от которых сами же отказываются. Мне также приходится признать, что понятие стиля в применении к культуре в целом является, как и большинство расширений, несколько менее определенным, чем понятие стиля в первоначальном, более узком значении. Как бы то ни было, сама эта проблема еще нова и мало разработана, и я еще вернусь к ней. В настоящий момент, однако, давайте попытаемся — в порядке эксперимента — продвинуться еще дальше. Я хотел бы проверить, что получится, если мы попытаемся применить понятие стиля к явлениям сугубо органического порядка. «Органический» в данном случае не метафора, под этим термином я имею в виду — «биологический». Эту идею, правда, в достаточно краткой форме, я уже осмеливался высказывать в печати — и не один раз, — но эти публикации, к сожалению, не получили никакого отклика. Хотя мои размышления по этому поводу не совсем метафоричны, я понимаю, что они строятся по принципу аналогии. Стиль в органической жизни не может быть тождественным стилю в искусстве или культуре. Слово «жизнь» как таковое безусловно относится к другой категории явлений, чем слово «культура»; даже там, где две группы явлений, обозначаемых этими словами, оказываются связанными или тесно переплетенными, как, например, в человеке, они обладают достаточно различными аспектами. В самом кратком определении жизнь есть репродуктивный континуум, процесс непрерывных рождений, и этот процесс в высшей степени консервативен. В своих высших проявлениях жизни удается достигнуть уровня ярко выраженной индивидуализации в сочетании с удивительными способностями, в том числе и способностью к самостоятельным, никем не вынужденным действиям. Такие явления, как индивидуализация и способности, не совсем, казалось бы, совместимы с заложенной в самой природе вещей преемственностью, которая не предполагает варьирования. Во всяком случае, эти явления находят свое выражение в существенно отличных друг от друга органических телах, или «особях». Связи между этими особями, пока поддерживается истинная преемственность — преемственность наследственности, — чрезвычайно сжаты по времени, так что течение жизни кажется неаналитическому взгляду повторяющейся последовательностью тел, во всем подобных друг другу. Механизм этого процесса заключается, безусловно, в биологической, или генетической наследственности, о которой за последние 50 лет накоплено огромное количество информации. Короче говоря, в высших формах жизни — если мне будет позволено перефразировать для собственных целей некоторые банальные истины — мы имеем дело с преемственностью, присущей биологическому виду, который в обычном состоянии в высшей степени консервативен и медленно изменяется, но состоит при этом из отдельных особей, которые различны настолько, насколько это возможно, и в то же самое время, благодаря преемственности, в самых главных, существенных, чертах повторяют друг друга. Такая ситуация уникальна в природе. Мы же обычно этой уникальности просто не замечаем, настолько хорошо знакомым — на уровне явлений — нам все это кажется. У человека, единственного, кто обладает культурой, существуют, безусловно, те же самые взаимоотношения между видом и особью и тот же самый механизм наследственности, но для человека они играют меньшую роль благодаря появлению совершенно нового фактора, представляющего собой результаты деятельности — осязаемые и неосязаемые — отдельных индивидов, живущих сообществами. Эти результаты человеческой деятельности являются тем, что мы называем культурой. Их собственное существование тесно связано с жизнью человеческих сообществ, более того — прямо зависит от них; но они обладают и определенной независимостью, и в этом качестве могут воздействовать друг на друга и друг друга видоизменять. Это взаимовлияние обычно бывает намного большим, чем то влияние, которое оказывают на них человеческие индивиды, как индивиды, как законные, в силу наследственности, члены человеческого рода. Явления культуры, не связанные друг с другом биологической наследственностью, намного более пластичны, чем отдельные живые организмы, и могут изменяться в гораздо больших пределах. Это, в свою очередь, позволяет им влиять на другие культуры в направлении их все возрастающего изменения, и этот процесс может продолжаться до бесконечности. В результате, хотя культура, так же как и жизнь, обладает преемственностью, культура — в пределах, установленных жизнью, — демонстрирует гораздо большую и более быструю изменчивость. Случающиеся вновь или возобновляющиеся явления культуры повторяют друг друга гораздо меньше, чем отдельные особи в биологическом виде. Вследствие этого различия в изменчивости, культура — по сравнению с жизнью — представляется намного более естественной и готовой средой для появления и развития стилей. Создается впечатление, что в культуре существует ничем не ограниченное пространство для развития бесконечного количества стилей. Присущая культуре пластичность способствует, вероятно, и той быстроте, с которой обычно развивается стиль. Столь характерная для стиля в культуре согласованность или скоординированность благодаря его пластичности и лабильности достигается относительно легко, но она так же легко сходит на нет и так же легко восстанавливается — иногда полностью, иногда частично, иногда в модифицированном виде. В противоположность этому, то, что мы называем «стилем» или его дубликатом у живых организмов, а это — то, что присуще самим этим организмам, мучительно тяжело приобреталось тысячелетиями естественного отбора и очень цепко поддерживается наследственностью. Благодаря тому что согласованность органического «стиля» приобреталась медленно и трудно, эта согласованность или скоординированность должна быть, вероятно, гораздо более устойчивой. Биологический вид может погибнуть, но пока он существует, его «стиль» не будет изменяться с такой же легкостью, как стиль в культуре. Может показаться, что я выражаюсь слишком иносказательно, говорю какими-то притчами или облекаю давно известные банальности в модные слова. Что ж, тогда мне еще раз придется прояснить свою позицию на более конкретном материале. Я предложил бы в качестве наиболее близкой органической параллели стилю в культуре согласующиеся друг с другом особенности внешнего вида всех обладающих яркими отличительными признаками организмов, те, прежде всего, особенности, которые обеспечивают выполнение наиболее типичных для данного животного или растения функций, те, что придают им характерные способности, специфический габитус, отличительный темперамент, оригинальные повадки. Примером могут служить особенности внешнего вида, которые отличают грейхаунда от бульдога, или те, которые придают обтекаемую форму рыбам или птицам. Все эти особенности хорошо заметны при внешнем осмотре (при желании их можно даже измерить), являются неотъемлемой частью строения и неотделимы от выполняемых организмом функций, пронизывают, как правило, все строение и затрагивают, следовательно, многие органы, — тем самым они придают подлинную согласованность и скоординированность большинству органов или частей тела. Эта согласованность и есть то, что сближает организмы со стилем в культуре. У птиц, например, обтекаемые контуры тела, гладкое покрытие частично заходящих друг за друга перьев, голова остроконечной формы, втягивающиеся в тело ноги, отсутствие выступающих ушных раковин и других придатков, пустотелые кости, — все способствует успешному полету. В общую линию могут быть выстроены даже те характерные особенности птиц, которые, казалось бы, не имеют прямого отношения к делу: высокая температура тела в сочетании с теплым оперением сводит к минимуму потери тепла при быстром полете; доминирование глаз среди органов чувств помогает птицам осуществлять поиски с воздуха, выдерживать в полете определенный курс и успешно приземляться; быстрый рост птенцов сокращает тот опасный для них период, когда они беззащитны, поскольку не умеют еще летать. Подобная согласованность строения и выполняемых функций, координированность отдельных частей в заданном направлении, определяющем ярко выраженный характер поведения или произрастания присуща соколу и тигру, осьминогу и муравью, кактусу и дубу. За всем этим скрывается, быть может, не просто метафора, а нечто большее — реально существующая и имеющая большое значение биологическая аналогия тем отличительным и в то же время всеохватывающим физиономическим свойствам, которыми обладают стили, в том числе, вероятно, и стили общекультурные. В культуре, как правило, отдельные элементы стиля т находятся по отношению друг к другу в такой жизненно важной, насущно необходимой зависимости, которая характерна для органов живого тела, чья функциональная взаимозависимость — самого строгого и тесного вида. В культуре отдельным элементам свойственно, скорее, уподобляться друг другу по форме и характерным особенностям, а также форме и характерным особенностям целого. Складывающаяся в результате такого уподобления согласованность формы и характерных особенностей в культуре соответствует согласованности врожденной структурной организации, габитусу, темпераменту, характеру на органическом или психологическом уровне. Эту согласованность как раз действительно можно — в определенной степени — описать языком психологии. Как мне представляется, органическая аналогия стиля существует в трех специфических отношениях, которые я и постараюсь ниже определить. Во-первых, всякий биологический вид, или, применительно к предмету нашего обсуждения, всякий род или даже отряд или тип, имеет свою историю. Каждый из них представляет собой результат длительной эволюции, уникального и неповторимого процесса. Все это справедливо и по отношению ко всякой культуре. При этом эволюция и биологического вида, и той или иной культуры или стиля происходит в результате реагирования на изменения окружающей их среды, к этому добавляются изменения, вызванные внутренними причинами — мутациями или творческой деятельностью соответственно. Во-вторых, точно так же, как биологический вид состоит из потока по существу повторяющих друг друга отдельных организмов, так и общество, только благодаря которому и может существовать культура, есть череда сменяющих друг друга поколений индивидов. Биологический вид или род есть форма, общая для отдельных особей, которые составляют его материальную субстанцию: культура или цивилизация есть форма, которую приобретают результаты деятельности общества в пределах человеческого рода. В-третьих, каждый биологический вид полон адаптации, о которых мы подчас знаем на редкость много, при том, что причины, которые привели к появлению этих чудес адаптации в строении и функциях, нам почти неизвестны. Их было бы гораздо легче объяснить с точки зрения телеологии, если бы мы признали существование во Вселенной изначального плана, предвидения, умысла или конечных целей, чего мы, оставаясь приверженцами научного позитивизма, позволить себе не можем. Поэтому мы предполагаем, что в появлении адаптации действовала какая-то рациональная причинность: несметное количество неизвестных специфических причин скрыты за таким процессом, как естественный отбор. Важно, однако, помнить, что в огромном большинстве случаев мы не знаем специфических причин появления характерных черт того или иного биологического вида. Мы точно не знаем, что послужило причиной того, что клыки, когти, мощная мускулатура, крупные глаза и бьющий как хлыст хвост сочетаются друг с другом с такой наводящей ужас симметрией. Это почти полное неведение прямо параллельно тому, что происходит с цивилизациями: мы также почти ничего не знаем о тех причинах, которые придают им целостность. И так же мало мы можем сказать о том, что конкретно заставляет различные элементы культуры согласовываться друг с другом, как это происходит при их объединении в стиль. В обоих случаях согласованность формы делает стиль таким же приемлемым, как и биологический вид, наделяет их значимостью, даже если мы обладаем только несовершенным знанием о том, что создает их. Хотя мы уже достаточно углубились в эту несколько туманную область сходств и подобий, на которых я настаивал несмотря на фундаментальное различие рассматриваемых явлений, позвольте мне остановиться в общих чертах еще на одной, весьма далекой от предыдущих рассуждении, идее. Она затрагивает область философии науки и связана с тем, как на научные методы влияет природа человека. Осмелюсь предположить, что процесс человеческого познания начинается с осознания и узнавания самих себя, своего собственного тела и чувств. От самих себя, от данного нам в наиболее непосредственном восприятии — и в истории жизни каждого из нас и в ранней истории всего человечества — процесс познания постепенно распространяется на весь окружающий нас мир. Чем в более далекие от человека сферы проникает познание, приобретая попутно все более система•газированный характер, тем более легким и более плодотворным оно становится. Те области природы, которые находятся дальше всего от нас самих — неживая природа и Вселенная, космос, — легче всего поддаются научному исследованию. Самыми первыми самостоятельными науками являются физика и астрономия. Именно в этих науках легче всего избавиться от антропоморфизма, именно здесь легче всего происходит переход к совершенно новому, объективному подходу. Химия появляется позже отчасти, быть может, потому, что имеет дело скорее с внутренними качественными характеристиками, чем с внешней формой вещей, но, возможно, еще и потому; что именно от химии берет свое начало тот главный мостик, который, как представляется, пролегает через биохимию и физиологию и соединяет мир неживой природы и нас, живые организмы. Познание живых организмов, особенно в тех аспектах, когда они, как цельные особи, более всего похожи на нас самих, происходило медленнее и давалось человечеству с большим трудом. Живые организмы отличаются огромной сложностью и изменчивостью; эксперимент, этот бесценный инструмент познания, в данном случае трудно применим, как показывает краткость истории эксперимента на живых организмах в генетике. Короче говоря, чем ближе мы подходим к предмету — я имею в виду нас самих, — который дан нам в наиболее непосредственном восприятии и от которого, следовательно, можно было бы ожидать наибольшей предрасположенности к изучению с помощью научных методов, тем большим оказывается его сопротивление. Я полагаю, что именно психология, систематическое научное изучение нас самих, является — по самой своей природе — самой сложной из наук. Это особенно верно в том случае, когда речь идет о психологии холистической, психологии, интересующейся личностью в целом: если мы «отламываем» от этого целого какую-то часть — познавательные способности, например, — задача научного изучения значительно облегчается. Однако даже в этом случае врожденное сопротивление исходного материала дает о себе знать, проявляясь в определенной скудости получаемых результатов: это еще раз подтверждает мысль, что трудно найти науку, равную психологии по сложности изучаемого предмета, — насколько искусны методы изучения, в данном случае не имеет значения. Когда мы выходим за пределы психологии и движемся в противоположном направлении, в виды феноменов, которые лежат над психической деятельностью или заключают ее в себе — т. е. могут быть отчасти сведены к ней, так же как сама психология, в свою очередь, может быть частично сведена к физиологии и химии, — то я беру на себя смелость предположить, что на этой противоположной стороне складывается аналогичная ситуация, выражающаяся в том, что парадоксальным образом научное изучение общества и особенно культуры изначально оказывается менее сложным и более плодотворным в смысле понимания, чем научное изучение человека. Понятно, что более крупные координации и конфигурации распознаются легче: крупнее масштаб, появляется перспектива, становится возможным исторический подход. Беру на себя смелость заявить, что мы уже обладаем намного более обобщенным пониманием стиля в культуре, поскольку он историчен, чем личного, или индивидуального стиля, хотя последний был осознан намного раньше. Во всяком случае, я представил свои соображения на этот счет. Если они показались недостаточно убедительными, то пусть, по крайней мере, послужат объяснением той несколько болезненной увлеченности и безрассудной смелости, с которой я пытался проникнуть в столь туманные и столь отдаленные сферы. Перевод А.А. Борзунова 4. Шпенглер*
Из тех, кто занимался сравнительным анализом цивилизаций, Освальд Шпенглер в определенном смысле ближе всего сердцу культурного антрополога, каковым являюсь я. Его исследования сравнительны в самом широком смысле. Шпенглер далек от этноцентризма и выступает абсолютным релятивистом. Он понимает культуру как самостоятельное явление, обладающее собственным способом выражения. Он не сводит ее происхождение к биологической природе человека или наследственности, к географии или природной среде, к физиологии или биохимии. Его противопоставления обоснованы, искусство давать характеристики очевидно и защищает его от излишнего однообразия или неопределенных общих мест. Эти качества мне по душе. Поэтому Шпенглер произвел на меня сильное впечатление, когда я впервые познакомился с его «Закатом Европы». Если бы я мог принять его взгляды, я, безусловно, сделал бы это с энтузиазмом. Однако анализ этой работы в целом выявил неоправданные преувеличения, догматизм, безапелляционность, белые пятна, невозможность сопоставить факты. Сейчас, спустя почти 40 лет, его недостатки как образованного человека или ученого уже осмыслены. Сорокин обращается с ним даже чересчур тактично в посвященной Шпенглеру главе работы «Социальная философия» (Social Philosophies, 1950); и Г. С. Хьюз двумя годами позже в работе «Освальд Шпенглер: Критическая оценка» (Oswald Spengler: A Critical Estimate) — наиболее известной книге об этом человеке — смягчает свое неприятие концепции и метода Шпенглера признанием его сочинительского таланта и интеллектуальной значимости. По прошествии ряда лет я все больше и больше склоняюсь к признанию, что немецкий «экспрессионизм» — или сверхвыразительность, как назвали бы это во всем мире, — является основным недостатком Шпенглера, который роднит его с Ницше, Вагнером, Гитлером и с тысячами менее значимых мыслителей, писателей, художников и др. Эта по сути дела чрезмерность есть одновременно и причина, и следствие того, что Германия никогда полностью не входила «на равных» в Западную цивилизацию, за исключением скоротечного периода, на который пришлось творчество Канта, Гёте и Бетховена. Этот воистину титанический темперамент, но доведенный до крайности и сумасбродства, ведет к патологии. Я также тщательно анализировал концепцию Шпенглера в работе «Конфигурации развития культуры» (Configurations of Culture Growth, 1944), где специально остановился на своих разногласиях с ним. Вместо того чтобы и далее копить критические замечания, я, напротив, остановлюсь на том, что считаю реальной проблемой, которую Шпенглер поднял и сделал эмблемой исторического и научного исследования; а также поразмышляю о том, насколько она разрешима. Проблема, как я ее понимаю, касается степени связанности и соответствия между существующими многообразными частями, органами, элементами или фрагментами, составляющими каждую культуру. Сам Шпенглер дает ответ на этот вопрос. По его утверждению, у каждой из великих культур в период активной фазы (а именно ее он и рассматривает), эта взаимосвязь носит всеобщий характер. Он считает, что одно качество пронизывает каждую из них на протяжении всего существования. Он не только сводит каждую культуру к ее прасимволу, но и выводит ее из этого символа, выражением которого она является. Так, ограниченный однолинейный путь является символом Древнего Египта, а путь неопределенного блуждания — символом Китая; богослужение в пещере или под вечным небесным куполом символизирует магическую культуру, а эмпирическое, чувственно видимое тело — классическую античность; чистое и неограниченное пространство является символом западной культуры, а бесконечная равнина символизирует еще не рожденную русскую. Очевидно, что это поэтические образы. Но тот простой факт, что они могли бы быть сочинены Блейком или Мелвиллом, отнюдь не свидетельствуют о том, что они могут служить полезными инструментами для не поэтической интерпретации истории. Трудность еще и в том, что, как известно, огромное количество культурного материала — изобретений, религий, алфавитов и многое другое — присуще различным культурам и переходит от одной цивилизации к другой. Шпенглер отнесся к этому факту с бесцеремонным пренебрежением. Он отрицает диффузию и межкультурное взаимодействие: согласно Шпенглеру, в действительности это не происходит, если не брать в расчет незначительные случайности; он настаивает на том, что истинные культуры невосприимчивы. Когда они в действительности что-то заимствуют, то перерабатывают заимствования, сообразно своему собственному стилю. Это означало бы, что значимым в том, что греки переняли свой алфавит от финикийцев, римляне от греков, а мы (через наших предков) от римлян, будет не тот факт, что бесписьменные народы обрели свою письменность, а то, что они переработали эту заимствованную письменность в стилистически новую форму письма. Форма и порядок написания греческих букв и их звучание изменились по сравнению с финикийскими, римские по сравнению с греческими и наше современное написание, по крайней мере частично, относительно римского. Короче говоря, для Шпенглера важен внешний стиль написания букв, а не то громадное воздействие, которое оказало умение читать и писать на жизнь общества, не обладавшего ранее такой способностью. Это последнее обстоятельство, имеющее невероятно большое значение, оставляет его равнодушным: аналогичное может повторяться в некоторых ситуациях или в нескольких культурах, но стиль написания является отличительным свойством, характерной чертой данной культуры; и именно характерные отличия притягивают и интересуют Шпенглера, он мягко отталкивает все остальное, не имеющее для него никакого значения. Почему же этот отличительный стиль, как бы мимолетен он ни был, столь значим для Шпенглера? Потому, что для него все стили культуры — письменности, представлений, художественного оформления, скульптуры, поэзии, музыки, философии, науки, политики — обладают общим свойством, которое является выражением сущности культуры. Именно это догматически утверждает Шпенглер и, не имея возможности доказать, принимает за отправную точку своих рассуждении. A priori они не доказуемы, за исключением отдельных свидетельств. Тем не менее такая возможность есть. Можно ожидать, что сущность культуры раскрывается через характерные черты элементов, объединенных в данной конкретной культуре, а не через произвольно выхваченные признаки различных культур. Нужно отказаться от тезиса Шпенглера, что материалы отдельной культуры должны быть идентичны по характеру и что все они должны быть сходны, поскольку все они есть выражение одного и того же символа, раскрывающего всего одну душу. Но нет необходимости отказываться от всего во имя ничего, чтобы допустить, что поскольку многое по воле судьбы переносится из одной цивилизации в другую, и все должно переноситься, то практически нет такого элемента, который зародился бы только в той культуре, в которой мы его находим. Насколько мне известно, это нигилистическое положение никогда и никем не было полностью подтверждено. Порой может показаться, что Франц Боас, с его негативизмом по отношению к антропологическим схемам культуры, возможно, не раз бывал близок к подобному взгляду, поскольку открыт для любой и каждой оригинальной мысли. Но он был слишком точен и содержателен для того, что посвятить себя универсальному отрицанию. Теория «лоскутов и заплат» Роберта Лоуи — которая по сути является не теорией, а ссылкой — представляет собой обращение к истории, к первоистокам того, что составляет собой обращение к истории, к первоистокам того, что составляет культура, а не окончательному структурированию. Другими словами, будет ли утверждение Шпенглера, что все в культуре должно быть в равной степени окрашено одной и той же качественной характеристикой данной культуры, неверен, в силу излишней абсолютизации. Скорее всего Шпенглер принимает желаемое за действительное. Но, с другой стороны, необходимо учитывать и то, что категорическое отрицание любого и всего стилистического соответствия в рамках культуры также будет крайней абсолютизацией, каковыми являются шпенглеровские утверждения. Истина находится скорее всего посередине; и проблема в том, где именно? Вероятно, эту проблему можно разрешить, хотя несомненно только очень постепенно, с помощью фактических данных и беспристрастного анализа. Это серьезная проблема, заслуживающая большого внимания. Именно Шпенглер сказал (когда разводил свою точку зрения с ницшеанской): «Культура есть единство художественного стиля во всех жизненных проявлениях»1, — и именно он подтолкнул мыслителей к более широкому контексту рассмотрения этой проблемы, несмотря на то, что, привлекая, он одновременно убивал ее, заранее авторитетно заявляя об ее окончательном разрешении.
Давайте попытаемся обострить постановку вопроса, насколько правомочно и плодотворно рассматривать культуру как определенный вид стиля, суперстиль или стиль стилей, т. е. ведущий стиль жизни. Чтобы отойти от уровня абстрактной аргументации, я хотел бы проанализировать конкретные примеры. Будет удобно, а также и справедливо по отношению к Шпенглеру взять два примера, о которых он преимущественно говорит, а именно культуру античной классики и культуру Запада от средневековья до нашего времени2.
В начале я суммирую данные аргументации сущностной характеристики или этоса для каждого из выделенных типов культуры, а затем поставлю вопрос, не о том, прав он или нет, а о том, насколько он может быть правым, и главное — в рамках какого процесса сущностная характеристика или суперстиль мог развиться. Попытаюсь подвести итоги шпенглеровскому описанию классической культуры как стиля. Это греко-римская цивилизация, главным образом эллинская, но дополненная Римом и названная Тойнби просто эллинской. Согласно Шпенглеру, это период с 1110 г. до н.э. по 200 г. н.э. Стадии формирования или докультурный этап относится к 1600 по 1110 г. до н.э. (период микенской и позднеминойской культуры). Это классическая культура аполлонического человека Ницше, чьей целью является мера, ограниченность, реальность, вневременность. Это — телесная реальность, чувственная форма, мгновение, статичность, очерченные пределы. Это — непротивление протяженности, ходу времени, прошлому или будущему, энергии, конфликту. Поясним на примерах. Полис — обнесенный стеной закрытый город, представляющий собой в то же время автономное государство, все граждане которого собраны в пределах слышимости. Империя — афинская, спартанская и римская — состоит из нескольких городов-государств или варварских племен, завоеванных одним городом-государством. Любое богатство, кроме земли, принимает форму денег, отчеканенного металла — круглых, компактных, твердых денег. Деньги изобрели в эллинизированной Лидии, а греки распространили их, придали им наиболее красивую форму. Кроме металла движимое имущество все в большей и большей степени стали составлять рабы. В искусстве одиночные, свободно стоящие, лаконичные и, как правило, обнаженные статуи, доминировали над скульптурными группами, рельефами и живописью. Для архитектуры характерно стремление к спокойным, простой конструкции сооружениям небольшого размера. Музыка следовала лишь мелодической линии: инструменты — такие, как флейта и лира — были просты и издавали лишь несколько монотонных звуков; музыканты преимущественно играли по одному или собирались маленькими группами. Для театра большое значение имели каноны и ограничения, налагаемые «тремя единствами»; характерны также обезличивающие актеров маски и беспристрастный хор. Типичная для греков область математики — геометрия — была образной и конструктивной, ограниченной вещным миром и измеримой, как планиметрия, так и стереометрия. Ее дальнейшее развитие в «конические сечения» все еще обнаруживает эти качества. Алгебра, с ее акцентом на взаимосвязи, отсутствовала. Шпенглер считает, что алгебра Диофанта Александрийского не греческая, а магическая по происхождению. Греческая арифметика преимущественно имела дело с интегральными исчислениями и их теорией. Единственным известными степенями были вторая и третья, понимаемая как квадрат и куб физических тел. В греческой математике отсутствовали понятия иррациональных, отрицательных, неопределенных или алгебраических чисел, нуля или бесконечности как величин и функции. Физика главным образом ограничивалась статикой и игнорировала фактор времени. Астрономия постигала жестко замкнутую конечную Вселенную, ограниченную несокрушимой сферой раз и навсегда зафиксированных звезд. Пространственная протяженность понималась иначе, чем сейчас, — как телесность в смысле, что «природа не терпит пустоты». История в классической древности в основном рассматривала современный ей период, описанный в большинстве случаев ее участниками, такими как Тацит, Полибий, Цезарь. Ее временной интервал короток, она не заглядывала в глубь веков. Греки были слабы в хронологии, коротки в памяти и описаниях по сравнению с египтянами, жителями Месопотамии, китайцами, они не задумывались над происходящими переменами, не заботились о будущем. Религия включала в себя культы, неразрывно связанные со спортом, мифологию чувственных форм, начиная с Олимпийских богов и кончая нимфами и фавнами, которые в большей степени служили широкой основой эстетического восприятия, чем веры и подражания. Подытожим теперь шпенглеровские взгляды на западную культуру: как стиль европейская или западная культура сформировалась к 900 г.н.э. или, возможно, в течение Х в. одновременно с появлением самосознания европейских наций. Докультурный этап продолжался с 500 по 900 г. и включал темные века и каролингскую эпоху. «Цивилизованный» этап этой культуры — в шпенглеровском враждебном восприятии этого слова продолжающийся по сей день, — начинается примерно в 1800 г., и продлится, вероятно, до 2200 г., а может, и дольше, если исходить из тезиса об аналогичности жизненных циклов. Это культура фаустовского человека с его непрерывным стремлением к победе. Интересы данной культуры ориентированы на время, расстояние, бесконечность, борьбу, напряжение, динамику, безграничность и предел. Ее политической движущей силой выступают не города-государства, а национальные государства, которыми правят династии, обеспечивающие столь желанную протяженность во времени. Города — теперь всего лишь имения внутри государства. Экономические отношения складываются вокруг кредитов и двойной бухгалтерии. Отчеканенные монеты превратились в бессмысленный анахронизм, унаследованный от классической культуры. В искусстве вначале живопись, а затем музыка доминировали над обнаженными скульптурами античности. Успехи живописи отмечались решением проблемы пространственной перспективы, достижением эффекта удаляющейся точки; широко использовались светотени, ломаные линии; появилось такое направление, как импрессионизм; большого мастерства художники достигли в изображении атмосферных явлений. В музыке мелодии, усложняясь в контрапункте, строятся по законам гармонии. Получает развитие оркестровая музыка, а также полифонические инструменты: вначале орган, затем фортепьяно. В архитектуре готические соборы контрастируют с греческими храмами своей устремленностью ввысь и поиском амбициозных конструкций, а также преднамеренным усложнением и точным расчетом. Для математики характерны исчисления производных или бесконечно малых величин, аналитическая геометрия (обращение геометрии к алгебре), теории функции и предела, а также весь современный аппарат, которого не знали греки. Физика впервые стала заниматься не только статикой, но и динамикой, учитывающей скорость свободного падения тел, и продолжила развивать представление о времени, как о значимом факторе. В астрономии возобладал гелиоцентризм, который вскоре сменила концепция бесконечности Вселенной. Космос расширился до бесконечности и перестал пониматься как некое замкнутое пространство. Истинная история стала более глубокой, теперь мир мог быть воспринят как история. Именно в рамках западной культуры в период готической фазы ее развития были изобретены механические часы для определения времени. Для нее характерны также открытия, благодаря которым покоряли расстояние: огнестрельное оружие, железные дороги, телефоны и многое другое. Книгопечатание способствовало неограниченному тиражированию. Религия западной культуры описана Шпенглером не очень определенно. Иногда ему кажется, что этой религией является христианизированный германский эпос3; он сводит подлинное христианство к раннему христианству и приберегает его для магической культуры. Но мироощущение Запада пронизано сильным трагическим осознанием судьбы, рока, такого как в «Эдде» и «Сумерках богов».
Вышеизложенное представляет собой две наиболее полные шпенглеровские физиогномические характеристики, кратко обобщенные, освобожденные от присущих ему отклонений от темы и произвольных ассоциаций4.
Именно в противопоставлении этих двух культур заключается особая ценность работы Шпенглера. Эти две культуры он знает и исследует, так как понимает и чувствует их лучше, чем другие. Возможно, скорее всего он действительно начал свои размышления со сравнительного анализа именно этих культур, а затем распространил его на изучение других. Во всяком случае, затруднения, связанные с его методом, раскрываются на примере этих двух культур. Если его выводы о классической и западной цивилизациях не выдерживают критики, то размышления о всех остальных терпят еще большее фиаско. Мысли об этих двух культурах являются квинтэссенцией его концепции. Тогда в чем же суть шпенглеровских деклараций? Сам он иногда говорит о физиогномике, а иногда о стиле. Я бы назвал это попыткой выразить стиль культуры. Она является характеристикой распространяющейся повсюду формы (гештальт*), говоря современным языком; целостный образ не распадается на множество составляющих частей, а представляет собой единое целое, и в мыслях это целое спаяно столь крепко, кажется, что иначе и быть не может. Это полотно сотканных по принципу подобия образов, непосредственно составляющих культуру, взаимодействие которых направлено на проявление общего качества культуры в целом. Именно это в переводе на ясный английский язык, как мне кажется, Шпенглер и хотел выразить. Насколько он в этом преуспел, существуют ли действительно те взаимосвязи, о которых он пишет, — именно эти вопросы встают перед нами.
Греческие города, обнесенные стенами, представляющие собой крохотные автономные государства; маленькие металлические кружочки, превращенные в деньги; одиночные статуи, являющие собой обнаженное человеческое тело; простые, ограниченные в размерах сооружения; односложные мелодии; театр, скованный «тремя единствами»; образная математика, сведенная в основном к геометрии и арифметике; физика статики; Вселенная, заключенная в хрустальную сферу, — являются ли все эти феномены классической культуры действительно подобными по своим качественным характеристикам? Или их сходство на самом деле лишь метафорическое? Взаимосвязаны ли вообще эти создания культуры так, как внутренние органы в живом организме, или как при выражении стремления к одной главной цели, или как множественные реакции одного темперамента? Тот же вопрос, конечно, относится и к нашей западной цивилизации. Действительно ли мы должны объединиться в единое целое, которое обладает неким качеством, аналогичным органическому единству, как иногда говорил Шпенглер, — качеством, более или менее выражающимся в едином стиле. Я бы сказал — вполне правомерно искать то, что роднит готический собор, живопись, в которой используется перспектива, светотени, полифоническую гармонию в музыке, двойную бухгалтерию, в математике исчисление производных или бесконечно малых величин, теории функций и предела, физику динамики и астрономию бесконечной вселенной, механические часы и осмысление исторического прошлого — объединено ли все выше перечисленное единым стилем? Если действительно существует нечто объединяющее эти артефакты одной цивилизации, то тогда можно извлечь из работы Шпенглера кое-что полезное, несмотря на его эмоциональность, догматизм и все крайности. Но, если мы откажемся от реального во имя кажущегося общего стилистического качества, пронизывающего все перечисленные здесь конкретные явления, тогда окажется, что от шпенглеровского подхода почти ничего не остается. Ответ зависит от выбранной исходной предпосылки. Причинное объяснение исторических связей, основанное на сходствах, исключено. Ведь невозможно всерьез принять аргумент, что соответственно последовательности их возникновения, готическая архитектура послужила причиной изобретения механических часов; что эти часы привели к открытию перспективы в живописи и к созданию музыкальной гармонии; что последние два в свою очередь приложили руку к возникновению астрономии Коперника и аналитической геометрии и т.д. Дело не пойдет лучше, если вместо того, чтобы видеть, что причиной В было А, а причиной С — В и т.д. мы вернемся назад, к изначальному X, который обозначим причиной подобия А, В, С. Такой основополагающий Х является слишком общим и неопределенным, чтобы быть убедительным — слишком похожим на шпенглеровский прасимвол. Безусловно, желательно, чтобы такой Х был лишь новым описанием исторического направления открытий, скрытым под словом «причина». Можно ожидать, что только в ситуации полной изоляции, замкнутости и самодостаточности установленный порядок причинно-следственной цепочки А, В, С, D... N будет соблюден. Такую ситуацию легко создать в экспериментальных условиях — к слову, это именно ситуация лабораторного эксперимента. Но такого рода точно определенной ситуации в действительности нет и быть не может — если не принимать во внимание одного небезызвестного исключения: воспроизводство биологических особей внутри их видов. После того как яйцо оплодотворено, его могут разбить, или птенец может быть съеден кошкой, или птица может плохо питаться и умереть, не успев вырасти: но уже заранее предопределено, что из яйца вылупится курица, а не орел, и не белка и не василиск. Тем не менее, это — репродукция особей в генетической непрерывности видов; и каждая особь изолирована от внешнего мира, насколько это возможно, — у всех высших животных — и почти самодостаточна, как это бывает в природных феноменах на планете. Но история человека и его культуры не представляет собой однонаправленной непрерывности, как это имеет место с тем, что ранее называлось зародышевой плазмой, а сейчас определяется как гены в хромосомах. Напротив, она представляет собой неопределенное разветвление, извилистое, расширяющееся, переплетающееся, воссоединяющееся, вновь и вновь образующее пересекающиеся потоки. Преуспевающие цивилизации в своем повторяющемся сходстве совсем не похожи на курицу или белок. И менее всего, на самом деле, на них похожи шпенглеровские монадные культуры, каждую из которых он видит как полностью непохожую, качественно отличную от всех других, едва ли понятную представителям иных культур. Действительную аналогию шпенглеровской точке зрения на культуру составляет биологический мир, в котором курица, орел, белка, василиск и еще по одной особи из полудюжины других видов, появятся на свет без участия прародителей, пройдут параллельные стадии биологического развития, примерно равные по протяженности, а затем умрут и превратятся в покрытый кожей скелет или в пустую раковину, не оставив после себя никаких преемников или последующих поколений. И все это будет без какой-либо связи или зависимости между монадными экземплярами — каждый всегда обращен вовнутрь, чтобы реализовать свою собственную, присущую только ему судьбу. Именно такой фантастический проект складывается на основе шпенглеровской концепции, если ее применить к биологическому миру. Я привел это специально для того, чтобы доказать несостоятельность взгляда, пытающегося опровергнуть Шпенглера в его попытке рассмотреть культуру по аналогии с организмами. Я считаю, что именно этого Шпенглер и не делал, потому что в действительности не мыслил понятиями биологии. Мне кажется, что он интересовался только биологическими феноменами или историей жизни, выраженной в человеческой культуре, — и только ее конкретным выражением. На самом деле он использовал термин «органический» метафорически, для взаимосвязей и ассоциаций, которые выступают врожденными, сильными и продолжительными. Для историка, философа или любого пишущего человека вполне естественно применять термин таким образом. В отличие от них ученый-естественник может использовать этот термин только в прямом смысле, в том значении, какое он имеет в биологии. Согласно Шпенглеру, это слово унаследовало значение, полученное в XVIII в., когда противопоставление органического неорганическому (или механическому) приобрело особую значимость, по-видимому, особенно в Германии. Например, Аделунг в 1782 г. в работе «История культуры» (Geschichte der Kultur) очерчивает историю человеческого рода восемью степенями, каждая из которых соответствует ступени онтогенетического развития, т. е. индивидуального созревания. Так, третья ступень, от Моисея до 683 г. до н.э., именуется «детством человеческой расы», а восьмая, последняя ступень, начавшаяся в 1520 г. и продолжающаяся вплоть до времени написания его книги, называется «человек, наслаждающийся плодами эпохи Просвещения». Эта работа была действительной попыткой положить в основу биологическую аналогию. Шпенглер частично унаследовал терминологию, использованную в ней, но не стал опираться на биологию. Правда, Шпенглер реально видел «рост» выделенных им культур; но кто этого не видит? Тойнби использовал это слово, Данилевский тоже, и я, как и они, его так же использовал. Шпенглер видел, что этот рост необратим — феномен наиболее известный нам по органической жизни. Возможно, именно это помогло придать особое значение его ощущению смерти культуры, как двойника биологической смерти. Но, когда он окончательно суммирует аналогичные жизненные циклы выделенных им культур в таблицах наиболее организованных и систематизированных, чем все то, что он создал, он использует времена года, а не фазы жизни для названий степеней культурного цикла, так как они вызывают дополнительные ассоциации. Таким образом, никто не сможет обвинить его в том, что он мог положить в основу человеческой культуры климат или расположение звезд. Более того, также верно и то, что и весна, и лето, и зима вызывают рост и увядание растительной жизни, и то, что Шпенглер, безусловно, осознавал эту метафору. Пока мы все согласны с тем, что поддающиеся определению термины ведут нас к более точному пониманию смысла, чем метафоры и аналогии; когда же исследуемые процессы все еще недостаточно ясны, поскольку недостаточно известны, необходимо использовать самые точные из всех имеющихся терминов и понятий. По содержанию «Untergang» очевидно, что шпенглеровское видение культуры заражено органицизмом — в отличие от расизма, — но что он отчаянно пытался описать культуру как автономное, самодостаточное явление. Как бы то ни было, он зашел слишком далеко в этом направлении: оставил культуру до такой степени изолированной во Вселенной, что в результате материализовал ее в необъяснимую сущность или серию необъяснимых сущностей. Именно поэтому я прихожу к выводу, что мысли Шпенглера были оборотной стороной органицизма, несмотря на то что он использовал биологические понятия метафорически, не найдя подходящих в сфере культуры. Он не упорядочил данные в соответствии с причинностью или общей последовательностью. Три его хронологические таблицы являются уступкой и ошибкой, как считает Хьюз. Они косны; их пробелы и двусмысленности обнажены; они растеряли всю «воображаемую неточность» его исторической перспективы. К чему теперь можно прийти, раздумывая о физиогномике или о стиле? Во-первых, конечно, физиогномика должна быть осознана. Создающий зрительный ряд художник продвигается от него к ответной эстетической реакции; ученый — к мысленному восприятию, скорее синтетическому, чем аналитическому и, наиболее вероятно, испытывает почти такое же многообразие ощущений, как и художник. Но выразить словами то, что понято, очень сложно. Накапливаются такие барьеры в общении, с которыми не приходится бороться художнику. Толкователь стиля вынужден обратиться к своему или избранному языку и метафоре, чтобы использовать слова с подтекстом. Если это верно для словесного описания поэтического, живописного или музыкального стиля, то трудности еще большего порядка возникнут при определении стиля культуры в целом. В конце концов, качества стиля конкретны; во взаимосвязи они должны быть некоторым образом обобщены, и обобщение становится более жестким по мере расширения стилевых границ. Одно значение является основным символом; и поэтому, вероятно, метафора становится неизбежной. Сила таких прасимволов, как «сводчатая пещера» или «бесконечная равнина», обозначающих культуру целиком, пропорциональна количеству и энергии иносказательных нитей, которые тянутся от них к огромной массе явлений, с ними соотносящихся. И тем не менее, даже символ длиной в целую фразу не может передать очень многое из того великого феномена, которым является цивилизация. Невозможно обойтись без подробного описания особенностей или характерных черт. Но как избежать простого перечисления? Как все это организовать и собрать воедино? Наиболее приемлемым методом является построение соотношения конкретных феноменов, обладающих одинаковыми качествами, и-переход к сверхкоординации. Если это специфический художественный стиль, масштаб соотношений не слишком велик. Когда культура в целом воспринимается как стиль, составляющие его явления значительно более многочисленны и разнообразны, поэтому необходимая сверх-координация будет значительно шире; но степень конкретности исходных феноменов должна быть сохранена. Я бы сказал, что Шпенглер, в основном, именно это и сделал, хотя в большей степени страстно и беспорядочно; он собрал воедино элементы культуры, сущность и непосредственные функции которых очень различны, но которые тем не менее обладают общей сущностной характеристикой. В действительности имеется нечто общее в устремленных ввысь соборах и в изображении перспективы в живописи, и в музыкальном контрапункте, и в музыкальной гармонии — этот действительный набор качеств, которые им свойственны, назовем взаимосвязью расстояния и множественности. И обоснованность соединения усиливается тем фактом, что во всех культурах, кроме западной, эти стилистические качества значительно слабее развиты и частично отсутствуют. Еще шаг, и мы можем присоединить к этим качествам взаимосвязи пространства и множественности, характерным для западной цивилизации, ряд внеэстетических элементов, таких, как механические часы, двойная бухгалтерия, аналитическая геометрия и исчисление, гелиоцентрическая астрономия, которые также являются носителями качества протяженности времени, его течения, постепенности, равновесия и относительности. Благодаря им, в свою очередь, расширяется ареал деятельности входящих и взаимосвязанных элементов, таких, как применение машин, использование кредита, коммуникации, динамичная наука, широкомасштабная история человека и природы. Эта последняя группа культурных черт характеризует последнюю фазу нашей цивилизации, но корнями уходит в прошлое. К тому же, до некоторой степени, построение последовательной характеристики нашей цивилизации, кажется, уже ни в коей мере не является объяснением, и в конечном счете не отрицает возможность причинно-следственного объяснения. Напротив, оно имеет значение — улавливающее многозначность. Пока это определение не является гипотезой, предназначенной для подтверждения или опровержения, существуют тем не менее и лучшие, и худшие, более или менее широкие, гармоничные и обязывающие определения. Именно таким образом, как мне кажется, соборы, контрапункт, механические часы, способы исчисления, кредиты можно интерпретировать как сосуществующие во взаимосвязи внутри одной цивилизации и являющиеся чем-то большим, нежели несопоставимые случайности, связанные одним всеобъемлющим качеством. В другой же цивилизации, такой, как классическая — архитектура, скульптура, драматургия, театр, математика, наука, политика и материальные ценности могут быть рассмотрены в качестве носителей иного набора качеств — структурной простоты, телесных и мирских ограничений, первичности чувственной формы и сосредоточенности. До чего может дойти подобная стилизация цивилизаций? Будет большим преувеличением полагать, что она может повлиять на все составляющие культуры, хотя иногда Шпенглер и делает такие заявления. В конце концов, каждое общество существует в определенной среде, и его члены обладают физиологическими потребностями, которые необходимо удовлетворять. Шпенглера раздражали эти банальные универсалии, которые сами по себе ничего не привносили в физиогномику культуры и в определенной мере могли заблокировать или затуманить ее характеристику. Поэтому он игнорировал их и действовал так, будто стиль был полностью автономным явлением в восьми культурах, которые, по его мнению, создали свой стиль. Мы не должны принимать на веру эту чрезмерность; но при этом не должны отрицать и стилистическую согласованность культуры в целом. Другой проблемой, относительно которой желательно занять умеренную позицию, является то, как в общем виде формируется культурный стиль. Самый простой ответ принадлежит Шпенглеру: он выводит культуру из первоначального символа, или прасимвола; и впадает в крайность. Более того, он выводит известное из менее известного. Это менее известное, основа или прасимвол, является действительно скорее ex postfacto построением, чем primum mobile; отталкиваться от этого означает придавать причине телеологический характер. Шпенглер поступает не совсем так; он предпочитает совсем оставить причину и говорить о судьбе. Как следствие этого, у него происхождение культур и их стилей повисает в воздухе и остается неисследованным. Лично у меня возникло три взаимосвязанных варианта ответа на вопрос, как возникают культурные стили. Первый: я предполагаю, что совпадающая стилистика культур носит лишь частичный характер; второй — переменный; и третий — появляется постепенно связывая открытие уже заложенных качеств с последующим развитием. Любой стиль, выражающий целую культуру, обязательно будет неполон. Постоянное влияние окружающей среды и человеческих потребностей, которые уже упоминались, существование множества других препятствий, таких как столкновения с другими культурами. Последние могут быть настолько сильными, что смогут сокрушить соседей так же, как и конкурентов; так происходит, когда передовое, богатое и сильное общество вступает в контакт с отстающим. Сам Шпенглер указывает на то, как исконная культура Америки была стерта, как автономное образование, простой горсткой искателей приключений одного только испанского национального сегмента западной культуры — и стерта лишь из спортивного интереса, да некоторой доли личной жадности, — отмечает он со вздохом. Более слабые межкультурные взаимодействия имели бы меньший эффект; но, за редким исключением, влияния присутствуют постоянно. И, несомненно, эти воздействия разнообразны. Общество воспринимающее завтра может стать отдающим. В состав его культуры могут одновременно входить элементы других культур, воспринятые столь давно, что они полностью ассимилировались; и такие, которым все еще противятся или которые видоизменяются, не говоря уже о тех, которые никогда не будут приняты. Однако я бы обратил особое внимание на постепенность, с которой общество создает стиль своей культуры, особенно если и общество, и культура являются великими. Только потому, что содержание любой культуры, как правило, пришло извне, для его ассимиляции необходимо время; следовательно, оно войдет в активную взаимосвязь с формирующимся или уже действующим стилем, значительно позже. Период появления, роста и функционирования своеобразной культуры, продолжительность ее созидательного периода и время, в течение которого развивается этот характерный стиль, — все это очень тесно взаимосвязано. Действительно, три вида деятельности — рост культуры, созидание и развитие стиля — могут быть рассмотрены как три аспекта единого масштабного, широкого процесса. Создание нового содержания культуры, ассимиляция привнесенных извне элементов, выковывание характерных стилей, рост согласованности между несколькими сущностями и образцами — все это вместе и есть то, что составляет реализованный общий стиль культуры. Если результат в целом солиден и значителен, то на него требуется время; несмотря на это, развитие может быть впечатляюще быстрым до тех пор, пока не будет достигнут апогей культуры, но даже тогда она может продолжать какое-то время двигаться по инерции. Когда темпы роста и формирования стиля начнут снижаться, они будут тяготеть к тому, чтобы уменьшаться постепенно, по крайней мере какое-то время; после этого может произойти воссоздание культуры на возрожденной или расширенной основе — конечно, в последнем случае, с учетом того, что изменило итоговый стиль или физиогномику. Или же ослабление может продолжаться, сопровождаемое вырождением стилистического качества. Иногда конец может наступить в результате замены или постепенного поглощения ее другой культурой. Я доверяю шпенглеровскому ощущению высокой степени возможностей идеальных культурных стилей — даже таких воображаемых культур, какой является магическая. Я думаю, что он, порой, должен был видеть больше стилевых особенностей в культурах, чем это реально осознавалось самими обществами. Итак, когда культура наконец достигает ступени, на которой расхождение между ее идеальным стилем и реальностью уже дольше невозможно отрицать, Шпенглер просто отвергает культуру, начинает говорить о цезаризме, мегаполисе, феллахах, жизни-после-смерти и фактически исключает остатки данной культуры из истории и из бытия. Общекультурный стиль как соотношение распространенных качеств не может быть завершен, не может быть внезапно достигнут. Он никогда не является первичным или единичным, всегда представляет собой то, что достигнуто, и выступает в совокупности — как этос общества или характер человека. Только кажется, что это легко сформулировать, но сколько надо думать, чтобы суметь выразить это! Он (стиль) неуловим, что также заметно и вызывает постоянный интерес. Что касается нашей собственной цивилизации, то я специально использовал шпенглеровский аллитерированный пример соборов и контрапункта, исчислений, двойной бухгалтерии, механических часов в качестве мнемонического шокового средства, чтобы сосредоточить внимание на проблеме, насколько культурные единицы, кажущиеся столь несопоставимыми, могут тем не менее быть качественно взаимосвязанными так же, как и выражение целостного стиля культуры. То, что представители нашей и других цивилизаций очень мало осведомлены об абсолютном стиле, не должно нас сильно смущать. Каждый человеческий язык обладает таким образцом стиля — мы называем его грамматикой, — о котором говорящие не подозревают, когда разговаривают, но с помощью анализа он может быть выявлен и сформулирован. Согласованность в грамматике никогда не бывает окончательной или идеальной, но она всегда важна; безусловно, она сильно выходит за границы перечня случайных вопросов. Культуры являются более масштабными, разнообразными и сложными системами феноменов, чем языки, так же как и более независимыми и менее автономными. Но оба взаимосвязаны — действительно, язык, по сути дела, является частью культуры и, возможно, ее предварительным условием. Поэтому потенциально представляется возможным описать структуру культур, аналогично структуре языков — с помощью всеохватывающих образцов. Большая часть разрешения этой проблемы целостности цивилизации принадлежит будущему; и я не увижу ее завершения. В конце концов, мы вообще совсем недавно начали думать об определенных цивилизациях как о целостностях, обладающих характерными чертами. Возможно, проблема цивилизаций как распространения феномена стиля, в том виде как ее страстно обозначил Шпенглер и как вижу ее я, ошибочна в самой формулировке или постановке. В таком случае, будущее придаст новую форму проблеме — может быть, передвинет ее на более подходящее место относительно феномена, и, благодаря этому, анализ будет более продуктивен. Так или иначе, я верю в то, что более полное понимание цивилизации как макрофеномена достижимо и что оно будет включать в себя понимание той роли, которую сыграл в ее создании стиль. Выводы Мы знаем о стилях и цивилизациях отчасти из личного опыта, но наше знание становится намного глубже благодаря тому, что сохранила и истолковала история. И стиль, и цивилизации являются социокультурными феноменами. Это означает, что они «социальные» в обычном, неопределенном смысле этого слова, которое по сути дела означает, что они более чем индивидуальны. Точнее, стили и цивилизации являются культурными феноменами, потому что они — паттернированные произведения человеческих обществ. Как многие антропологи, я использую слово «цивилизация» как синоним слову «культура». Во всяком случае я пытаюсь не придавать значения их различию. Термин «цивилизация» широко используется для обозначения «передовой» или письменной, или городской культуры. Я не оспариваю использование данного термина в этом смысле, но пытаюсь сделать такой выбор из двух близких синонимов, чтобы читатель понял из контекста, использовал ли я более широкое или более узкое значение этого слова. Слову «цивилизация» придается уничижительное значение, когда им называют по существу порочную или антисозидательную фазу культуры; подобное употребление характерно для Германии, что неловко и по отношению к Шпенглеру: то ли искажаешь его, то ли одобряешь его взгляды, используя этот термин. Стиль является нитью культуры или цивилизации: последовательный, самосогласующийся, способ выражения определенного поведения или видов деятельности. Он избирателен: должна существовать альтернатива, хотя в действительности выбор может не быть реализован. Там, где правит принуждение или физическая, или физиологическая необходимость, там нет места для стиля. Слово «стиль» берет свое начало в художественной литературе, и его основное значение относится к сфере изящных искусств. Оно может быть использовано и для выражения индивидуальных характерных черт, и для культурных отношений или художественной манеры. На протяжении всей этой работы я использовал его в последнем значении. Не вызывает сомнений, что гении с легкостью создают большинство стилей. Но гении являются представителями своего общества и вносят вклад в свою культуру, так же, как и в собственную индивидуальность; и будет правильным время от времени абстрагироваться от личности и относиться к ней как к культурному феномену. Можно определять гениальность или талант создателя и качество его работы, в зависимости от того, какое место он занимает в потоке или кривой стиля, к которому принадлежит. Несмотря на то что стили наиболее характерны для изящных искусств — так, изделие, в котором полностью отсутствует стиль, не может считаться произведением искусства, — тем не менее элементы стиля проникают в другие виды деятельности, такие как питание и манера одеваться, которые служат удовлетворению необходимых или неэстетичных потребностей. Элемент стиля, не играющий роль доминанты, включается в процесс регулирования и принимает искаженные формы. Так, и у давно существующего стиля питания, и у краткосрочной моды в одежде, отсутствует специфический вариант развития и кульминации, свойственный стилям изящных искусств, первый стремится скорее к бесконечной продолжительности, последний — к постоянной изменчивости, но без взлетов. Это свойственно и стилям художественного оформления бытовых предметов. Тем не менее, это смешанные стили — смешанные в том смысле, что могут быть легко проанализированы или верифицированы даже путем измерения. Историческая смена направлений в философии, в гуманитарных науках, в математике, в чистой или фундаментальной науке очень похожа на изменения в стилях изящных искусств. Под этим я понимаю то, что временной вертикальный профиль кривой ценности результата труда или меры талантливости создателя в основном одинаков в некоторых видах деятельности. Другими словами, и интеллектуальное, и эстетическое творчество одинаково проявляют себя в истории, предположительно потому, что действуют аналогичным образом: и то и другое создает подлинные ценности. Прикладные науки в большей степени реализуются иначе, безусловно за счет практичности, выгоды и технологии. В общем, у чистых стилей время существования ограниченно, в основном потому, что они исчерпывают свои созидательные возможности и вынуждены начинать сначала на более широкой или, наоборот, новой основе. Современная чистая наука, возможно, в силу своих успехов и солидной организации, в значительной мере избежала этой стилевой ограниченности, присущей более ранней науке, и имеет тенденцию к более равномерному и постоянному прогрессированию. Имеются признаки того, что похожие изменения намечаются в изобразительных искусствах и, возможно, в музыке, но задерживаются в литературе в силу языковых различий. Так как человеческая культура не может быть целиком связана с ценностями, а должна адаптироваться к социальным (межличностным) отношениям и к действительности (ситуации борьбы за выживание), то всю культуру вряд ли можно расценивать полностью как своего рода развернутый стиль. Но она включает стили, приходящие в столкновение с остальной культурой, влияющие на нее; и все составляющие культуры будут стремиться приспособиться одно к другому; так что целое может появиться в результате распространения общего качества и приобрести высокую степень согласованности. В поисках лучшего термина я назвал это общекультурным или всекультурным стилем. Он должен приниматься во внимание как следствие вторичного распространения и ассимиляции внутри культуры. Он не является первичной детерминантой культур, как считал Шпенглер. Отличие культуры или цивилизации как понятия от истории человеческого рода определяется двумя главными критериями. Первое, культура — набор образцов, абстрагированных от поведения. Историк, как правило, имеет дело непосредственно с поведением — действиями людей или событиями—и только случайно или косвенно с воспроизведением его стереотипов. Он может приостановить поток изложения фактов для тематического обзора или анализа, в котором он описывает культурные стереотипы, но это составляет незначительную часть историографии в целом. Другой путь выявления этого различия — это последовать за Коулборном, который считал, что изучающий культуру сосредоточивается на упорядоченности и повторяемости, на представлениях о человеческой жизни в данном месте и в данное время; историк, напротив, придает особое значение единичным событиям и, следовательно, тому, что происходит нерегулярно. Вторым важным отличием культуры от истории является то, что изучающий культуру может и действительно абстрагируется, по желанию, не только от событий, но и от личностей, за исключением отдельных примеров, в то время как историк изучает и личности, и народные массы в том виде, в котором они представлены в документах, и не исключает культурные образцы. Не то, чтобы историки были беспристрастны: подразумевается, что они отбирают наиболее влиятельные личности и излагают события, которые были широко известны или оказывали неизгладимое влияние. Историку позволительно сравнивать события или институты различных обществ или периодов. Антрополог, изучающий культуру, должен раньше или позже сравнить культуры обществ раздельно по периодам или ареалам, если его исследование должно иметь более широкое значение. Чтобы сделать сравнение действительно значительным, изучающий культуру должен видеть культуры в пространстве, должен классифицировать их и, следовательно, определить их границы как можно более тщательно. Историк свободно выбирает место и период, опираясь на то, что ему известно, или на более выгодный, или более предпочтительный выбор. Когда, тем не менее, он подходит.к проблеме периодизации, он уже de facto классифицирует и оказывается лицом к лицу с такой, проблемой, как разграничение культур. Сравнение культур или цивилизаций и историческое сравнение частично совпадают; но и то и другое необходимо отличать от философии истории. Согласно мысли, впервые высказанной Вольтером, философия истории обозначила структуру всеобщей истории с определенной точки зрения: в его случае, это периоды Просвещения и антиклерикализма. Гердер предложил другой более экзотический, и более привлекательный подход. Недавним примером философии истории может быть и «Набросок» (Outline) Уэллса. Другой вариант философии истории принадлежит Гегелю. В нем изложение событий подчинено желанию продемонстрировать единственный принцип, который проходит через всю историю. В качестве примера можно указать на работы Вико и Ибн Халдуна. Никто из современных ученых не создал философии истории, хотя работа Нортропа «Встреча Востока и Запада»(«ТЬе Meeting East and West») и представляет собой некое подобие подхода такого типа; на это претендует и труд Сорокина, хотя его принцип суперсистем может быть сведен к истории последовательности фаз культуры, которые подверглись периодизации и обобщению. Отделение или разграничение одной цивилизации от другой — это организация нашего знания, сравнимая с периодизацией истории. Крайне редко можно провести разграничение с достаточной точностью, и никогда абсолютно точно. И культура, и исторические события существуют в континууме и на обитаемой поверхности земли, и во времени. Поэтому любое разграничение является делом выбора, и решения будут меняться в деталях, несмотря на возможность соглашения о том, что входит в эти рамки. Так, и 330, и 476, и 622 годы н.э. были предложены в качестве дат, отмечающих конец античности, т. е. греко-римской культуры в Западной Европе; и все с этим согласились. Аналогично, принято считать «границей» между тем, что мы называем средними веками и новой историей Европы, следующие даты: 1453, или 1492, или 1519. Пока историки заняты выбором важных или выразительных событий для этих демаркации, заметного исторического периода, который кто-то признает полезным для действительного понимания событий и который одновременно обозначает культурную фазу или естественную ступень в развитии цивилизации. Когда дело касается более высоко развитых цивилизаций, они, как правило, выделяются среди прочих благодаря тому, что обладают точками сосредоточения культурной интенсивности или успеха. Эти центры или моменты кульминации развития сравниваемых цивилизаций, как правило, происходят и во времени, и в пространстве в окружении других цивилизаций, обладающих менее развитой культурой, так что основная классификация обычно бывает ясна. Положение промежуточных территорий так или иначе определяется в соответствии с тем, насколько они зависимы от того или иного «центра». Следующие факторы служат критерием отличия цивилизаций одной от другой: язык, включая распространение языков цивилизаций или высокой культуры; форма религии; империя или политический контроль; степень технологического развития или накопления богатства. Порой эти критерии довольно точно определяют границы цивилизаций. Наиболее чувствительным, хотя и менее всего материализуемым индикатором в целостности является стиль, особенно в изящных искусствах, в том числе и в широком смысле, в художественном оформлении, в одежде и еде. Восприимчивость стиля как знака соотносится с распространением как во времени, так и в пространстве. Там, где территории, на которых располагаются отдельные цивилизации, контактируют, разграничение порой вызывает сложности из-за перемещений. С другой стороны, цивилизации часто упрощают ситуацию благодаря наличию у каждой своих специфических законов, религии, языка или обычаев. Там, где одна и та же территория частично или полностью занята цивилизациями, сменяющими друг друга, возможное решение находится между распознанием отдельных цивилизаций либо отдельных фаз и подводит к следующему: постоянные завоевания; установление новой религии, как это верно подмечено А. Тойнби; расширение или сокращение занимаемых территорий; жесткость политического, экономического, эстетико-идеологического расчленения на две культуры. В общем, если распад носит серьезный характер и достаточно продолжителен, в сохранившейся культуре к моменту начала нового роста остается меньше содержания и культурных образцов, чем до его начала. Период сокращения и дезинтеграции такого типа имел место в Западной Европе в постримский период (500-900 гг.) и может быть обозначен как «темные века» и интерпретирован как период разделения двух цивилизаций. Там, где распад носит скорее реконструктивный характер, с развитием новых культурных образцов происходит замена или смещение старых, и повсеместно возрастают численность населения, богатство, технология, знания, расширяется кругозор или одновременно присутствуют все элементы базовой культуры (total culture), как это было после периода высокого средневековья в Европе, интервала, подобного периоду линьки у животных, то — это подготовка для новой, большей масштабной фазы все еще растущей цивилизации. Такой реконструктивный интервал тем не менее сопровождается некоторыми потерями культурных образцов и в особенности потерей стиля. Например, в Европе готическая скульптура и архитектура, схоластическая философия, феодализм, влияние христианства и церковный раскол уместились в этот период. Можно сказать, что целостная цивилизация должна быть преобразована на более широкой основе, допускающей в конечном счете более широкий круг культурных стереотипов и стилей. Современное состояние западной цивилизации, начиная примерно с 1900 г., более правильно соотносить с этим типом, чем с началом окончательного заката, как это предсказывали Данилевский, Шпенглер, Адаме и др., а Тойнби расценивал как угрозу. Очевидно, что многие, длительное время признававшиеся стереотипы жизни окончательно исчезли за последние полвека, а художественные стили были последовательно разрушены. Но появляются новые модели и социальной структуры, и культуры, и продолжается рост народонаселения, благосостояния, сферы досуга, технологии и науки. В том случае, когда общество завоевано и довольно долго остается подчиненным по отношению к обществу с иной культурой, как это было с Месопотамией при касситах и Ираном в эпоху эллинизма, или когда в период беспорядка и разделения вводится и упрочивается религия — или, возможно утрачивается — как буддизм в Китае и Индии, бывает трудно решить, что важнее для более полного понимания: сделать вывод о том, что мы имеем дело с новой цивилизацией или с новой фазой старой цивилизации. Концепция Тойнби о внутрицивилизационной куколке религии плодотворна, но было бы чрезмерным отвергать воздействие многочисленных факторов. Древний Египет с его четырехкратным установлением почти идентичной всеобщей модели представляет достаточно простой случай, но не стоит ожидать, что такое повторяется очень часто. Следует отметить, что Египет географически изолирован и поэтому территория, на которой располагалась данная культура, не претерпевала никаких изменений. Принимая во внимание постоянный рост содержания культуры, частично за счет изобретений и еще более за счет привнесений извне, следует поставить вопрос, пришла ли египетская цивилизация к своему завершению благодаря своим старым статичным формам, которые все меньше и меньше были способны удержать их растущее содержание, или же в силу более простых процессов, т. е. повторяющихся завоеваний и навязывания чужой культуры. Я согласен с Сорокиным, что точка зрения Данилевского и Шпенглера, в значительной степени разделяемая также и Тойнби, — что цивилизация обладает только одним единственным жизненным циклом, в котором есть только одна неповторимая фаза создания, — несостоятельна. Более глубокого понимания цивилизации можно достичь, если сосредоточить изучение скорее на содержании, структуре и потоке культуры, чем на повторяющихся шаблонах исторических событий. Именно за это я больше всего критикую Тойнби, потому что, хотя его исследование есть история, он претендует на анализ цивилизаций, при этом, в основном; оперирует схемами событий, повлиявшими на эти общества: и он вынужден поступать так до тех пор, пока настаивает на использовании этической причинности. Изучение цивилизаций должно продвигаться вперед не только за счет охвата небольшого количества легко сопоставимых великих культур, оно должно включать незначительные, производные и даже неприметные культуры, выделяя их в соответствии с их значимостью. В этом Тойнби был первопроходцем, но процедура должна иметь своей целью еще большую содержательность и меньшую случайность отбора. Разнообразные предложенные схемы сравнительного толкования цивилизаций менее страдают от интуитивной субъективности, — так как перед лицом такой массивности макрофеноменов вряд ли начало может быть иным, — чем от неадекватности содержания и масштабов охвата. Чем больше •эмпирических данных привносится в подходящее значение, тем больше они корректируют несовершенные интуитивные взгляды, особенно если последние схематичны. Ритмическая периодичность, а также их протяженность во времени, по моему мнению, показали свою относительную невыгодность в качестве субъектов научного исследования. Полуповторения, частичные и беспорядочные совпадения вопреки всем ожиданиям оказались давно известными и в истории культуры, и в органической истории как «конвергенции». Был бы полезен их более основательный анализ. Проблема вариативности порядка последовательности различных явлений также нуждается в более систематическом изучении. Допущение имманентных сил лучше всего оставить как последнее прибежище. До сих пор не было проведено достаточно мощное и интенсивное изучение, способное обеспечить этот ракурс. Более вероятны второстепенные и псевдоимманентные свойства: внутренние культурные тенденции различной силы, которые в конечном итоге развились в результате воздействия внешних сил. Изучение цивилизаций вряд ли может стать действительно научным или грамотным, до тех пор пока не будет отброшено эмоциональное отношение к кризису, упадку, краху, вымиранию и гибели. Перевод А.А. Борзунова, С.И.Левиковой, Л.А. Мостовой Рут Бенедикт. Психологические типы в культурах Юго-Запада США*
Культура индейцев пуэбло сильно отличается от культуры соседних с ними народов. Бросается в глаза, что все стороны их жизни ритуализированы, в большой степени формализованы. Каждый, кому довелось пожить среди них, был поражен значением формальных деталей в их обрядах и танцах, сложной взаимосвязи элементов в организации церемониала и в то же время безразличием к личному религиозному опыту, социальному престижу и эксплуатации. Пафос всепоглощающего церемониала позволяет сопоставлять их религиозную практику с аналогичной в римско-католической церкви в некоторые периоды средневековья, когда внешняя сторона церемонии, ритуальная деталь имели самодовлеющий характер. Эта особенность настолько типична, что в описании культуры юго-западных племен мы, как правило, не идем дальше ее констатации. Если же рассматривать цивилизацию индейцев Северной Америки в целом, то можно заметить, что первостепенное значение ритуала так или иначе свойственно подавляющему большинству племен. Обряд солнечного танца, церемония курения трубки мира, культовые, возрастные группы у индейцев прерий, а также зимний церемониал на Северо-Западном побережье играют, возможно, несколько меньшую роль в жизни этих народов, чем календарные танцы и прочее на Юго-Западе, но все же не столь малую, чтобы считать церемониал главной отличительной чертой культуры юго-западных племен. В их культуре проявляется некая психологическая черта, существенно отличающая их от народов других регионов. Речь идет не просто о присутствии или отсутствии ритуала, но о том, что в этом регионе сам ритуализм носит принципиально иной характер и без осознания этой особой базовой психологической установки индейцев пуэбло все наши попытки понять культурную историю этого региона будут тщетны1.
На Юго-Западе в культуре пуэбло утвердились два психологических типа, которым дал название еще Ницше в ходе изучения греческой трагедии. Он назвал их дионисийским и аполлоническим. При этом он имел в виду два диаметрально противоположных способа достижения ценностей бытия2. Дионисиец стремится к ним через «уничтожение обыденных уз и границ существования; наибольшую ценность для него представляют моменты, когда он вырывается за пределы чувственного восприятия мира и попадает в иное измерение. В процессе ритуала человек дионисийского типа стремится впасть в транс, достичь необычного для себя психологического состояния. Он жаждет ощущений, аналогичных опьянению, ценит прозрение, возникающее в неистовстве. Подобно Блейку, он считает, что дорога невоздержания ведет во дворец мудрости. Если же столь необычные переживания выпадут на долю человека аполлонического типа, он отнесется к ним с недоверием, стараясь сделать все возможное, чтобы это с ним больше не повторилось. Ему ведом лишь один закон, одно измерение — в этом он подобен эллину. Он всегда придерживается срединного пути, остается в пределах известного, сохраняет контроль над деструктивным психологическим состоянием. По словам Ницше, даже в экзальтации танца он всегда остается самим собой и помнит свое гражданское имя.
Пуэбло Юго-Запада, — без сомнения, аполлонийцы; и от большинства других аборигенов Америки отличаются как раз последовательностью, придерживаясь аполлонических ценностей. В центре доминирующих дионисийских культур, на сравнительно небольшой территории они сохранили этос трезвости, недоверия к невоздержанности любого рода, который сводит к минимуму возможность каких-либо опасных экспериментов. Они исповедуют религию плодородия, но без оргий, культ танца, но без экстаза. Они отказались от пыток. Они не преследуют смертью за покушение на собственность. Они не делают и не покупают алкогольных напитков, подобно соседним племенам, и не пользуются никакими наркотическими средствами. Даже секс они лишили мистической опасности. Они не позволяют индивиду нарушать принятый социальный порядок. И всем этим они столь ярко контрастируют со своими соседями, что необходимо найти объяснение культурному постоянству пуэбло. Наиболее заметное отличие культуры пуэбло — неприятие мистического неистовства и транса. В целом в Северной Америке экстатический религиозный опыт служит краеугольным камнем религиозной структуры. Состояние экстаза можно достичь при помощи алкоголя или наркотиков — иногда его достигают самоистязанием или длительным постом, а некоторые доходят до такого состояния во время танца. Сначала рассмотрим состояние экстаза, вызванное опьянением или наркотиками. Для соседнего племени пима, принадлежащего к культуре примитивных народов Северной Мексики, опьянение является внешним отражением религии, символом экзальтации, в котором совмещается видение и прозрение. И теория, и практика экстаза находятся у пима в рамках дионисийского типа. «Меня опьянили и в уста мне вложили священные песни»,«он вдохнул в меня красный ликер», — так описывается шаманизм в их песнях. Наиболее торжественная церемония у них - выпивание «тизвина», забродившего сока плода гигантского кактуса. Церемония проводится с соблюдением всех религиозных формальностей, с ритуальными декламациями, но смысл ее сводится собственно к опьянению: необходимо достичь состояния повышенного возбуждения, и даже чрезмерная агрессивность в данной ситуации считается более уместной, чем вялость и апатия. В идеале они стремятся как можно дольше находиться в состоянии возбуждения и не впасть на конечной стадии в беспамятство. Этот ритуал - одна из разновидностей магии плодородия и здоровья, и он полностью соответствует дионисийскому характеру их культуры. На севере Мексики больше принято использовать в религиозных целях наркотические средства, а не опьяняющие напитки. Лофофора, или мескал, распространен с севера Мексики по долине Миссисипи до самой канадской границы и у многих племен стал причиной достаточно серьезных религиозных движений. Он вызывает состояние транса с сильными аффектами, часто — цветные галлюцинации, но без эротической экзальтации. Этот культ лучше всего описывают представители племени виннебаго3, которые верят в сверхъестественное происхождение лофофоры. «Это единственное соприкосновение с божественным за всю мою жизнь», «это лекарство священно, оно избавило меня от власти злых сил4. Подобные средства использовались повсеместно, когда требовалось вызвать состояние транса или сверхъестественных ощущений. Арапаго, употребляя эти средства, продлевали ночные церемонии до следующего дня5. Виннебаго едят лофофору в течение четырех дней и ночей, которые они проводят без сна.
Более сильно действующим средством является дурман. Индейцы племен серрано и кауилла рассказывали мне о том, что несколько мальчиков, выпив его настой, умерли; о том же говорили и у луисеньо6. Это средство в ходу у племен Южной Калифорнии и на севере, у йокутов; оно употребляется во время церемонии инициации мальчиков, достигших переходного возраста. У серрано мальчики, отведав этого напитка ночью, находятся весь следующий день и ночь в коматозном состоянии, обуреваемые видениями. А на следующий день они соревнуются в беге7. Сходным образом проходит инициация у луисеньо; при этом четыре ночи транса подряд считаются у них излишеством8. У диегуэньо юнцы проводят в состоянии полного отключения только одну ночь9 У мохаве принято пить дурман, чтобы обеспечить себе удачу в гадании; записано, что они проводят в бессознательном состоянии по четверо суток10, за это время во сне к ним якобы прибывает сила.
Ни одно из перечисленных выше опьяняющих или наркотических средств не получило распространения у пуэбло. Пима — наиболее близкие юго-западные соседи племени зуньи; у индейцев прерий, с которыми пуэбло соприкасаются на востоке, обычай употреблять лофофору играет довольно важную роль; а на западе пуэбло граничат с племенами Южной Калифорнии, имеющими с ними много общих культурных черт. Так что отсутствие определенных обычаев в культуре пуэбло нельзя объяснить культурной изоляцией, наличием между племенами непреодолимых барьеров. Нам также хорошо известно, что пуэбло живут бок о бок со своими соседями уже достаточно длительное время. И тем не менее они не переняли практики использования алкоголя и наркотических средств для достижения состояния транса или беспамятства даже в тех случаях, когда эти средства им хорошо известны. Мы осмеливаемся предположить, что дионисийский характер последствий их применения неприемлем для пуэбло и последние принимают их в свою культуру лишь тогда, когда полученный эффект не противоречит присущей им аполлонической трезвости. Ни теперь, ни раньше они сами не варили алкогольных напитков. И даже виски —этот бич индейских резерваций — не получило распространения на Юго-Западе. Когда в 1912 г. пьянство совратило молодое поколение зуньи, именно старики пуэбло стали наводить порядок и взяли ситуацию под контроль. Пьянство не является у них религиозным табу; причины его неприятия лежат глубже: оно чуждо самому их духу. Лофофору употребляют только в Таосе, - но это уже маргинальное явление по отношению к культуре пуэбло. Зуньи употребляют дурман так же, как это делалось в древней Мексике11, чтобы разоблачить вора, что подробно описано у миссис Стивенсон12. Советую прочитать ее отчет о том, как индейцы мохаве впадают в четырехдневный транс, опьяненные дурманом, — это классический пример того, как в аполлонической культуре используются дионисийские приемы. Индейцу зуньи, который должен принять это средство, жрец льет в рот небольшое его количество, после чего удаляется в другое помещение и там ждет, пока человек под воздействием дурмана не назовет имя преступника. При этом тот вовсе не должен впадать в коматозное состояние: он ходит по комнате и может даже заснуть. Часто утром он не может вспомнить, какое именно имя ему открылось. Далее требуется уничтожить следы применения наркотика; для этого человеку, подвергнувшемуся испытанию, сначала четыре раза подряд дают рвотное (считается, что в этом случае изрыгаются все остатки зелья), после чего его волосы промывают с соком юкки. Другие варианты применения дурмана у зуньи еще менее напоминают дионисийские методы: ночью жрецы зарывают в землю молитвенные палочки с какой-нибудь целью, например, «просить птиц, чтобы они пели к дождю», в таких случаях они сыплют в глаза, уши и рот каждого жреца немножко измельченных корней. В этой церемонии нет и намека на наркотический эффект этого средства.
Культ самоэкзальтации имеет в Северной Америке гораздо большее значение, чем применение наркотических и опьяняющих средств для достижения состояния транса. Самоэкзальтация у аборигенов практикуется повсеместно и считается основным источником религиозной силы. И хотя Юго-Запад входит в географические границы этого ареала, характерные черты транса, вызванного самоэкзальтацией, здесь не наблюдаются. Практика самоэкзальтации имеет в Северной Америке вполне определенные особенности: это состояние достигается в изоляции, и в результате испытавший его счастливчик якобы обретает божественный дух, который в течение всей жизни охраняет его от злых сил. Среди племен к западу от Скалистых гор транс рассматривается как знамение, доступное только людям определенного психологического склада; на большей части континента самоэкзальтацию вызывают уединением и постом, а в центральной части материка самоистязанием. Возникающие «видения», считающиеся источником сверхъестественной силы, означают не только некий потусторонний или дионисийский опыт, но и сами по себе являют модель, внутри которой этот опыт приобретает особую и вполне определенную ценность. В большинстве случаев именно такой особый потусторонний опыт представляется знаком божественного знамения. Отсутствие на Юго-Западе всего комплекса, связанного с видениями, — один из наиболее ярких случаев сопротивления культурному влиянию или культурной реинтерпретации, известных в Северной Америке. Формально необходимые элементы этого культа здесь присутствуют: выбор опасного места, близкие контакты с животными и птицами, пост, вера в особое знамение от потусторонних сил. Но все это не связано со стремлением вызвать у себя экстаз. Интерпретация совершенно иная. У пуэбло принято выходить ночью в особо опасное или заколдованное место и там прислушиваться к голосу; смысл не в том, чтобы самому преодолеть барьер и вступить в контакт с потусторонней силой, а в том, чтобы получить знак удачи или беды. Этот ритуал считается испытанием, вследствие которого подвергшийся ему человек бывает сильно напуган, и строжайшее табу запрещает ему оглядываться назад по дороге домой, даже если ему кажется, что его кто-то преследует. По внешним признакам здесь все напоминает распространенный у других племен аналогичный ритуал: в обоих случаях следует выходить и готовиться к тяжкому испытанию, большое значение придается темноте, одиночеству, животным. Но смысл и значение этих ритуалов совершенно разный. Аналогичным образом реинтерпретируется на Юго-Западе и пост — важнейшее средство достижения потусторонних видений. Он не используется для того, чтобы вызвать у себя ощущения, лежащие обыкновенно на подсознательном уровне: часто он необходим, чтобы очиститься перед церемонией. Мысль о том, что пост может быть связан с экзальтацией, невозможна у пуэбло. У них пост всегда требуется для ритуалов, связанных с уединением, танцами, состязаниями и пр., но он никогда не рассматривается как источник духовных сил, т.е. вдионисийской интерпретации. Таким образом, пост так же, как наркотические средства и видения, приспособлен здесь к аполлоническим нуждам. Истязания же на Юго-Западе почти полностью исключаются. Они важны только в церемониях инициации и в танцах некоторых исцеляющих обществ13 и в этих случаях никак не связаны с состоянием самозабвения. Любопытно, что пуэбло хорошо знакомы с практикой самоистязания в культуре индейцев прерий и мексиканских индейцев, обращенных европейцами в христианство. Восточные пуэбло живут в самом центре поселения новообращенных мексиканских индейцев в Санта Фе, и последние часто и без помех посещают их танцы и церемонии. В их ритуалах много общего: церемониальные дома, организация братств (или жреческих обществ у индейцев), вкапывание в землю крестов. Но только не самоистязание колючками кактусов и не распятие на Страстную пятницу: культ мучения не вошел в жизнь пуэбло вследствие контактов с обращенными мексиканцами или с индейцами прерий и Калифорнии. У каждого пуэбло на руке пять пальцев и отсутствуют шрамы на теле, за исключением тех случаев, когда кого-то пытают по подозрению в колдовстве.
И точно так же, как пуэбло не допускают транса, вызванного алкогольным или наркотическим опьянением или же общением с потусторонними силами, они никогда не доводят себя до экстаза во время танца. Пожалуй, нигде во всей Северной Америке танцы так не распространены, как у пуэбло Юго-Запада. Но им совершенно чужда практика использования танца для получения сверхъестественных ощущений. Танцы пуэбло не имеют ничего общего с неистовством медвежьего танца у нутка, с танцем людоедов у индейцев квакиутль, с танцем призраков или с мексиканским вихревым танцем. Танцы пуэбло сопровождаются монотонными повторяющимися движениями, и всегда, осмелюсь вновь процитировать Ницше, они остаются самими собой и помнят свое гражданское имя. Такая практика подкрепляется идеологическим соображением, что якобы повторяющиеся движения оказывают воздействие на силы, которые они хотят вызвать либо обуздать. Существуют несколько ярких примеров тому, как пуэбло, имея некоторые общие с соседями черты танца, лишили их специфического дионисийского характера. Самый очевидный — это, наверное, пример с танцем у алтаря. У индейцев кора Северной Мексики кульминацией вихревого танца является достижение экстаза танцором на земляном алтаре. В безумии танца алтарь разрушают и втаптывают в песок14. Эта деталь присутствует и у пуэбло. Особенно у хопи, где в кульминации танца разрушают наземные рисунки на алтаре. Но экстаза при этом нет: этот сюжет используется для воссоздания обычной у пуэбло танцевальной модели, в которой участвуют две «группы», поочередно выступающие с разных сторон, в кульминации танца они выходят одновременно. В танце змеи, например15, в первом кругу танцует Антилопа (танцор из Общества антилоп) вприсядку вокруг алтаря, потом отходит, а на его месте начинает танцевать Змея (танцор из Общества змей). Во втором круге Антилопа танцует перед посвященными, держа во рту виноградную ветвь, стелит ее на их колени, затем отходит; выходит Змея с живой гремучей змеей и повторяет движения Антилопы. В финальном круге Антилопа и Змея выходят вместе, танцуют на алтаре, все время на корточках, и разрушают наземный рисунок. То есть, как в танце Морриса, это просто формальное завершение.
Итак, очевидно, что экстаз неприемлем на Юго-Западе и что распространенные на других территориях способы его достижения реинтерпретируются или совсем отвергаются в местной культуре. Это имеет весьма значительные последствия: здесь практически отсутствует шаманизм. Везде в Северной Америке шаман — исполнитель религиозного культа, черпающий силу в подобного рода состоянии, играет первостепенную роль. Где авторитет религии держится только на ненормальности его сознания и психического состояния и высказанные им в таком состоянии указания выполняются и почитаются священными — там существующий механизм культурных изменений сводится лишь к косности человеческого ума. Это весьма существенное ограничение: никто еще не смог доказать, что культуры, функционирующие таким образом, в большей степени подвержены изменениям, чем культуры, чуждые подобной практике. При этом не следует закрывать глаза на тот факт, что в двух таких разных культурах проявлению индивидуальности отводится разное место: если в одном случае индивидуальная инициатива поощряется16, то в другом к ней относятся с недоверием — и именно это мы можем наблюдать на Юго-Западе. В тщательно разработанных религиозных ритуалах здесь не остается места спонтанным индивидуальным действиям; если кто-то на это осмелится, то такого преступника обвинят в колдовстве. В одной записанной мной сказке зуньи рассказывается о верховном жреце, который изготовил молитвенные палочки и вышел, чтобы их зарыть. Это была не та фаза Луны, когда членам целительных обществ следует зарывать молитвенные палочки, и люди говорили:«3ачем верховный жрец зарывает молитвенные палочки? Наверное, он колдует». И действительно, он хотел в целях личной мести вызвать землетрясение. Такое возможно в одном из наиболее интимных религиозных ритуалов зуньи (зарывание палочек), но в более формальных церемониях, таких, как отшельничество, танцы и т.д., это было бы немыслимо. Даже молитвы самого личного характера, те, что сопровождают разбрасывание зерен, следует произносить при восходе солнца, либо над телом мертвого животного, либо в определенный момент церемонии и т.д., точное время и сезон года всегда оговариваются. Ни у кого не должен возникать вопрос, почему в данный момент кто-то молится.
Таким образом, получается, что вместо шаманов с их разрушительным влиянием на жизнь общества и на установившиеся традиции на Юго-Западе существуют своего рода функционеры от религии, которые стали таковыми, либо заучив наизусть необходимые молитвы и заклинания, либо благодаря членству в обществах и культовых группах. Членство в обществах и культовых группах передается по наследству или каким-нибудь образом оплачивается17; ибо, хотя теоретически основанием для вступления в подобное общество является серьезная болезнь или несчастный случай, вроде укуса змеи, удара молнии и т.п., всегда есть и иные способы туда вступить, так что редкому человеку, который бы туда стремился и имел соответствующие средства, это не удалось. У зуньи главным основанием для вступления в жреческое общество является наследственное право, а в целительное общество — плата, но ни в коем случае не сверхъестественная сила, якобы вселившаяся в человека из-за озарения или прозрения. Врачеванием у зуньи занимаются только те, кто вследствие знания ритуалов и уплаты взносов достиг высших ступеней в целительных обществах и получил персональный фетиш — мили.
Поскольку индейцы Юго-Запада не приняли в свою культуру дионисийский экстаз и все, что с ним связано, не распространились среди них и оргии. Не вызывает сомнения, что идея плодородия присутствует в религиозной практике на Юго-Западе18, и оргии - так уж повелось у всех народов мира - автоматически ассоциируются с культом плодородия. Но на Юго-Западе культ плодородия вызывает совсем иные ассоциации. Полезно в этой связи обратиться к работе Геберлина, подробно описавшего соответствующий ритуал19. Он состоит в том, что мужчины несут барабан, а женщины — кольца, эти предметы играют роль символов мужского и женского начала и их бросают в ручей или на наземные рисунки; либо в том, что во время женского танца две переодетые в мужчин женщины стреляют из лука в связку кукурузных початков; либо в том, что женщины с кольцами из юкки в руках соревнуются в беге с мужчинами, несущими палки. В Перу, например, в аналогичных состязаниях мужчины бегут обнаженными и совокупляются с женщинами, которых им удается догнать20. Модель очевидна и распространена во многих странах мира, но не на Юго-Западе. У зуньи отмечены только три случая, которые допускают половую распущенность в ритуальных целях. Один из них — скрытые от посторонних глаз ритуалы общества тлевекве, которое, как считается, имеет власть над холодной погодой. Жрицы этого общества в течение ночи принимают любовников и от каждого получают бирюзу, которая в дальнейшем используется этим обществом для украшения целительных «связок». Но это исключительный случай у зуньи, и в настоящее время нет возможности адекватно изучить ритуалы этого общества. Два других случая — это лишь ослабление обычного в этом районе строгого контроля за поведением молодых: речь идет о случающихся совокуплениях во время ритуальной охоты на кроликов21 и в ночь «танца скальпов»; по поверью, дети, зачатые в эту ночь, отличаются выдающейся силой. Вот что по этому поводу пишет доктор Бунзель: «Эти ритуалы, во время которых девушки и юноши танцуют вместе ночью или выходят вместе по ночам, на руку влюбленным. Но беспорядочных половых сношений и оргий при этим никогда не возникает. Отношение к этому снисходительное - типа «ох, уж эти парни». Очевидно, что все это существенно отличается от обычных дионисийских оргий во имя плодородия.
У народов Америки оргии происходят не только в связи с плодородием и сексом. В районах, непосредственно примыкающих к Юго-Западу, распространены оргии во время сопровождающегося истязаниями танца Солнца (к востоку) и оргии в связи с окончанием траурных церемоний (к западу). Как я уже писала, на Юго-Западе истязания, оргиастического или иного характера, не играют сколь-либо заметной роли. Довольно жесткий характер носят траурные церемонии, но это объясняется страхом смерти, а не трансом отчаяния. Траур здесь являет собой комплекс тревоги; это совсем иное, нежели дикие сцены сжигания мертвых на костре, сложенном из чьих-то личных вещей и из клочков одежды, содранной со спин скорбящих, как это случается у мохаве22 в полном соответствии с распространенным в Калифорнии дионисийством, и не надрыв, как у майду, где скорбящих приходится силой удерживать, чтобы они не бросались в пламя костра23, или у помо, которые расхватывают части трупа и пожирают их24.
Лишь одна чрезвычайно распространенная в Америке дионисийская церемония утвердилась и на Юго-Западе - танец скальпов. Это танец победы индейцев прерий, или женский танец, центральное место в нем отводится женщинам, и основные его элементы — четыре круга, которые совершают танцующие вокруг поселения, воинственный головной убор, способы обращения со скальпом — на Юго-Западе такие же, как и в прериях. Наиболее развязные движения, свойственные варианту танца прерий, здесь опускаются, но одно ритуальное дионисийское действие присутствует: отмывание скальпа и кусание его зубами. Дело в том, что у народов зуньи сильно отвращение к трупам, и даже удерживание зубами змеи в змеином танце не вызывает у них такого ужаса, как удерживание зубами скальпа. Женщина, которая во время танца держит скальп зубами, - центральная фигура церемонии, и каждая девушка, как говорят, больше всего на свете боится, что ее заставят выступить в этой роли. Итак, мы видим, что экстаз и оргия, достаточно широко распространенные в Америке в целом, чужды Юго-Западу. Попробую теперь привести убедительные примеры того, как в культуре Юго-Запада проявляются наиболее яркие аполлонические черты. В Северной Америке большое значение придается ритуальному поеданию нечистот, именно в этом усматривают слабо выраженный каннибализм поведения народов Северо-Западного побережья. Слабо выраженный - потому, что они не делают акцента, как это принято у каннибалов, на торжественности момента и не считают, что этим оказывают честь умершим или, наоборот, поносят их. Каннибальский танец у квакиутль, например, - типично дионисийский ритуал25. И дело не только в том, что он задуман как драматизация состояния экстаза, высшую точку которого главное действующее лицо должно пройти в танце, до возврата в нормальное состояние; но каждая деталь ритуала исполнена таким образом, я вовсе не хочу сказать, что преднамеренно, — чтобы подчеркивать противоестественный характер этого акта. Этой церемонии предшествует длительный пост и уединение: сам танец представляет собой экстатическую погоню в уродливо согнутой позе за специально подготовленным трупом, который преподносит женщина. Кульминация этого противоестественного акта предполагает ритуальное кусание трупа, после чего следует рвота и снова пост и длительное уединение.
Психологическим эквивалентом этого каннибальского ритуала у квакиутль на Юго-Западе является пожирание нечистот, но картина этой церемонии совершенно иная. Соответствующий ритуал не должен вселять ужас и являет собой драматизацию психологической кульминации напряжения и расслабления. Капитан Бурк подробно описал праздник у ньюекве, на который он вместе с Кашингом попал и во время которого члены общества поглощали галлоновые бутыли с мочой. Эта картина так же отличалась от ритуала квакиутль, как буффонада отличается от профессионального цирка. Атмосфера была полна грубоватой веселости, каждый пытался превзойти других. «Танцоры поглощали огромные сосуды, причмокивали, и под шумное одобрение зрителей показывали, что это очень, очень вкусно. Клоуны соревновались, пытаясь превзойти друг друга в изображении отвратительных сцен»26.
Сказанное выше относится не только к ритуалу пожирания нечистот, но и к клоунаде на Юго-Западе в целом. Я исхожу из того, что дионисийским по духу является такое использование клоунады, которая дает комическую развязку в священном ритуале, и эта разрядка имеет столь же глубокий смысл, как и предшествовавшее ей напряжение, и только оттеняет его. Именно таким образом использовалась клоунада во время ритуалов у древних ацтеков. Мне ни разу не приходилось наблюдать у пуэбло клоунаду, хотя бы отдаленно выполняющую эту функцию, и ни разу мне не встречалось подобное описание. Как нам хорошо известно по опыту нашей цивилизации, клоунада может и не носить дионисийского характера. Именно так это происходит на Юго-Западе, где буффонада подчас имеет дополнительный оттенок социальной сатиры и высмеивает лиц, наделенных какими-либо полномочиями, церковь, представителей индейских обществ и т.д. Часто она заменяет собой шутливые отношения, отсутствующие в реальной'жизни, и даже может выносить на посмешище личные отношения. Еще одной яркой аполлонической чертой культуры Юго-Запада является интерпретация колдовской силы. Народы ЮгоЗапада переняли весь комплекс европейской культуры, связанный с колдовством, в том числе помело и животное обличье ведьм, но включили его в присущее им миропонимание. Наиболее четко это показано, на мой взгляд, в работе доктора Парсонс, посвященной племени ислета. Для ислета разница между добрым и злым колдовством заключается в том, что добрая волшебная сила покидает вас после того, как вы ее использовали, а от злой нельзя избавиться, она сопровождает вас всю жизнь. И их практика полностью соответствует этой точке зрения. После каждой религиозной инвеституры участники ритуала лишаются сакральности; нежелательная мистическая сила отбрасывается в сторону. Что могло бы более убедительно доказать неприятие мистицизма в этой культуре? Даже добрая сверхъестественная сила вызывает здесь ужас. Еще одной специфически аполлонической чертой является, на мой взгляд, неприятие самоубийства. У племени пима есть много сказаний о том, как мужчины убивали себя ради женщин; индейцы прерий включили модель самоубийства в некоторые свои церемонии; по сути клятва, которую они приносят при получении пояса, включает в себя обещание совершить самоубийство для повышения своего статуса. У пуэбло же на этот счет существуют лишь самые нелепые истории27, доказывающие очевидное непонимание ими идеи суицида. Я неоднократно пыталась втолковать идею самоубийства разным представителям племени пуэбло, объясняла ее сама и приводила различные примеры. Но они не понимали, что я имела в виду. И все же в их сказаниях можно найти эквивалент. В эпосе зуньи есть целая серия рассказов28 о мужчине или женщине, обманутых соответственно женой или мужем, или о жрецах, чей народ отказался им повиноваться; герой посылает гонцов, чаще всего птиц, к апачам и просят их прийти и сразиться с пуэбло. На четвертый день - а на ЮгоЗападе ничто не происходит ранее четвертого дня — герой совершает ритуальное омовение, надевает лучшие одежды и выходит навстречу врагу, чтобы стать его первой жертвой. Когда же я расспрашивала их о самоубийстве, никто не привел мне подобное сказание, хотя сказания этой серии чрезвычайно распространены, по всей вероятности, они просто не рассматривают их под этим углом зрения. Они видят здесь лишь ритуальную месть, а дионисийский жест прощания с собственной жизнью остается за кадром.
Культурная ситуация на Юго-Западе с трудом поддается объяснению. При отсутствии естественных барьеров между этой культурой и культурами соседних народов она являет собой наиболее поразительный пример культурного разлома во всей Америке. Все наши попытки вычленить влияния других культур на культуру Юго-Запада привели лишь к нахождению огромного числа заимствованных фрагментов и деталей, но ключ, который открыл бы нам секрет этой модели, так и не найден. Исходя из концепции, изложенной в данной статье, ключ следует искать в базовом психологическом типе, сформировавшемся в культуре этого региона на протяжении столетий, который переиначивает на свой лад заимствованные в соседних культурах элементы и для выражения своих собственных ценностей создает уникальную культурную модель. Вычленение психологического типа необходимо не только для того, чтобы описать эту культуру; без этого невозможно понять культурную динамику всего региона. Ибо в формировании рассматриваемой культуры главную роль сыграли типичные аполлонические ценности, они отвергли то, что им противно, видоизменили принятое и породили формальности и хитросплетения организации, в которых находит успокоение аполлонический дух. Перевод Е. М. Лазаревой Лесли А. Уайт. Государство-Церковь: его формы и функции
Понятие «государство-церковь». Гражданское общество включает в себя, с одной стороны, ряд структурных элементов и специализированных функций и особый механизм координации, интеграции и контроля — с другой. Этот механизм должен иметь название, и мы решили обозначить его как «государство-церковь», ибо в нем присутствуют и секулярногражданский, и культовый аспекты. Не желая вводить новое обозначение, мы обратились к общеупотребительным, наиболее приемлемым из которых представляется именно это. Итак, обе составляющие нашего термина — и «государство», и «церковь» — описывают скорее различные аспекты этого координационно-интеграционного механизма, нежели автономные сущности. Нечто похожее было и в истории теоретической физики. Долгое время все думали, что время и пространство — взаимонезависимые сущности. С появлением теории относительности в них увидели не сущности, а разные аспекты того, для чего не нашлось (да и теперь не находится) лучшего обозначения, чем «пространство — время». Столь же долго считали взаимонезависимыми сущностями и то, что обычно называлось «государством» и «церковью». Однако с развитием культурологической теории выяснилось, что то и другое — всего лишь различные стороны некоего единства, которое удобнее определить как «государство-церковь». Это единство, т.е. особый координационно-интеграционный механизм в одних случаях рассматривается нами в гражданско-политическом и военном аспектах, в другом — в «церковно-клерикальном» и теологическом1 .
В структурном отношении государство и «церковь» могут быть едины — как это было во многих культурах бронзового века, или совершенно раздельны — как в современных США; могут и в разной степени дублировать друг друга. Первоначально же, т.е. с установлением гражданского общества, «церковь» и государство, как тонко заметил много лет назад Герберт Спенсер, составляли одно целое2.
«В Африке, — говорит Радклиф-Браун, — зачастую очень трудно, даже в теории, разделить политические и ритуальные (или религиозные) функции. Поэтому о некоторых африканских обществах можно сказать, что монарх там — глава исполнительной власти и законодатель, верховный судья, военачальник и первосвященник (т.е. главный совершитель ритуала), а возможно, и главный капиталист племени. Но было бы ошибкой представлять это сочетанием разных и никак не связанных функций. Все это — единое служение, в котором монарх, со всеми его обязанностями и действиями, являет нечто нераздельное»3.
У кересан пуэбло касик возглавляет политическую систему — сакральную и вместе с тем секулярную, т.е. выступает и как первосвященник, и как вождь. У натчезов побережья Мексиканского залива глава общественно-политической организации — это монарх и божество в одном лице. В Мексике ко времени Кортеса правителей отличали от первосвященников, но не сомневались в их божественном происхождении. В древнем Перу глава государства и глава культа были близкими родственниками — братьями или дядей и племянником, причем первого называли потомком солнечного божества. Египетский фараон во все времена считался (по крайней мере, в теории) богом, первосвященником и царем. На практике же ему приходилось делегировать свои культовые полномочия жрецам, которые приобрели вследствие этого такую самостоятельность, что выделились в особую культовую структуру, отличную от государственной. В культурах городов-государств Двуречья «жреческие и секулярно-властные функции, несомненно, совмещались в одном лице»4. В древнем Шумере «культ и государство связаны так тесно, что политическая власть приобрела теократический характер, действуя и как религиозная, и как светская»5. Цари Ассирии, изначально бывшие и первосвященниками, «сохраняли за собой сакральные функции во все периоды истории ассирийской державы»6. «Церковь» и государство были едины в Индии7. Царей-первосвященников знала и Древняя Греция эпохи железа. Многие правящие роды языческой Скандинавии вели свое происхождение от богов северного пантеона. К божественным предкам и по сей день возводят родословную микадо японцы. Юлий Цезарь, будучи фактически императором, носил также титул Pontifex Maximus (Великий понтифик); главой государственного культа считался и Октавиан Август.
В наши дни государственная сторона интеграционно-контрольного механизма гражданского общества проявляется куда заметнее и, пожалуй, интенсивнее, чем культовая. Но были в истории и времена безусловного преобладания последней (например, европейское средневековье). Многие, впрочем, склонны считать «церковь» лишь «религиозным институтом»: так, раскрыв «Энциклопедию социальных наук» на слово «Церковь», мы обнаружим там отсылку на «Религиозные институты». Рассмотренная по отношению к индивидуальной человеческой душе, «церковь» — и вправду религиозный институт. Но в контексте социокультурных систем ее следовало бы назвать скорее «политическим институтом». В некоторых гражданских обществах нет институционального священства или особой церковной структуры, и это обстоятельство также может несколько затушевать роль культового компонента «церкви-государства». Нужно, однако, помнить, что мы обозначаем этим термином не разные сущности, а составные части единого механизма, скрепляющего, регулирующего и контролирующего гражданское общество в целом. Мы уже отметили смешение секулярного и религиозного начал в некоторых системах, но было бы полезно проследить их взаимоотношение на примере двух великих незападных культур — исламского мира и Китая. «Государство-церковь» исламского мира. Ислам не знает традиционного священства, и хотя в исламском мире есть люди, посвятившие себя изучению богословия, это ученые, но не священники. Богослужение в мечетях совершают миряне. Никто не может навлечь на других божественную кару или гарантировать им божественную милость и спасение. Но это не значит, что институционным средствам, которые объединяют, регулируют и контролируют исламское общество, недостает религиозных элементов. Напротив, они весьма многочисленны и сильны. Культ и государство соединены в лице халифа. Аллах создал «служение власти и требует подчинения всем ее велениям, если они не противоречат мусульманскому закону»8. «Исторически халифы — преемники Мухаммеда в управлении всем государством магометан»9; они — «наместники пророка». С точки зрения ислама, есть лишь одно действующее право — религиозный закон, завещанный пророком, и в этом смысле юриспруденция по сути дела — лишь ответвление теологии. Главная обязанность халифа — проведение священного закона в жизнь. Халиф «был религиозным главой мусульман, — писал Барнс, — а халифат — теократией в такой степени, какая редко встречается при всех других типах правления»10. Йозеф Шахт охарактеризовал структуру мусульманского общества следующим образом: «Государственный строй и вся цивилизация буквально пронизаны исламом, наложившим на них унифицирующий религиозный отпечаток... Ислам оказался комбинацией религии с идеалом государственного устройства и идеалом цивилизации»11.
Итак, мы видим, что религиозные элементы в исламе, несмотря на отсутствие традиционного священства или церковной иерархии, играют весьма действенную роль в интеграционных и регулятивных процессах его социокультурной системы. Государство в самом реальном смысле выступает здесь и как «церковь». «Государство» и «церковь» в китайской культуре. Как и исламский мир, Китай не имел традиционного священства. Однако религиозные элементы выполняли в его социокультурной системе столь же важные интегрирующую, регулятивную и контролирующую функции. Согласно древнекитайской государственной доктрине, власть императора имела небесное происхождение. Конфуцианство предписывало подданным беспрекословное повиновение монарху. В Ханьскую эпоху Конфуций «был обожествлен и стал предметом поклонения, ученики же его получили долю в жертвоприношениях, связанных с культом их наставника»12. В 140 г. до н. э. император Хань У-ди сделал принципы конфуцианства основой государственной политики. В Ханьский же период начались и жертвоприношения при гробнице Конфуция. Около 37 г. н. э. культ его стал государственным. В 59 г. Хань Мин-ди повелел совершать жертвоприношения в честь Конфуция в казенных школах. Влияние Конфуция проявлялось и иным образом — через ученых, имевших вес не только в правящих кругах, но и в религиозной сфере. «Ханьские ученые, — замечает Тёрнер, — выделились в своего рода жреческий класс, и во многих отношениях империя Хань заслужила название «жреческой»13. При танских правителях «во всех городах империи сооружались храмы в честь Конфуция. Один император — даосист — хотел учредить для Конфуция титул «ди», т.е. «бог-император», но замысел этот потерпел неудачу. В более поздние времена императоры Маньчжурской династии покровительствовали конфуцианцам и сами пользовались их поддержкой. Даже в период Китайской республики (1911-1927) делались попытки восстановить конфуцианство в качестве государственной религии14.
Таким образом, в китайской культуре, как и в исламе, несмотря на отсутствие организованного священства и официальной «церкви» (в том политическом смысле, в каком мы говорим об этом институте применительно к христианской Европе), роль религиозного и «церковного» компонентов интеграционно-контрольного механизма представляется весьма значительной. Нетрудно показать, что интеграционно-контрольный механизм западнохристианской культуры имеет те же два компонента. Решения первых церковных Соборов имели «силу закона. Здесь Церковь проявила себя и как государственный институт»15 . По мнению Флика, «средневековая Церковь была в значительной мере организованным государством»16.
Хейес же считает, что папа римский, среди прочих политических полномочий, обладал властью «верховного законодателя, верховного судьи и верховного администратора»17. Но рассмотрение «государства-церкви» Западной Европы не является целью настоящей работы.
Классовая структура гражданского общества. В гражданском обществе было два основных класса — господ и подданных и каждый из них, в свою очередь, делился на подклассы. Класс господ состоял из правителей, служителей культа и военных. Очень часто правитель, как мы видели, был и первосвященником. В некоторых государствах имелся слой знати — преимущественно земельной аристократии, нередко державшей в своих руках власть над целыми областями государства. Развитие и дифференциация ремесел, обслуживающих военное дело (выплавка бронзы, позднее — железа), появление новых видов вооружения и техники боя (использование конницы и колесниц) создавали условия для выделения военной знати. В регионах с преобладанием торгово-коммерческого, а не феодального типа экономики к власти приходит класс купечества. Так, независимый предприниматель — видная фигура в древневавилонском обществе эпохи Хаммурапи. Торговая олигархия достигла здесь влияния, позволявшего ей соперничать с жрецами и военной верхушкой. Класс подданных составляли те, кто создавал общественное богатство трудом своих рук. Их можно разделить, в первую очередь, на городских и сельских тружеников. Первые были ремесленниками разных специальностей, последние занимались сельским хозяйством. В некоторых обществах класс сельских тружеников состоял из свободных крестьян, в остальных — из крепостных и рабов. Там, где существовало свободное крестьянство, оно облагалось податью, в качестве которой забирались почти все продукты его труда, за исключением прожиточного минимума. Крепостные прикреплялись к земле, рабы рассматривались как простые орудия производства. Древнейшие специалисты-ремесленники трудились при храмовых мастерских и при этом могли быть рабами или крепостными. В культурах, где преобладала экономика коммерческого типа, рос городской класс рабочих, занятый производством товаров для расширяющейся торговли. Во многих случаях они объединялись в братства или ассоциации под наблюдением царских уполномоченных. Первоначально труд ремесленников оплачивался, как правило, натурой — т.е. продовольствием и предметами, предназначенными исключительно для непосредственного потребления. С эпохи железа получила распространение денежная форма оплаты. Ранние формы рабства, по-видимому, также связаны с храмовой организацией, позднейшее же его развитие — как с городской промышленностью, так и с аграрной сферой. Существовали разные категории рабов: 1) домашние рабы (или домочадцы); 2)ремесленники, прикрепленные к храмам и занятые при дворах царей или знати; 3)рабы, объединяемые в большие группы и занятые на общественных работах — строительстве пирамид, каналов, храмов и т. п.; 4)сельскохозяйственные рабочие. Древнейшим источником рабства были войны и завоевания, долго сохранявшие это значение и впоследствии. Позднее развивается работорговля, важным источником которой служил разбой. Захват и продажа пленных в чужие края стали привычным занятием кочевых семитских племен, клиентами которых были богатые вавилонские купцы, регулярно скупавшие большие партии невольников. С развитием экономики коммерческого типа и особенно ростовщичества слой рабов пополняется детьми, которых продают за долги собственные родители18.
Итак, для всех гражданских обществ типично глубокое и фундаментальное расслоение. С одной стороны, налицо правящий класс — цари, знать, священство и военные, с другой — сельские и городские рабочие. Среди последних могли быть как свободные, так и крепостные, но во всех случаях это был класс производителей благ, отдающий все излишки своего труда (кроме самого необходимого) в виде налогов, барщины (подневольной работы) или вследствие простого отчуждения. Имущественные основы гражданского общества . Подробное рассмотрение этого вопроса намечено нами в главе «Экономическая структура высоких культур». Здесь же отметим только, что классовая структура гражданского общества есть лишь политическая проекция экономических институтов. Богатство, дающее политическую власть, является фактической монополией господствующего, или правящего класса. Оно находится либо в прямом владении последнего, либо присваивается им в виде налогов, трудовой повинности, прерогатив и т.п. Правящий класс может владеть как самими производителями благ, так и материальными ресурсами и технологическими средствами производства. Класс подданных, или рабочих, производит все блага, но сохраняет за собой лишь малую их часть, служащую его прокормлению. В этой связи заслуживают внимания примеры политической организации нации по имущественному признаку. Так, законы Солона (ок. 594 г. до н. э.) разделяли граждан древней Аттики на четыре разряда на основе имущественного ценза, которым определялись и их общественные обязанности. Территориальная организация гражданского общества. Сэр Генри Мэйн выделяет в истории человеческого общества две громадные эпохи: примитивное общество, основанное на родственных узах, и современное, зиждущееся на территориальной организации. «История политических идей, — говорит он, — начинается с предположения, что кровное родство — единственно возможная основа политического функционирования общины [вариант: общины в ее политических функциях]». Торжество принципа территориальной общности было, по его мнению, революционным новшеством. «Первобытное сознание и помыслить не могло о группе индивидов, сообща осуществляющих свои политические права лишь на том основании, что им выпало жить в одинаковых топографических границах»19.
Те же, по существу, взгляды высказывал и Морган, подразделявший все человеческие общества на два типа — societas и civitas. Societas (собственно «общество») составляют те социокультурные системы, которые принято называть «первобытными», или родоплеменными. Эти общества, писал Морган, «утверждались на основе индивида и на чисто личностных отношениях». Система же, названная им civitas, или государство, основана «на территории и на собственности»20. На наш взгляд, это подразделение сохраняет свое научное значение и сегодня, несмотря на критику, которой оно подвергалось21 . Лоуи принимает Мэйново и Морганово противопоставление кровного родства и территориальной общности как принципов территориальной организации, но отрицает определяющее значение этих категорий для того и другого типов общества. По его мнению, территориальный фактор играет существенную роль в политической организации первобытных народов, и следы государственного развития обнаруживаются в «самые ранние времена22 . Лоуи, впрочем, не указал ни одного общества, основанного на кровнородственных связях и вместе с тем готового терпеть членов, «сообща осуществляющих свои политические права лишь на том основании, что им выпало жить в одинаковых топографических границах»23. И мы уже обращали внимание читателя на тот факт, что постоянно проживавшие в Афинах чужеземцы лишены были всел политических прав как не принадлежавшие к греческим кровно-родственным группам (филам). Ancient Law, 1861( Ch.5: «Ancient Law»). Не признавая территориальную общность принципом политической организации для обществ, основанных на кровном родстве, мы все же надеемся и здесь обнаружить зачатки территориально-политического устройства. Сводя все множество данных к одному тезису, скажем, что при переходе от племенного общества к гражданскому локализованные кровнородственные группы становятся территориальными единицами политической системы. Локализованные кланы — не редкость во многих первобытных обществах. И даже в племенных поселках, где все кланы живут одной общиной, между ними имеются пространственные разграничения. Люди, так или иначе, обитают в пространстве; отсюда и тесная во многих случаях связь кровнородственного и территориального принципов их группировки. С ростом племен и кланов, узы родства ослабевают и возникает тенденция к распаду кровнородственной организации, теряющей свое прежнее значение. Вместе с тем возрастает роль территориального фактора. К этому времени вырабатывается особый координационный, интеграционный и административный механизм, и кровное родство как основа политической организации вытесняется отношениями собственности, а место кровнородственной группы как принципа политической организации занимает территориальная единица. Так, народ ганда, или уганда делился примерно на 30 экзогамных патрилинейных кланов. Поскольку численность его достигала без малого миллиона, в большинстве кланов было по нескольку тысяч членов, что делало их фактически неуправляемыми и не имеющими активного влияния на общественную жизнь. Вот почему кланы разделялись на субкланы, каждый со своей территорией и своим вождем. Но как целое, народ ганда, находившийся под управлением короля (который имел — по крайней мере, в теории — абсолютную власть), делился на десять округов во главе с королевскими уполномоченными — вождями, а каждый округ, в свою очередь,— на более мелкие, под властью вождей различных степеней, также назначавшихся королем. Кланы, точнее субкланы, сохраняли многие черты кровнородственной организации, по-прежнему игравшей важную роль в повседневной жизни общинников. Однако в масштабе всего племени здесь вполне отчетливо выступает территориальный принцип. В политической организации некоторых культур встречаются территориальные единицы, которые, судя по многим признакам, были когда-то кровнородственными группами. У ацтеков таким примером могут служить calpulli. Есть свидетельства, что первоначально они представляли собой экзогамные патрилинейные кланы, но ко времени испанского завоевания «локализовались в отдельные округа ... каждый со своим храмом и культом, домом совета и должностными лицами...»24. Двенадцать calpulli были составными частями четырех больших областей, на которые делилась территория Мексики для удобства управления. Подобным образом и aylli империи инков явно был экзогамной матрилинейной кровнородственной группой, ставшей затем унифицированной единицей, которая объединяла 100 мужчин — глав семьи. «Племя» насчитывало 10 тыс. таких членов, а четыре «племени» составляли «провинцию». Провинции империи составляли четыре «области» во главе с вице-королями. Так кровнородственная организация трансформировалась в территориально-организованную политическую систему25.
По мере эволюции политической организации Древнего Египта кланы трансформировались в территориальные группировки под названием номы. На основании анализа источников к такому выводу пришел и Тёрнер: «С развитием номов как территориально-административных округов...племенную организацию заменило территориальное управление»26. В древней Аттике четыре филы (племени) образовали ок. 700 г. до н. э. единую политическую структуру (ок. 700 до н. э.). Население делилось по имущественному признаку на четыре разряда. Для мобилизационных нужд и содержания сухопутных и морских сил были учреждены 48 округов (навкрарий), по 12 на каждую из четырех фил. Последовавшие примерно два века спустя реформы Клисфена ускорили переход от кровнородственной к территориальной организации. Упразднив четыре старые ионийские филы, Клисфен заменил их десятью новыми, имевшими совершенно искусственное происхождение. Принадлежность к ним определялась проживанием в том или ином деме — районе Аттики или самих Афин.
Согласно «Афинской политии» Аристотеля, Аттика разделялась на три географических региона: город с пригородом, внутренняя часть и приморье. Каждый из них насчитывал десять триттий. Фила состояла из трех триттий, каждая из которых располагалась на территории всех трех регионов. До Клисфеновых реформ переселявшиеся в Аттику купцы и ремесленники, как чуждые туземной кровнородственной организации, не имели политических прав. Со времен Клисфена права афинского гражданства распространяются и на них. Этот пример, как и многие другие, показывает, что кровнородственная организация постепенно уступает место территориальной. Территориальная организация современных наций проявляется в таких структурных единицах, как штаты, графства, районы, избирательные участки и т. п. Политические формы: монархия, феодализм, демократия. Политические системы гражданского общества имеют множество разновидностей, которые тем не менее можно в общих чертах классифицировать как монархию, феодализм и демократию, или парламентские формы. Для монархии, наиболее известной и сравнительно простой для изучения формы, типична верховная роль правителя в политической организации государства. Такой правитель может исполнять сакральные функции и быть главой вооруженных сил. Его власть либо фактически не ограничена, либо зависит от определений совета аристократии или парламента. Характерной особенностью монархической формы является централизация власти. Феодальную форму, напротив, отличает децентрализация. Монарх не устраняется, но власть его либо весьма ограничена, либо номинальна. Для феодализма характерна видная роль местной, территориальной знати, которая нередко является и военной аристократией. Формально состоя под властью государя или совершенно независимо от него, на основе собственного права, она управляет своими родовыми владениями — порой очень обширными. Великие культуры бронзового века не дают нам ни одного примера демократической, или парламентской формы правления. Небогат такими примерами и железный век. В своем законченном виде эта форма составляет существенную особенность западной культуры нашего времени. И все же история оставила несколько примеров демократического (республиканского) гражданского устройства в культурах древней Греции и Рима. Обратимся к греческому образцу. Начало Афинской демократии положили законы Солона (ок. 594 до н. э.). В соответствии с ними, граждане разделялись по имущественному признаку на четыре разряда, причем политические права — участие в народном собрании, заседаниях суда и выборах должностных лиц — распространялись и на представителей низших имущественных категорий. Тем не менее главные должности в управлении, суде и в сфере общественного культа были доступны лишь наиболее состоятельным гражданам. За правлением тирана Писистрата и двух его сыновей последовала новая реформа, осуществленная Клис- феном (ок. 502 до н. э.). Государство получило территориальную организацию, в основу которой были положены районы (более 100), названные демами. Каждый афинский гражданин стал членом дема и пользовался вытекающими из этого членства политическими правами. Управление осуществлял Совет Пятисот, члены которого отбирались из числа граждан, избранных по демам. Членом Совета мог стать любой гражданин. Было и народное собрание, в котором участвовали «все граждане, старше двадцати лет» и которое «регулярно собиралось десять раз в году»27. По законам Клисфена, Афины управлялись выборными должностными лицами. Доступ к гражданским должностям не зависел от имущественного ценза, а со времен Перикла магистраты стали получать жалованье, что позволило участвовать в управлении и бедным гражданам. Народное собрание могло требовать отчета у должностных лиц, подозреваемых в измене, нечестии, сокрытии доходов, а при наличии бесспорных улик — карать виновных (наложением штрафа, изгнанием или смертной казнью).
Афинская демократия не знала на практике полного равенства всех граждан. По словам Тёрнера, хотя «развитие демократии и дало власть беднейшим гражданам, главными должностными лицами государства были почти исключительно представители знати и семей богатых землевладельцев28. Кроме того, политическими правами пользовались лишь граждане, т.е. приблизительно 55 % населения. Остальную массу составляли рабы (36%) и метеки (чужестранцы, ок.9%). Метеки не могли участвовать в голосовании, избираться на общественные должности и быть служителями культа. Они не могли также владеть землей или просить государственного вспоможения в случае острой нужды. Даже дети их считались незаконнорожденными. Тем не менее с метека взимались те же налоги, что и с гражданина, а сверх того — добавочная подать, неуплата которой превращала его в раба.
Функция «государства-церкви». Функция «государства-церкви» состоит в поддержании целостности той социокультурной системы, частью которой оно является. Это подразумевает, как мы видели, координацию и контролирование частей системы, а также ее регуляцию в целом. Целостность гражданской общественной системы подвергается угрозе с двух сторон — извне и изнутри. Чтобы сохранить свое тождество и целостность, социокультурная система должна защищать себя от внешних врагов. Порой, однако, лучшей защитой — как в международной дипломатии, так и на полях сражений — является наступление. Отсюда следует, что «государство-церковь» должно время от времени мобилизовывать ресурсы — и людские, и материальные — своей социокультурной системы и использовать их в военных усилиях нападения и защиты, т.е. в целях войны. С другой стороны, ему необходимо считаться с угрозой изнутри. Все гражданские общества состоят из классов с противоборствующими интересами. В каждом конкретном случае налицо дихотомия правящего меньшинства, обладающего фактической монополией на богатство или политическую власть, или на то и другое, и большинства населения, удерживаемого в той или иной форме зависимости — экономической или политической, или в обеих вместе. Кроме того, во многих обществах наблюдается соперничество в высших слоях за политическое господство. Борьба между господствующим и подчиненным классами — хроническое явление в гражданском обществе. Низшие классы — рабы, крепостные, промышленный пролетариат — периодически пытаются улучшить свою участь путем восстаний и бунта. Для сохранения социальной системы от насильственного разрушения и последующего погружения в анархию между классами необходимо поддерживать отношения подчинения и соподчинения — иными словами, держать подчиненный класс в условиях зависимости и эксплуатации. И дело «государства-церкви» — следить за этим. Порабощение масс и взаимоотношения господствующего и подчиненного классов наглядно изображены Тёрнером: «В альянсе жреческой касты и класса воинов [светского орудия «государства-церкви». — Прим. Л. Уайта] слились воедино религиозный долг, право и сила. Первоначальное наивноземледельческое отношение к миру духов преобразилось в раболепство перед земными властями. С порабощением масс возвысились и возымели особый вес жреческое и военное сословия. Представители их смотрели на труд как на низкое занятие, а роскошную жизнь, которую обеспечивала им эксплуатация масс, оправдывали своим умственным и нравственным превосходством. Подобострастие людей низших классов принимали они с оскорбительной снисходительностью, заявляя, что массы не заслуживают иной участи, чем работать на тех, кто лучше их. Сопротивление масс подавлялось со всей жестокостью, которая, упрочивая их господство, еще больше озлобляла угнетенных. Городские культуры приучили и власть имущих, и безвластное большинство в борьбе за политические цели обращаться к насилию»29.
Кроме защиты целостности социокультурной системы от внешних и внутренних врагов «государство-церковь» имело и другие функции внутренней организации, регуляции и контроля. Они связаны с необычайно важным процессом передачи культуры уходящего поколения его преемникам, т.е. с обучением, с межличностными отношениями в браке и семье, с преступлением и наказанием, с имущественными отношениями, здравоохранением и благосостоянием общества, средствами коммуникации и т.д. Итак, рассмотрим эти функции «государства-церкви» в их специфических и конкретных проявлениях — с точки зрения сперва государства, затем — «церкви». Государство Война. Все государства имеют армии (а некоторые и флот) для ведения наступательных и оборонительных войн с соседями. В этом отношении все они одинаковы: различны лишь формы, в которых это осуществляется, и здесь можно привести несколько характерных примеров. По-видимому, наиболее распространенными методами комплектования армии были рекрутский набор и всеобщая воинская повинность — такова практика и древних, и современных обществ. Имели большое распространение и наемные войска. В некоторых случаях глава государства был одновременно верховным военачальником и возглавлял или сопровождал армию на театре военных действий. Так, известно, что многие египетские фараоны сами шли во главе войска. Со временем, однако, оформляется класс профессиональных военных, к которым и переходит реальное руководство военными действиями. Первое регулярное войско учредил, скорее всего, аккадский царь Саргон (3-е тыс. до н.э.). О существовании особого воинского сословия в древнем Вавилоне говорят законы Хаммурапи. Отдельные государства содержали шпионов-«соглядатаев» для армии, а в правительственных целях — военную разведку. У ацтеков купцы нередко выполняли шпионские функции среди племен, с которыми торговали. Мобилизация как материальных, так и людских ресурсов для воинских нужд осуществлялась государством. Мы уже говорили вкратце о последствиях войн. Часть населения побежденной страны зачастую обращалась победителями в рабов (тот же Саргон Аккадский, например, «ввел практику поголовного порабощения населения покоренных городов»30. Практиковалась аннексия завоеванных территорий; при этом прежнее население могло остаться на них как крепостные и вассалы. Победители в разной степени и различными способами присваивали имущество побежденных: прямым грабежом, в виде трофеев, контрибуций или податей.
Приобретенные таким образом богатства обычно распределялись внутри высшего класса народа-победителя: членов царствующего дома и правящей верхушки, жреческого сословия и военной элиты. Войны способствовали социальному расслоению и даже ускоряли его. Побежденные народы порабощались, широкие массы народа-победителя еще больше подчинялись абсолютной власти правителя (что было залогом успешных военных действий), правящий же класс укреплял свое экономическое и политическое могущество. Классовые столкновения. Участь зависимых классов весьма часто была тяжелой, а лишения и тяжелый труд, сопровождавшиеся, как правило, грубым и жестоким обращением, вызывали среди них острые вспышки недовольства. Крупное народное восстание произошло в Египте (согласно Морету и Тёрнеру, в 2200 г. до н.э.)31 . Другое восстание относится ко времени Двенадцатой династии. По словам Тернера, «причиной обоих восстаний была неспособность правящего слоя в должной мере обеспечить массы продовольствием; оба выступления сопровождались беспорядками, убийствами и грабежами»32. Иранские крестьяне, поднявшиеся против зороастрийского духовенства и знати в движении маздакидов (ок. 500 г. н.э.), захватывали земли и скот, превращая свои деревни в коммунистические поселения. В Китае эпохи ранней Хань вспыхивали восстания крестьян и рудокопов. В Спарте тайные агенты власти постоянно вращались среди илотов — одного из двух порабощенных классов, — выслеживая и убивая «всякого, кто не повиновался или выказывал сравнительно большую сообразительность»33. В Сицилийском восстании II в. до н.э. участвовала четверть миллиона рабов. Восставших взяли измором и потом тысячами распинали. Движение италийских рабов под водительством Спартака было разгромлено на полях решающего сражения; около 6 тыс. его последователей распяли вдоль Аппиевой дороги. Все это — лишь несколько примеров бесконечной и широкомасштабной гражданской войны, длившейся веками.
Дело государства — светского рычага специального интеграционного и контрольного механизма в гражданском обществе — подавлять эти выступления, сохраняя целостность народов, среди которых они происходят. В этом процессе оно прибегало к самым крутым мерам, чаще всего — к массовым казням. Иногда, впрочем, государство не достигало успеха в подавлении восстаний или, во всяком случае, не могло избежать сильных потрясений. Как пишет Тёрнер, первое большое восстание в Египте «сокрушило могущество Мемфиса», а второе, эпохи Двенадцатой династии, «привело к упадку Фив — столицы царства... Верхнему Египту так и не удалось оправиться от запустения»34. Дестабилизирующее действие восстаний, с одной стороны, и роль государства в их подавлении — с другой, в этих примерах выступает с предельной ясностью.
Кровная месть и междоусобные войны. В первобытном обществе обида или убийство влекли за собой месть родственников пострадавшего. Если месть не могла настичь самого обидчика, она обрушивалась на членов его семьи. Отмщение было делом кровнородственных групп, прерогативой племени и принадлежало скорее к сфере частного, чем публичного права. В более развитых культурах, с умножением богатств и повышением их роли в общественных отношениях, возмездие по принципу «душу за душу, око за око, зуб за зуб» постепенно заменяется особым денежным штрафом — вергельдом, размеры которого зависят от тяжести преступления. Утверждение гражданского общества, где право убийства монополизировано государством, поставило частную месть вне закона. Это касалось и междоусобных войн — вроде столкновений шотландских кланов. Кровная месть преследовалась в государствах ацтеков и инков, в негритянских монархиях Африки (например, среди ганда и дагомейцев). Исключительной юрисдикцией над преступлениями обладали государства Египта и Двуречья. Объявление кровной мести и частных войн вне закона — один из самых бесспорных признаков гражданского общества. Интересно отметить, что у германских народов и в Англии этого достигли сравнительно поздно. Согласно Мунро Смиту, «около 1439 г. шеффены (судьи по уголовным делам) приняли следующее решение: "Если родственники убитого хотят и могут отомстить за него, то Бог им в помощь, ибо тем самым мы, шеффены, освобождаемся от этого дела"»35. К XV в. относятся и известия о вооруженном соперничестве двух английских аристократов и их сторонников36. Когда один из них погиб, противник выплатил вдове убитого денежную компенсацию. Эта история — последний пример междоусобных войн и уплаты вергельда в Англии37.
Государство и собственность. Поскольку гражданское общество носит классовый характер, а экономическую основу его составляет собственность, «государству-церкви» приходится защищать имущественные права его членов. Оно должно располагать определенными средствами — как защиты имущих классов в их обладании богатствами, так и отчуждения у трудящегося класса излишков его труда. Эти средства относятся к политическим и употребляются «церковью» наравне с государством. Выясняя общие черты гражданского общества, мы уже останавливались на отношении государства к собственности. Давно уже признано, что одна из основных функций государства — установление и поддержание экономической системы. По наблюдению Моргана, «правительства, учреждения и законы — всего лишь приспособления для создания и защиты собственности»38. Моргану вторит и известный немецкий социолог Теннис, отметивший, что «общества и государства — это институты, служащие, главным образом, для мирного стяжания и защиты собственности»39. Такова и точка зрения Католической Церкви, сформулированная папой Львом XIII в его энциклике «Об условиях труда». В разделе, озаглавленном «Государство должно защищать частную собственность», он говорит: «Следует помнить: главным достижением должна быть гарантия — и юридическая, и политическая — частной собственности».
Классовая структура гражданского общества зиждется на существующих в нем отношениях собственности, государство же призвано поддерживать то и другое. В некоторых культурах социальной стабильности угрожали специфические тенденции экономики. Допустим, что отдельные представители низших классов достигают благосостояния, позволяющего им щеголять в одежде или украшениях, которые всегда считались достоянием знати. Положение и привилегии высшего класса оказываются в таком случае под угрозой, а масштабы возвышения низшего класса — непредсказуемыми. Чтобы предотвратить дестабилизацию классовой структуры и наступление на привилегии высших классов, некоторые общества прибегают к законам против роскоши. Эти законы, будучи политическим средством контроля над экономическими процессами, не позволяют владельцам богатств распоряжаться ими по собственному вкусу и усмотрению. При «обычных» условиях в законодательных запретах нет нужды: низшие классы, как правило, лишены не только предметов роскоши, но и самого насущного. Но когда экономическая ситуация отдает атрибуты роскоши в руки отдельных простолюдинов, государство ради сохранения социальной структуры может прибегнуть и к этому средству. У инков, например, простонародью «разрешалось носить лишь грубую одежду из шерсти ламы; более дорогие ткани — вигонь или альпаги,— были привилегией знати. Низам общества возбранялись также изысканные яства, все мало-мальски крепкие напитки и кока. В ушах они могли носить лишь пучки соломы или шерсти, небольшие деревянные или глиняные подвески, но не крупные кольца из драгоценных материалов. Простолюдины не имели права украшать себя драгоценными камнями, перьями, золотыми или серебряными кольцами, ручными или ножными браслетам, орнаментированными шейными гривнами, которые были в ходу у людей высшего класса»40. В доколумбовой Мексике рядовой ацтек, дерзнувший «выстроить каменное жилище, равно как облечься в одежды из хлопка или с вышивкой из золота и драгоценных камней», считался преступником41. Шелковые одежды считались исключительной привилегией принцев и аристократов в раннеханьском Китае; чтобы предотвратить их распространение среди разбогатевших купцов, правительство прибегло к законам против роскоши42. Это законодательство применялось и в Западной Европе. Например, в Англии эпохи Тюдоров «никто ниже лорда не мог носить одежду из золота и серебра, ни соболей... Ношение малинового и голубого бархата возбранялось всем, кроме рыцарей ордена Подвязки... Что же касается низших классов, то ни у кого из находящихся в услужении короткое платье не могло быть длиннее 2,5 ярдов, а длинное — 3-х; слугам в имениях, пастухам и работникам, чье имущество оценивалось ниже 10 фунтов, под угрозой колодок запрещалось носить платье дороже 2-х шиллингов за ярд и штаны — дороже 10-ти пенсов»43.
Преследование воровства. Одним из средств государственной защиты имущественных основ гражданского общества было суровое преследование воровства. У ацтеков вор обращался в рабство. Инки наказывали мелкие хищения поркой; воровство же у государства каралось смертью. Ганда убивали вора, пойманного на месте преступления; в остальных случаях ему наносили увечья. Смерть или увечье были обычным наказанием за воровство и в наиболее известных городских культурах эпохи бронзы. Трудно сказать, оказывали ли жестокие наказания устрашающее действие, но применялись они именно с этой целью. И уж смертная казнь, к которой так часто прибегало государство, во всяком случае лишала многих возможности повторить преступление. Ирригация. Ирригация относится к числу жизненно необходимых общественных работ. Осуществляемая силами всей общины под надзором полномочного представителя племенной власти, она встречается даже у самых примитивных народов44 . В Перу и Мексике до испанского завоевания ирригация осуществлялась государством. Ирригационные работы были одной из главных функций центральной власти в городах-государствах эпохи бронзы, чье экономическое благосостояние, равно как и политическая и социальная система, в огромной степени зависели от налаженной системы орошения полей.
Государственные монополии. Во многих культурах бронзы государство возглавляет или направляет развитие некоторых видов промышленности, а иногда монополизирует торговый обмен отдельными товарами. Сосредоточение в его руках такого рода промышленных и коммерческих функций объясняется слабым развитием в эпоху ранней бронзы торгового класса. В древнем Китае, например, государство в разные периоды монополизировало такие ресурсы и промыслы, как дары леса, соледобычу, выплавку железа, разведение моллюсков, винокурение и пр.45 .
«В Индии времен Маурья, в ханьском Китае, в сасанидской Персии, в эллинистических монархиях государство, т.е. политически организованный правящий класс, большей частью берет промышленную деятельность в свои руки. Государственные монополии были скорее орудием налогообложения, направления труда и контролирования цен, чем способом организации капитала. И почти во всех видах труда, требующего соединенных усилий (за исключением горного, металлообрабатывающего и текстильного промыслов), государство неизменно выступает организатором так называемых «общественных работ»— сооружения стен, дорог, водопроводов, каналов, набережных, дворцов, храмов и т.д. Такие предприятия осуществлялись как государственная инициатива — отчасти потому, что только государству под силу было их финансирование, отчасти потому, что необходимая для них концентрация и переброска людских ресурсов могли быть прерогативой лишь политической власти»46. Деньги, рынки, система мер и весов. Государство стремится воздействовать на экономические процессы, устанавливая надзор за рынками, системой мер и весов, а по возможности и монополию на чеканку монеты и выпуск бумажных денег. Рынки, действующие под контролем правительственных чиновников, встречаются у ацтеков времен Кортеса и в некоторых монархиях Черной Африки.
Дороги и сообщение. Интеграция социокультурных систем требует коммуникационных и транспортных средств, и в этой сфере столь же нетрудно усмотреть руководящую роль государства. Ацтеки имели отличную дорожную сеть: водные рубежи перекрывались стационарными или подвесными мостами из дерева и других материалов, вдоль дорог находились посты скороходов. Известно, что рыба, выловленная утром в Мексиканском заливе, еще днем доставлялась в столицу, к столу Монтесумы. В доколумбовом Перу две магистрали — вдоль побережья и в глубине территории — пересекали империю инков с севера, а из столицы (г. Куско) шла разветвленная сеть вспомогательных дорог. Через каждые две-три мили встречались посты скороходов, и сообщения передавались очень быстро (так, расстояние между Кито и Куско — приблизительно 1300 миль — преодолевалось за 10 дней). В Уганде система прекрасных дорог (иногда более 12-ти футов шириной) связывала местопребывание короля с резиденциями главных его наместников, а те, в свою очередь, — с резиденциями наместников младшего ранга. Империю Александра Македонского пересекали охраняемые дороги, снабженные к тому же укрытиями от солнца и непогоды. Царский путь из Сард в Сузы был рассчитан на десятидневный переход. В Китае, ко времени Ханьской династии, существовала весьма разветвленная дорожная сеть. Созданная императорами, она вела из столицы, Шеньяна, в Шэнси, что было очень удобно для феодальной знати и вместе с тем укрепляло связь центра с периферией. Дорожным строительством славился, конечно же, и древний Рим. Во времена Траяна протяженность главных дорог составляла 47 тыс. миль. Многие римские дороги были вымощены, имели путевые столбы, указатели и гостиницы. Власть и индивид. Процесс координации, интеграции и контроля социокультурной системы неизбежно затрагивает личность, неразложимое единство ее структуры. Осуществляя общее наблюдение и контроль над личностью, государство оказывает на нее давление в самых различных сферах, будь то рождение, брак, воинская служба или самый уход из жизни. Индивид подчинен законам как носитель определенного социально-имущественного статуса, как преступник (когда он их нарушает). Более же всего государство соприкасается с личностью в сфере образования и воспитания. Образование. По меркам нашего общества и согласно мнению людей науки, обучение и образование суть интеллектуальные действия, направленные на усвоение определенных истин и сообщение этих истин другим. Однако с точки зрения социокультурной системы, обучение есть политический процесс, одно из средств социальной интеграции и контроля. С антропологической же точки зрения это процесс, в котором культура одного поколения передается следующему, или способ, которым общество навязывает индивиду свои обычаи, верования, идеалы и модели поведения. Процесс обучения может быть формальным и неформальным; последний, будучи более глубоким, продолжительным и органической частью повседневности, оказывает и более серьезное воздействие на жизнь индивида. Концепция обучения как политического процесса хорошо обоснована у Аристотеля: «Но самое важное из всех указанных нами и способствующих сохранению государственного строя средств ... это воспитание в духе соответствующего государственного строя ... Едва ли кто-нибудь будет сомневаться, что законодатель должен отнестись с исключительным вниманием к воспитанию молодежи ... Ведь воспитание должно соответствовать каждому государственному строю»47 . Он восхваляет лакедемонян, которые «проявляют очень большую заботу о воспитании детей», так что «оно носит у них общественный характер»48.
В культурах эпохи бронзы роль государства в обучении масс была невелика. И вместе с тем даже у ацтеков можно обнаружить школы для детей общинников. В Египте эпохи Древнего Царства существовали дворцовые школы, где юноши осваивали всякого рода практические искусства — письмо, математику, инженерное дело, медицину и т.п. «Образование состояло исключительно в практической подготовке будущего чиновника»49. В древней Индии образование испытывало громадное воздействие религии, но были и школы сравнительно светского направления, прививавшие сугубо практические навыки. Иногда развитию образования содействовали сами правители, при которых некоторым ученым удавалось добиться политического влияния. В Китае обучение стало интегральной частью политической организации государства. Во времена У-ди (II в. до н.э.) изучение классической литературы считалось необходимым для знати. На протяжении веков здесь существовали экзамены для соискателей государственных должностей, и Коунтс с полным основанием говорит, что Китаем правили ученые50 . Одним из преимуществ такой системы было «полное приручение ученого сословия троном»51 . В Японии эпохи Нара (VIII в.) главную задачу образования видели в подготовке новых правительственных кадров52.
Древнегреческое общество во многих отношениях имело откровенно секулярный характер (так, Аристотель даже не включает жрецов в свой каталог профессиональных групп). Главной заботой здесь были отношения государства и индивида, а не человека с Богом. «Законы» Платона и «Политика» Аристотеля сосредоточены, в основном, на общественной жизни и общественной мысли Греции. Отсюда и убеждение, что образование — всецело государственное дело. Согласно Платону и Аристотелю, оно должно регулироваться государственной властью, быть обязательным для свободных граждан, и притом единообразным. В Риме образование первоначально носило домашний характер; позднее учреждаются начальные школы, входят в моду и риторские училища. В императорскую эпоху последние постепенно включаются в государственную систему. Общий обзор функций государства. Мы видели, что государство посредством сложного правительственного механизма — через монархов и их советников и администраторов, через ассамблеи или парламенты, судебно-полицейские и карательные учреждения — в значительной мере интегрирует, регулирует и контролирует жизнь гражданских обществ. Оно защищает их от внешней агрессии и внутренней смуты53. И оно же организует или, по крайней мере, контролирует многие межсоциальные процессы и многие сферы жизни — пути сообщения, ирригацию, общественное благосостояние и здравоохранение, финансы и торговлю, систему наказаний, образование и т.д. — столь же существенные, сколь и желательные для полноценного функционирования общества. Цель этих усилий — безопасность, преемственность и эффективность социокультурной системы.
«Церковь» Обозрев функции государства как механизма интеграции, регулирования и контроля, обратимся теперь к «церкви». Если государство и «церковь», как мы уже заметили, — всего лишь два аспекта, или сегмента специального интеграционно-регулятивного механизма гражданских обществ, было бы естественно ожидать, что функции «церкви» и ее роль в социальном организме в общем и целом параллельны государственным. Следующий далее анализ подтверждает наше предположение. Функцией «церкви» в гражданском обществе является сохранение целостности социокультурной системы, частью которой она является. Она достигает этого посредством 1) наступательно-оборонительных отношений с соседними странами и народами, 2) поддержания режима повиновения и послушания для подчиненных классов у себя дома и, следовательно, предупреждения дезинтеграции общества в результате восстаний и гражданских войн, а также 3) управления различными межсоциальными процессами и сферами — т.е. через налаживание сельского хозяйства, ирригации, ремесел и коммерческих связей, организации общественных работ и воздействия на жизнь индивида через обучение и культ. В любом гражданском обществе «духовенство» — по крайней мере, высшее — составляет часть правящего класса и в этом качестве пользуется громадным политическим весом или властью, а также правом владеть богатствами. Мы уже указывали, что носитель верховной власти во множестве случаев был тесно связан с жреческим сословием, а нередко и сам выступал как верховный жрец. В других случаях «духовенство» оказывало неизменно определяющее влияние на правительственный курс. Два верховных жреца у ацтеков «давали советы царю и его приближенным по вопросам войны и внутренней политики»54 . Глава жрецов в доиспанском Перу был братом или дядей главы государства — Великого Инки. В Древнем Египте соперничество между фараонами и жрецами нередко завершалось победой последних, выдвигавших царя из своей среды. Да и «ассирийские самодержцы <...> не начинали общественных дел без совета с ее [Иштар. — Прим. Л.Уайта} жрецами»55. В Греции и Риме жрецы, обладая большим политическим влиянием, тем не менее «слишком тесно отождествлялись с секулярным правящим слоем, чтобы оформиться в самостоятельную политическую силу»56.
Война. Можно с уверенностью сказать, что ни одна война не обходилась без обращения к сверхъестественным силам. И делом «духовенства» в гражданском обществе — как и делом заклинателей в обществе родоплеменном — была мобилизация населения для военных нужд. Служитель главного божества ацтеков — бога войны Вицлипуцли, был одним из двух столпов жреческой иерархии. Жрецы с изваяниями богов шли во главе походного строя войск. И одной из целей войны у ацтеков был захват пленных для храмовых жертвоприношений. В Египте и других древних цивилизациях Старого Света победа в войне считалась даром божества. «Эту победу даровал мне Амон», — заявляет Рамсес II в надписи, сделанной после битвы при Кадеше. Богов полагалось благодарить, делая подарки храму или предоставляя жрецам долю в военной добыче. Классовая структура. В городских культурах древности жречество было интегральной частью классовой структуры гражданского общества. Принимая свою общественную роль как должное, оно безоговорочно принимало как данность и общество своего времени — с подчиненными массами на одном полюсе и правителями, военной верхушкой и жреческой иерархией — на другом. В таком общественном устройстве открывались воля и замысел богов, и религиозный долг, следовательно, состоял в поддержании и воспроизведении данной системы. Далекая от осуждения рабства, эта идеология вполне отвечает тому факту, что «первоначально рабы были, по-видимому, прикреплены к храмам»57 в качестве сельскохозяйственных рабочих или ремесленников.
Социальный контроль, образование и культ. Говоря об этических нормах, мы уже отмечали следующую закономерность: если у первобытных народов боги практически не вмешиваются в домашнюю жизнь, то в гражданском обществе их влияние на поведение масс чрезвычайно велико. Чтобы примирить низшие слои с существующим порядком и насадить в их сознании идеал послушания, жрецы использует специфическую теологию и культ. Нужда в такого рода «церковных» ресурсах ощущалась тем сильнее, что военный аппарат не в состоянии был справиться с хронической угрозой восстаний, гражданской войны и анархии. Поучения жрецов, подкрепляемые общей атмосферой ожидания чуда и таинственными обрядами, внушали необходимость подчиняться установленному порядку и даже защищать его. Для древних египтян, например, непреходящее значение имел нравственный закон, установленный солнечным божеством Ра. Их общественный идеал предполагал «полную примиренность каждого со своим классовым статусом, презрение к физическому труду и бедность как обычный удел простолюдинов»58. Мысль о том, что следует довольствоваться своим жребием и местом в жизни, встречается и в буддизме. Учение Конфуция «настойчиво призывает людей отличать лучших из них» и, по мнению Гу Чжэ-кана, «эта теория была в высшей степени удобна для деспотического правления»59. А в сравнительно недавнее время и католическая Церковь признала огромную роль религии в «умягчении людских душ»60 и предотвращении мятежей.
«Церковь» и собственность. Выступая в этой роли как один из компонентов специального интеграционно-контрольного механизма гражданского общества, «церковь» располагает огромными богатствами. Это происходит потому, что высшее жречество составляет значительную часть правящего класса, обладающего монополией на богатство в такой же мере, как и на политическую власть. «Человек живет благоволением божества», — вот мысль, определяющая учение всякой «церкви». Человек не может справиться с жизнью сам и нуждается в поддержке высших сил. Поэтому даже в самых примитивных культурах собирателей встречаются жертвоприношения, призванные обеспечить помощь божества. Ранние аграрные общества знают обычай приношения богам первых плодов. Со временем чувство благодарности богам и потребность воздать им за милости переносятся и на их земных представителей, т.е. служителей культа. В некоторых родоплеменных обществах — например, у пуэбло Юго-Запада Америки — жрецы находятся на общественном содержании (хотя бы частичном). Верховный жрец у кересан-пуэбло владеет всей землей (во всяком случае, теоретически) и, как земной представитель Ятику («Матери»), получает содержание от племени61. В ранних городских культурах, вызванных к жизни аграрной революцией, земля считалась собственностью божества, представителями которого были верховный жрец или царь (последний, как мы видели, мог совмещать и обе функции). Поэтому часть продукта предназначалась жрецам или царю в качестве «платы» за пользование землей. По мере углубления аграрной революции в руках правителей, знати и жречества концентрировались громадные земельные владения и доходы от всевозможных ремесел и промыслов.
У ацтеков «жрецы жили в довольстве, а зачастую и в роскоши, получая обеспечение с огромных земельных владений, а также в виде податей и неиссякаемого потока пожертвований»62 . В древнем Перу земля делилась на три части, одна из которых использовалась для нужд храмов и жречества. Главный храм, посвященный Солнцу, «имел золотой сад, где все деревья и растения, плоды и цветы, птицы и насекомые были из чистого золота; там же «паслось» и стадо золотых лам под надзором пастуха — все также из золота и в натуральную величину»63
Несметными богатствами обладали египетские храмы. Из папируса Харриса64 известно, что во времена Рамсеса III (1198-1167 до н.э.) в их распоряжении находилось свыше 107 тыс. рабов (около 2% населения), примерно 750 тыс. акров земельных угодий (около 15% всей обрабатываемой земли), около 500 тыс. голов скота, флот из 80 кораблей, 53 ремесленных мастерских и скотных двора — и все это на территории «менее 10 тыс. кв. миль с 5-6 млн. населения». (Для сравнения: площадь штата Массачусетс — 8266 кв. миль; население его в 1940 г. насчитывало 4 316 721 человек.) В свое время только храм Амона в Фивах имел более полумиллиона акров земли с населением 81 322 человек, 421 400 голов скота, 83 речных судна и 65 деревень65. Очень богаты были и храмы древнего Двуречья.
Храмы превращались в центры деловой жизни и ремесел. Храм Бау в Лагаше, одном из городов древнего Шумера, помимо рабского труда пользовался услугами наемных мастеров (получавших жалованье натурой). В его «штате» помимо жрецов, служек и чиновников фигурируют пекари, пивовары, ткачи, кузнецы и сельскохозяйственные рабочие. В распоряжении храма находился обширный реквизит: металлические орудия и плуги, рабочий и вьючный скот, повозки и лодки <...> Владел он и племенным скотом, в том числе и племенными жеребцами, которых привозили из Элама»66. По мнению Чайлда, в Месопотамии храм был «не только средоточием религиозной жизни города, но и центром привлечения капиталов. Храм функционировал как огромный банк, а божество было главным капиталистом округи. Храмовые архивы содержат записи о предоставлении земледельцам ссуд семенным зерном или рабочим скотом, об отдаче земли в аренду, о выплатах пивоварам, корабельным мастерам, ткачам и другим ремесленникам, о расчетах (пшеницей или денежными слитками) с проезжими купцами. Божество считалось наибогатейшим членом-общины»67. В качестве банков действовали и храмы Вавилона. Так, торговый дом Игиби (ок.575 до н.э.) «выступал как агент по покупке, ссужал деньгами под урожай, под векселя, под залог, а также выплачивал проценты под обеспечение»68 . Древнейшие дешифрованные документы из Месопотамии — это росписи храмовых податей, составленные жрецами»69. Контракт как юридическая форма деловых отношений — изобретение шумерских храмовых чиновников; к нему прибегали при отдаче внаем полей, строений, скота, лодок и т.п.70. Храмы-банки Вавилона использовали при займах и оборотно-кредитные документы: «Варад-Элиш <...> получил от жрицы Солнца Ильтани один шекель серебра от имени Бога-Солнца. Эта сумма должна быть истрачена на покупку кунжута. Долг будет возвращен держателю этой расписки кунжутом во время его сбора и по цене того времени»71.
Храмы участвуют, наравне с правителями и военной верхушкой, в дележе военной добычи. Так, в древнем Египте «имущество, захваченное в Сирии и Эфиопии, обогатило бога Амона не меньше, чем самих царей. Каждая победа приносила ему десятую часть трофеев, захваченных на поле боя, десятую часть податей с побежденных и десятую часть пленников, угнанных в рабство <...> Фараоны, то и дело вынужденные вознаграждать кого-либо из своих приближенных, никогда не могли получить свою долю добычи полностью. Бог же [т.е. жречество. — Прим. Л.Уайта}, напротив, получал все, что ему причиталось, не давая ничего взамен <...>»72.
И в других отношениях «церковь» нередко выказывала себя более жизнеспособной, чем государство. Так, в Египте времен Рамсеса III, «когда бедняки, работавшие на государство, умирали от голода у дверей пустого казначейства, храмовые житницы были переполнены и Амон ежегодно получал на жертвоприношения к своему празднику более 205 тыс. бушелей пшеницы»73 .
Наш беглый обзор функций «церкви» показал, что они во многих случаях параллельны государственным. Конечно, разница в деталях очевидна: нет, к примеру, никаких сведений о ее участии в сооружении дорог. И все же в большинстве жизненно важных функций — будь то ведение войны или удержание низших классов в повиновении, равно как и организация сельского хозяйства, ирригации, ремесел, деловой жизни и финансов — «церковь» проявляла себя не менее активно, чем государство. Итак, «государство-церковь» возникло как специальный механизм координации различных звеньев и процессов социокультурных систем, рожденных сельскохозяйственной революцией, и явилось носителем «государственно-церковных» средств их интеграции, регулирования и контроля. Перевод Ю. С. Терентъева Лесли А. Уайт. Экономическая структура высокихкультур *
Как мы уже отметили в гл. 9 («Экономическая организация первобытных обществ»), существует только два основных типа экономических систем: 1) те, в которых отношения между объектами собственности — это функции межличностных отношений, и 2) те, в которых межличностные отношения — функции отношений между объектами собственности. Можно определить их иначе: одни системы подчиняют человеческие социальные отношения отношениям собственности, другие — отношения собственности человеческим отношениям. К сожалению, ни у экономистов, ни у антропологов не нашлось подходящего наименования для этих двух важнейших типов экономических систем. Первый тип — единственный, какой существует внутри первобытных обществ, основанных на кровнородственных связях (хотя, наряду с ним, в межплеменных торговых отношениях уже заявляет о себе и второй тип). Системы второго типа, подчиняющие человеческие общественные отношения отношениям собственности, свойственны всем гражданским обществам (хотя и здесь в небольших группах родственников, друзей или соседей могут сохраняться пережитки более примитивной системы). Все гражданские общества организованы на основе отношений собственности. Это означает, что все классы, наличие которых обособляет гражданское общество от первобытного, т.е. родоплеменного, — правители и их советники, знать и священство; организованные и неорганизованные в гильдии ремесленники; купцы, банкиры и ростовщики; заимодавцы и должники, наниматели и те, кто работает по найму; свободные, крепостные и рабы — являются социальной проекцией экономической организации. Социальные и политические структуры суть отраже>ния экономических структур. Знать (notables) — это обладатели богатств, землевладельцы. Свободные (frimen) — те, кто не обладает ни богатством, ни собственностью, которой можно поддерживать свое существование. Наемные работники — продавцы своей силы и рабочих навыков на рынке труда; на другом полюсе находятся предприниматель и работодатель. Проституция есть разновидность товара. Крепостной — придаток земельной собственности. Раб — часть собственности в образе человека. Воровство — человеческая проекция противозаконного обращения с собственностью. Нищенство — воплощение экономического паразитизма. Собственность — основа гражданского общества; ее формы и управляющие ею процессы определяют морфологию и физиологию государства. Она является там общим знаменателем, к которому можно привести все социальные группы, выделившиеся из родоплеменного общества. Статус каждого индивида, каждого класса есть функция отношений собственности. Все имеет форму или функцию собственности; каждый член общества — либо собственник, либо объект собственности. Собственность в гражданском обществе — мера достоинства всех людей. Поскольку экономические системы первобытного общества ставят человеческие отношения — права и благосостояние людей — выше отношений и прав собственности, они — человеческие (или человечные), этически окрашенные и личностные системы. В той мере, в какой эти системы родоплеменных культур организованы на кровнородственных началах, их можно назвать братскими. Напротив, экономические системы гражданского общества, подчиняющие права и благополучие людей правам собственности1, имеют безличный, негуманный и безнравственный характер. Все страдания, унижения и различные проявления человеческой деградации, связанные с рабством, крепостной зависимостью, проституцией, ростовщичеством, нищенской оплатой труда, безработицей, завоевательными и грабительскими войнами, колониальным правлением и эксплуатацией, неотделимы от экономических систем гражданского общества. В коммерческих системах все продается и покупается — и женское целомудрие, и судейская честность, и гражданская лояльность. Нет такого отвратительного преступления, на которое нельзя было бы пойти, подчиняясь требованиям экономических систем2. Их безнравственная природа развращает и калечит как высших, так и низших. Алчность ростовщика возрастает по мере разорения его клиентов. Рабовладелец превращается в безжалостного лицемера, а то и в ханжу. Ограбление вдов и сирот не прибавляет чести земельному магнату. На совести каждого колониального деятеля (если он чудом сохранил ее) — слезы и бедствия миллионов угнетенных туземцев. Крупный промышленник радуется нищете и забитости рабочих.
Хотя все экономические системы гражданского общества подчиняют человеческие связи отношениям собственности, мы тем не менее выделяем главные их разновидности: 1) системы, где процессы производства и распределения контролируются и регулируются государством; 2) системы, где экономические процессы предоставлены своему свободному течению — при сохранении, однако, общего надзора и контроля со стороны власти, следящей, чтобы это согласовывалось с известными правилами. Иными словами, процессы производства, обмена и распределения сообразуются здесь с понятиями и ценностями, созданными экономической реальностью, т.е. с понятиями заработной платы и цен, купли и продажи, долга и платежа; государство же надзирает за этой деятельностью и упорядочивает ее, не допуская обмана, плутовства и нарушения обязательств. Мы уже упоминали империю инков как пример системы жесткой государственной регламентации и империю ацтеков — как пример относительной коммерческой свободы. Среди великих городских культур бронзового века Египет долгое время служил классическим образцом государственного вмешательства в экономику, а Вавилон — системы свободной коммерции. При Птолемеях «вся экономическая организация Египта основывалась на принципе централизации и правительственного контроля, а также национализации всей сельскохозяйственной и промышленной продукции. Все совершалось для государства и через государство, и ничего — для личности ...»3.
Что касается Двуречья, то здесь, напротив, частнособственнические и индивидуально-предпринимательские права были зафиксированы еще в Шумере и существенно расширены в Вавилоне. «Во времена Хаммурапи земля и имущество могли продаваться, покупаться, сдаваться в аренду, ссужаться в долг, приниматься в залог и передаваться по завещанию, а договоры, оформляющие все перечисленные сделки, имели силу закона. Одним словом, возникла система свободного землевладения, при которой собственник земли мог распоряжаться ею без всяких стеснений со стороны гражданской или религиозной власти»4 . Система свободной торговли процветала и в Древней Греции. Мы уже предложили объяснение происхождения и развития этих двух различных типов экономической системы эпохи перехода от первобытного общества к гражданскому (см. с. 294296). Хотелось бы рассмотреть и способ их функционирования в условиях классового расслоения. В системе, контролируемой государством, исключительно велика роль классового статуса. Одним назначено быть крепостными, свободными общинниками или рабами, другим — жрецами или вельможами. Статус каждой из этих групп — органическая черта политической структуры, а их благополучное или бедственное положение — результат того, как манипулирует этим статусом жестко регламентированная и закрытая для изменений экономическая система. В системе свободной торговли характер общества определяется договором. Деньги обеспечивают их владельцу — индивиду или классу — преобладание над остальными и экономическое могущество, источником которого служат подати, арендная плата, ростовщичество, система платежей и купля-продажа. В одной системе подчинение и эксплуатация обеспечиваются классовым статусом, в другой — посредством свободных договоров; тем не менее, за обеими стоит государственная власть5.
Феодальное землевладение. Важнейшим фактором в экономических системах культур бронзы и железа была, безусловно, земельная собственность. Это значение она сохранила (за немногими исключениями) до начала промышленной и топливной революции в Западной Европе, последовавшей за открытием Америки. Всем своим существованием великие городские культуры древности обязаны интенсивному земледелию. Отсюда и первостепенная важность различных форм землевладения. В первобытных обществах, основанных на кровном родстве, земля была собственностью племени, точнее — считалась таковой, даже если отдельные ее участки находились в пользовании семей или других родственных групп. На пороге гражданского общества ясно обозначается тенденция приписать роль единого собственника земли главе политико-религиозной системы, как земному представителю божества. Так, в Акоме (Нью-Мексико) касик кересан-пуэбло, олицетворявший Мать-Землю, теоретически владел всей землей, но на практике обязан был предоставлять свободные ее участки всем, кто в них нуждался6. В Буганде (Восточная Африка) все земли, за исключением мест родовых захоронений, принадлежали королю, распределявшему их среди своих чиновников и фаворитов. В Дагомее король владел — опять-таки, хотя бы теоретически — не только всей землей, но и всем народом, равно как и его имуществом.
В ранних гражданских обществах земля принадлежала божеству в лице его представителя — царя-первосвященника. Древние шумеры считали своих правителей «арендаторами» бога; подтверждением таких арендных отношений служило ежегодное их возобновление. Фараон — по-видимому, от имени Бога, — владел всеми землями Египта. Там, где царская власть и священство разделялись как различные компоненты «государства-церкви», этому разделению соответствовали и две группы земель. Земли распределялись среди знати и военной верхушки как компенсация за службу. Безраздельное господство феодального землевладения было очень продолжительным, так что установить точную дату первой продажи земли не представляется возможным. Со временем, однако, земля освобождается от феодальных форм держания и, наравне с ремесленной продукцией, вовлекается в коммерческое русло. Самые ранние сведения о купле-продаже земли относятся к эпохе Хаммурапи (ок.1940 г.до н.э.). Мануфактурные производства. Если в великих культурах бронзы и железа главной отраслью экономики было сельское хозяйство, то по мере углубления аграрной революции и переориентации населения с производства продовольственных продуктов на ремесла и искусства возрастает роль мануфактур. При всем их множестве (от хлебопекарных и пивоваренных до парфюмерных и ювелирных) ведущее место в экономической структуре занимают все же гончарные, текстильные и металлургические предприятия. Такого рода предприятия возникают во всех типах экономических систем — ив контролируемых государством, и в свободно-коммерческих. Не зная истории развития промышленной системы в древней Мексике, мы тем не менее можем предположить, что она развивалась как система свободной экономической деятельности, ибо Кортес застал там ряд ремесленных союзов, объединявших мастеров разных специальностей, которые самостоятельно производили товары и открыто продавали их на рынке. Напротив, ремесла древних инков находились под контролем государства. Промышленное развитие как Египта, так и Двуречья связано с дворцовыми и храмовыми мастерскими. Сравнительно малую часть египетских мастеров составляли независимые ремесленники, свободно выходившие со своей продукцией на рынок; в Двуречье такая практика получила более широкое распространение. Труд вавилонских ремесленников оплачивался сперва натурой, позднее — деньгами. В промышленном производстве были заняты также рабы и крепостные (преимущественно в дворцовых и храмовых мастерских); в Греции рабский труд нередко использовался и частными предпринимателями. В Греции же можно обнаружить и начатки фабричной системы, а именно — мастерские, где одновременно работало до двенадцати ремесленников; имеются сведения и о разделении труда (например, кройки и шитья в швейных и башмачных мастерских). Торговля, ее происхождение и развитие. Производство для потребления в истории всех культур предшествует производству для обмена. Производство исключительно для собственното потребления, дольше всего сохранявшееся в монашеских общинах Старого Света, в наши дни существует разве лишь у приматов, так что есть все основания относить его к самому начальному периоду истории культуры. С другой стороны, межплеменной обмен различными предметами существует и у первобытных народов нашего времени, и можно предположить, что это самая примитивная и обычная практика. Впрочем, как мы уже знаем, такого рода обмен возникает на базе родственных связей и дружеских отношений, а не на коммерческой основе. Внутри догражданского, т.е. родоплеменного общества мы не найдем никаких признаков коммерческого обмена — кроме примеров, где кровнородственная организация разлагается под влиянием современной цивилизации, насаждающей денежное обращение и бартерные сделки7.
Коммерческий обмен завязывается в русле межобщинных отношений. Основа межплеменной коммерции исключительно проста. Географическое распространение естественных ресурсов — растений, животных, минералов и других земных богатств далеко не равномерно: при избытке одного возможен недостаток, а то и полное отсутствие другого. Отсюда — особое значение обмена, в котором та или другая локальная группа отдает избыточные природные блага своего региона и получает за них недостающие. Так, население прибрежной полосы выменивает рыбу на фрукты и овощи, разводимые в глубине материка; с тем же неравномерным распространением ресурсов связана и межплеменная меновая торговля раковинами, пушниной, охрой, янтарем, нефритом, слоновой костью, бирюзой, солью, обсидианом, кремнем и пр. Коммерческие связи между локальными группами возникают очень рано. В наше время мы наблюдаем оживленную и экстенсивную меновую торговлю у народов крайне бедных культур — например, у аборигенов Австралии или семангов Малайи, а многочисленные археологические находки относят ее начало к доисторическим временам. В этом отношении любопытен пример аборигенной Северной Америки. Медные изделия из района Верхнего Озера встречаются в Огайо и даже в более отдаленных южных регионах, обсидиан со Скалистых гор — далеко на восток от берегов Миссисипи, раковины из Флориды — на севере штата Нью-Йорк. Индейцы пуэбло Юго-Запада получали пальмовое дерево из Мексики или с дальнего Юга — вероятно, в обмен на бирюзу. Что касается Европы, то морские раковины и кости морских животных находят среди палеолитических памятников Дордони (западная часть центральной Франции), а раковины из Средиземноморского региона — в неолитических поселениях Рейнского бассейна. Бусы из ютландского янтаря попадали в древние Микены, утварь ранней бронзы — из Южной Европы в Скандинавию. Хотя добывание или присвоение в готовом виде природного сырья с целью обмена, несомненно, предшествовало производству предметов меновой торговли как таковых, последнее, тем не менее, встречается и в довольно примитивных культурах. Так, одна часть пуэбло Лусона специализировалась на соледобыче, другая — на изготовлении бронзовых топоров и гонгов, третья занималась рисоводством и перевозкой корзин. В северо-западной части бассейна Амазонки индейцы витото мастерили корзины, боро — трубки, стрелявшие отравленными стрелами, карайоны готовили яды, а менимехе занимались гончарным делом. В межплеменной торговле одни ценные предметы выменивались на другие: столько-то рыбы на столько-то ямса, корзина — на несколько кусков обсидиана и т.п. Но обмен невозможен без определенного соотношения цен. Допустим, А не хочет отдавать свою рыбу за три батата и требует четыре. Если Б согласен дать четыре, обмен состоялся, в противном случае — нет. В этой операции А самостоятельно устанавливает приемлемый для него эквивалент предмета обмена. Но эта оценка определяется рядом объективных факторов. Один из них — количество труда, затраченного на его добычу или изготовление (или то и другое вместе). Предмет, добыча (изготовление) которого заняла два часа, требует более высокого эквивалента, чем тот, на который потрачен час. Количество труда, затраченного на то, чтобы вывезти продукт на рынок, определяется избытком или недостатком сырья в данной местности при неизменном технологическом факторе. При уменьшении количества рыбы или ягод, при плохом урожае ямса и т.п. необходимое количество этих благ достается продавцу куда труднее, чем при естественном их изобилии, и он просит за них больше. Таким образом, фактор естественного избытка и недостатка имеет первостепенное значение в производственном процессе — т.е. в добывании или присвоении в готовом виде природного сырья. Значение этого фактора падает по мере того, как при подготовке товара для рынка возрастает роль выделки, т.е. обработки. Труд, вложенный в изготовление глазурованной и расписной керамики, значит куда больше, чем природное изобилие глины. Меновую стоимость предмета торговли можно представить как свойство, которое определяется количеством труда. необходимого для его изготовления. Это количество, в свою очередь, зависит, с одной стороны, от технологических средств производства, с другой — от естественного избытка или недостатка материала. Стоимость продукта пропорциональна количеству труда, или энергии, затраченной на его производство при постоянных прочих факторах. Но вложенный в производство труд имеет различное выражение, соответственно чему различается и стоимость продукта. Объем трудовых затрат зависит от умения и сноровки производителя, от эффективности технологических средств и количества продукта. Различия, с которыми мы здесь сталкиваемся, в целом можно определить как качественные: например, один гончар лучше, т.е. искуснее другого, этот топор лучше, т.е. надежнее в употреблении, чем тот, и т.д. Но качественные различия легко сводятся к общему знаменателю количества (например, превосходная глиняная чаша работы опытного мастера при обмене приравнивается к нескольким чашам, сработанным не столь искусно). И во всяком сообществе оценка мастерства разных ремесленников может опираться на некий средний показатель, сравнение с которым определит квалификацию каждого отдельного специалиста. Точно так же обстоит дело и с технологическим средствами производства, т.е. инструментами: различные по эффективности, все они могут соотносится с каким-то средним ее баллом. И, наконец, некоторое количество энергии можно либо целиком израсходовать на одно-единственное произведение (например, искусно декорированный клинок или вазу), либо вложить в несколько изделий. Таким образом, стоимость продукта в каждом отдельном случае будет различна, как различны условия его получения или производства. Эту закономерность мы выразили в следующей формуле: En x Sk x Ef = VP = VP' = VP", где En — количество затраченной энергии, измеряемой в эргах или калориях, Sk — квалификация мастера, Ef — эффективность орудий, VP — стоимость продукта, Р' — единичный продукт, Р" — две и более единицы продукта, но всегда определенное и конечное его количество. Итак, стоимость продукта различается, при прочих равных условиях, в зависимости от затрат энергии, квалификации мастера и эффективности орудий. Во всяком обществе с однородной культурой факторы мастерства и технологической эффективности могут быть сведены к средним показателям, а это позволяет вывести следующую закономерность: средняя величина стоимости продукта пропорциональна количеству человеческого труда, или энергии, затраченной на его производство. Что касается другой части уравнения, то энергия может быть затрачена на изготовление одного или более продуктов, но стоимость в обоих случаях будет одинаковая. Возвращаясь к процессу обмена, заметим, что в нем сопоставляются и уравниваются стоимости. Если я знаю, сколько труда затратил на предложенные мною к обмену бататы или ожерелье из раковин, то как установлю стоимость продукта, который надеюсь получить взамен? Ответ простой: я установлю его путем сделки, т.е. торгуясь. Если рыба, предложенная мне моим партнером, стоила ему дешево, он, в ответ на мой отказ меняться, предложит больше, равно как и сам я буду предлагать больше или меньше в зависимости от объема затрат своего труда. Таким образом, посредством торга и сделки каждая сторона устанавливает максимальную границу своего предложения; и если согласие не достигнуто, обмен не состоится. Отсюда видно, что обмен есть приравнивание стоимостей, устанавливаемых с учетом количества труда, которое в свою очередь определяется недостатком или избытком естественных ресурсов и технологическими средствами производства. Участвующие в эквивалентном обмене товары представляют собой, в конечном счете, овеществленный труд и объект его вложения. Этот вывод подтверждается следующим примером. В XVII в. европейцы выменивали у индейцев Америки стеклянные бусы на шкурки выдры. С точки зрения европейца это — весьма неравный обмен, в котором его собратья получали прекрасный и ценный мех почти даром. Но такое понимание сделки крайне односторонне: шкурки выдры доставались индейцам не дороже, чем бусы — европейцам. Между тем, каждая сторона ценила получаемые ею предметы (европейцы — мех, а индейцы — стеклянные украшения) за их красоту. В этой связи, однако, нужно отличать обмен подарками от коммерческого обмена. Первых европейцев, вступавших в контакт с индейцами, последние буквально осыпали дарами за несколько кусков красного ситца и моток медной проволоки. И из истории многих культур нам известны ситуации, когда участники контакта стараются превзойти друг друга щедростью. Но с внедрением коммерческих отношений первобытные народы быстро переняли у европейцев искусство набавлять цену путем торга. В свободной торговле происходило состязание покупателей. Если европеец не соглашался дать за шкурку выдры требуемое количество бусин, индеец отказывался продавать мех (что означало для первого сплошные убытки) или отдавал его другому купцу. Благодаря этому индеец вскоре получал за свой товар максимальную компенсацию8. По мере истребления выдры добыча меха требовала все больших усилий и цены росли. Таким образом, и здесь можно видеть обмен стоимостями, определяемыми затратами труда, технологическими средствами производства и избытком либо недостатком ресурсов.
Мы проанализировали условия и обстоятельства, при которых происходит межплеменная меновая торговля. Но из нашего анализа никак не следует, что объектом бартера может стать любой предмет. Обмен совершается лишь в границах, установленных социальными и идеологическими (или духовными) ценностями конкретных групп. Чувства приязни или нерасположения, всякого рода табу и пр. нередко стимулируют торговлю или препятствуют ей. Какое-нибудь племя может высоко ценить перья попугая и не ставить ни во что перья голубой цапли, хотя и то и другое — большая редкость9; может дорожить говядиной и пренебрегать свининой. Трудовая теория стоимости не объяснит нам, что пользуется особым предпочтением, что отвергается, что встречает полное безразличие. Все это узнается не иначе, как эмприрически. Но коль скоро вещь ценится, меновая ее стоимость будет измеряться трудом, обусловленным, как мы неоднократно замечали, факторами технологии и природного избытка или изобилия.
Коммерческий обмен зарождается в сфере межплеменных или межгрупповых отношений на самых ранних этапах истории культуры. На протяжении всей первобытной эпохи происходил внутриплеменной обмен, ориентированный, однако, на отношения кровного родства, дружбы или гостеприимства. С образованием гражданского общества (под влиянием аграрной революции) и по причинам, о которых мы говорили выше, в качестве внутриобщностноге [intrasocietal] процесса утверждается коммерческий обмен. Великие культуры бронзы и железа отреагировали на это выделением профессионально-торгового слоя и созданием банковской системы, что в свою очередь, предполагает существование денег. Скажем несколько слов о возникновении и развитии этого великого орудия цивилизации. Возникновение и развитие денег. Практика прямого бартера, вполне подходящая для коммерческого товарообмена на начальной стадии культуры, становится неудовлетворительной по мере культурной эволюции. Она хороша до тех пор, пока обмен совершается непосредственно между «товаропроизводителями», а ассортимент товаров ограничен. На более высоком культурном уровне, и особенно с развитием внутреннего коммерческого обмена с относительно большим набором товаров, система прямого бартера становится весьма неудобной. Владелец товара не всегда может найти партнера, готового дать требуемый эквивалент10. Поэтому там, где торговый процесс не замирает на узкоспецифических формах, а получает, так сказать, обобщенное выражение — или, говоря иначе, там, где конкретная потребительская стоимость легко преобразуется в стоимость вообще, — коммерческий обмен становится намного выгоднее. В результате такой перемены и появляется средство обмена, т.е. денежное обращение.
Товар имеет две формы стоимости — потребительскую и меновую. Потребительская стоимость ожерелья из раковин есть то, насколько оно удовлетворяет нужду в нем как в украшении; потребительская стоимость бататов — то, насколько они служат утолению голода. Меновая же стоимость ожерелья или бататов есть то, насколько они способны диктовать условия обмена, назначать себе эквивалент в коммерческом процессе обмена (например, при обмене пяти единиц стоимости ожерелья на пять единиц стоимости бататов размер эквивалента определяется, как мы говорили, исходя из количества труда, необходимого для производства обоих товаров). Итак, мы различаем стоимость конкретную (т.е. потребительскую) и стоимость обобщенную (т.е. меновую). При прямом обмене (бартере) одна конкретная стоимость выменивается на другую. Но это, как мы уже заметили, процесс громоздкий и ограниченный, поскольку далеко не всегда налицо тот, кто готов обменять предложенный мною товар на приемлемых для меня условиях. С развитием же коммерческого процесса некоторые товары — конкретные потребительские стоимости — становятся формой и мерой стоимости вообще и как таковые функционируют в процессе обмена. Так, ожерелье из раковин, до того, как стало объектом коммерческого процесса, представляло собой потребительскую стоимость, но с этого момента оно становится формой и мерой стоимости вообще и в этом качестве легко и свободно выменивается на любой товар. Отныне каждый может обменять свой товар на такое ожерелье и, в свою очередь, использовать его для приобретения других товаров. Одним словом, потребительская стоимость попадает на рынок, обменивается на обобщенную стоимость, а та — снова на потребительскую стоимость, которая изымается из коммерческого процесса, приносится домой и потребляется либо используется, потребляемую или расточаемую. Процесс обмена приобретает обобщенное выражение; развивается денежное обращение. Хотя средства обмена и являются стержнем коммерческих отношений, это не значит, что механизм последних прост. Будучи достаточно сложным, он имеет ряд особенностей, определяющих как способ употребления, так и пути эволюции этих средств. Помимо их стержневой, или инструментальной, роли в обмене, они выступают еще и как мера стоимости. Когда хозяин товара выносит его на рынок и продает, т.е. получает за него то или другое количество обменных средств, последние обозначают стоимость проданного товара; стоимость же обменных средств будет, в свою очередь, соизмеряться с вновь приобретаемым товаром. Эти средства получают числовое выражение как столько-то единиц чего-либо: столько-то голов скота, столькото раковин каури, столько-то мер (допустим, унций) драгоценного материала (к примеру, золота). Средства обмена есть средства достижения известной цели, и они разнятся. В качестве эквивалента можно использовать множество предметов, из которых одни по своим характерным признакам способны служить мерой стоимости и стержнем коммерческого обмена лучше других. Средство обмена прежде всего должно быть — по крайней мере на раннем этапе развития торговли — потребительской стоимостью. Никто не станет менять ценную вещь на то, что не обладает ценностью. Поэтому и обменное средство должно иметь ценность, и это — главное требование к нему. Первые предметы, которым суждено было стать обменными средствами, представляли собой конкретные (потребительские) стоимости, т.е. могли удовлетворить какие-то человеческие нужды и требовали определенных затрат труда. С одной стороны, средство обмена должно обладать стоимостью и стоимость эта возрастает с увеличением трудовых затрат; с другой стороны, то, во что вложен труд, ценится постольку, поскольку удовлетворяет некие нужды. Одну из таких нужд и обслуживает средство обмена. Поэтому и в тех случаях, когда человеческий труд затрачен на получение или изготовление того, что служит обменным средством и только им, последнее обладает всеми реквизитами такого средства. В некоторых культурах бусы из тщательно обработанных раковин, имея все признаки средства обмена, используются лишь в этом и ни в каком ином качестве. Таким образом, можно выделить две разновидности средств обмена: 1) те, что, служа целям коммерции, удовлетворяют и иные человеческие нужды (например, какаобобы, вязанки необмолоченного риса, скот), и 2) те, что специально задуманы и изготовлены как средства обмена и выступают в этом качестве постольку, поскольку воплощают собой затраченный на них труд. Последняя разновидность является более совершенной и возникает позже. Следует, однако, иметь в виду, что основой и источником стоимости в обоих случаях является человеческий труд. Чтобы быть надежной мерой стоимости, т.е. орудием и выражением ее градуирования, обменное средство должно быть удободелимым или изначально выступать в виде малых единиц. Золото легко делится на мелкие части и столь же легко переплавляется в большие слитки. Умножая или сокращая количество раковин каури, мы легко выразим большую или меньшую стоимость. Вот почему наиболее распространенными средствами обмена становятся благородные металлы, раковины, ожерелья из звериных клыков и т.п. — то, что легко исчисляется и хорошо выражает различные уровни стоимости. Скот хорошо выражает относительно большие стоимости, но неудобен для малых, поскольку корову нельзя расчленить без ущерба для нее как единицы поголовья и единицы обмена. Для большей эффективности в коммерческих отношениях средство обмена должно быть компактным, т.е. удобным для перемещения и обращения. Вот почему здесь мало подходят такие вещи, как нескирдованное сено, слишком крупные камни или древесные стволы, и совершенно не подходит недвижимость — здания, живые деревья и т.п; напротив, скот, раковины, металл чрезвычайно хороши именно в силу их удободвижимости. Средство обмена должно быть достаточно прочным и не подверженным порче. Следовательно, здесь не годятся молоко, ягоды, яйца и т.п. И, наконец, ценность обменного средства должна выражаться и в его более или менее концентрированной форме. В этом смысле ожерелье из раковин предпочтительнее необработанного кремня, медь или золото надежнее глины, оленья кожа лучше строевого леса. И вместе с тем алмазы, будучи высококонцентрированным выражением стоимости, не подходят по причине их неудободелимости. Таким образом, мы видим, что обменное средство, дабы служить действенным и надежным инструментом коммерческих отношений, должно обладать целым рядом свойств и характеристик. Итак, самые разные виды потребительской стоимости в русле коммерческого процесса становятся средствами обмена. В Африке широко использовались раковины каури. На о. Лусон были распространены вязанки необмолоченного риса. Ожерелья из раковин имели хождение среди индейцев и белых колонистов Северной Америки, ожерелья из клыков — у меланезийцев. Ацтеки предпочитали мешки какао-бобов, медные топоры и мелкие золотые вещи. Во многих культурах в роли стоимостного эквивалента выступал скот: чаще всего крупный рогатый, — от латинского обозначения которого (pecus) происходит наше слово «денежный» (pecuniary),— а также козы и овцы. История свидетельствует о конкуренции множества самых разнообразных товаров, когда одни, обладавшие какими-то серьезными недостатками, постепенно вытеснялись как средство обмена более надежными и удобными. Разные средства имели и разные недостатки. Скот мало подходил для мелких расчетов изза его неудободелимости и довольно высокой вероятности падежей. Опасность потерь делала неудобными расчеты рисом и табаком. Ценность раковины не имела достаточно концентрированного выражения. Алмаз, обладающий высококонцентрирванной формой ценности, удобный в обращении и практически неуничтожимый, совершенно не подходил ввиду его неделимости. В этой конкуренции материалов благородные металлы, и прежде всего золото, заявили себя идеальным средством обмена. Золото, например, обладает и самостоятельной ценностью — как материал для ювелирных украшений, парадной утвари и других нужд (например, для зубного протезирования) и как воплощение человеческого труда. А поскольку добыча и обработка золота требуют больших усилий, оно обладает и высококонцентрированной формой ценности. Итак, удобное в обращении и перемещении, в любом количестве удободелимое и удобосочетаемое и, наконец, практически неуничтожимое, оно, при минимальных изъянах, обладало всеми признаками эффективного средства обмена. Разумеется, выделение и последующее торжество благородных металлов как средств обмена стало возможным лишь на соответствующем уровне технологического развития. Это не могло произойти до того, как успехи металлургии облегчили их выплавку. Но когда это случилось, благородные металлы (в первую очередь золото и серебро), а также более простые (такие, как медь, свинец и никель) фактически вытеснили все другие материалы. Как мы уже заметили, средство обмена и само должно быть определенной стоимостью — например, равняться тысяче раковин каури, саженной нитке раковин, корове и т.п. Такой же определимой и измеримой должна быть стоимость благородных металлов, утвердившихся в качестве эквивалента. Необходимо выяснить степень их чистоты, а затем установить с помощью системы мер и весов их количество. При первоначальном использовании драгоценных металлов как инструмента обмена, золотой песок измеряли в стандартных единицах, а о чистоте самородков судили на глаз или полагаясь на честное слово. Более широкое и интенсивное распространение металлов заставляет торговцев прибегать к особым печатям, удостоверяющим их чистоту. Так, тексты каппадокийского происхождения говорят о расчетах в металле «моего» и «твоего клейма». Образцы «клейменого свинца», часто использовавшегося при крупных платежах в 1400-х-1200-х. гг. до н.э., обнаружены на территории Ассирии. При раскопках на Крите найдены серебряные шарики с печатями, относящимися к XII в. до н.э. Эти металлические средства обмена взвешивались, по-видимому, при каждой операции. Следующим шагом в развитии денежного обращения стала чеканка монеты. Принято считать, что монетное дело зародилось около VIII в. до н.э. у лидийцев, в западной части Малой Азии. Первые монеты делались из электрона — естественной смеси золота и серебра, и чеканились поначалу с одной, а позднее с обеих сторон. Перенявшие это новшество (с VII в. до н.э.) греки Эгины, Коринфа и Афин использовали в качестве основного материала свинец. Сперва монеты взвешивались как слитки, но уже вскоре стали приниматься поштучно, с учетом номинальной их стоимости. Будучи поначалу делом отдельных граждан, купцов и ростовщиков, чеканка монеты быстро превращается в монополию государства. Однако на этом развитие монетного дела не кончилось. Если государство готово гарантировать ценность металлического предмета, используемого как средство обмена, то этому предмету незачем реально соответствовать той стоимости, которую он выражает номинально. Другими словами, монета может представлять некую стоимость, т.е. приниматься к уплате по этой стоимости, не содержа ее в себе реально. А это означает, что ей незачем быть из чистого золота или серебра. Золото, при всей его эффективности как средства обмена, — относительно мягкий и легко стирающийся материал, вследствие чего находящиеся в употреблении монеты из чистого золота недолговечны. Поэтому, при надлежащей гарантии со стороны властей, вместо чистых металлов целесообразнее использовать сплавы. Монеты из сплавов куда надежнее, а при верном обеспечении их реальной стоимости золотом они и принимаются по этой стоимости. Кроме того, уже в начальный период развития монетного дела мы видим замещение реальной стоимости монет знаками или символами. Такое замещение получает дальнейшее развитие с изобретением бумажных денег, когда в роли обменного средства выступает клочок бумаги. Не имея никакой самостоятельной ценности и будучи лишь символом реальной стоимости (золота или других драгоценных металлов), он, вместе с тем, принимается к уплате в соответствии с последней. Бумажные деньги изобретены в Китае, самое позднее — в Х в. н.э. Кроме бумажных, там имели хождение и кожаные деньги. Кожаные деньги выпустил в 1122 г. для своей армии и дож Венеции, пообещавший, что они позже будут приниматься к уплате наравне со звонкой монетой. Гарантия веса и чистоты металла публичной властью означает, что государство монополизирует чеканку и выпуск монеты, упорядочение денежного обращения и контроль над ним. Эта монополия имеет самое непосредственное отношение к той функции государства, в которой оно выступает как регулятор определенных экономических процессов, затрагивающих весь социальный организм — налогообложения, с одной стороны, и расходов на общественные нужды и общественные работы — с другой. В этой функции государство обязано компенсировать свои затраты новыми денежными поступлениями, что, как показывает история финансов, никак нельзя считать легкой задачей. Отсюда поистине хроническая забота государства об обеспечении налоговых поступлений в размере, позволяющем покрыть нужды и потребности такого рода. Контролируя чеканку монеты, государство обнаружило, что изменение ее стоимости позволяет сбалансировать доходы и расходы. Достигалось это посредством крупных займов в денежных знаках высокого достоинства и расчетов по ним в знаках низкого достоинства. Снижение стоимости, или обесценение (девальвация) денег — испытанный прием государства в сфере общественных финансов. К нему широко прибегали в Греции и Риме, и его же всегда держат про запас, на случай острой нужды, нынешние правительства. Деньги как сила и как процесс. Деньги возникли как средство обмена. А средства обмена первоначально были потребительскими стоимостями. Затем начался эволюционный процесс, т.е. смена форм во времени. Потребительские стоимости (зерно, топоры, скот и пр.) стали товарами; определенные товары (например, скот) приобрели новые функции и стали средствами обмена; одно из средств обмена выделилось и превратилось в деньги; и, наконец, золото было заменено в прямом употреблении и обращении знаками и символами. Развитие торговли, как всякий эволюционный процесс (например, совершенствование технологии или общественных отношений), имеет свою дифференциацию и специализацию. Процесс торгового обмена начинается исключительно с товаров, затем дифференцируется, оперируя частично деньгами, частично товарами. Дифференциация в самом процессе обращения товаров означает (равно как и вызывает) соответствующую дифференциацию в обществе. Подобно тому как специализация функций и дифференциация структуры в процессе совершенствования орудий труда вызывает соответствующую дифференциацию социальной функции, формируя профессиональные группы (от мастеров по металлу, гончаров, пивоваров и ткачей до слесарей-водопроводчиков), дифференциация коммерческого обмена также порождает соответствующее социальное расслоение. Когда деньги становятся отличными от товара, появляются и оформляются как класс собственники денег — банкиры. Банки возникают уже в Вавилоне — не позднее 2000 г. до н.э. Как отмечалось ранее, в этой роли выступали и храмы. В одном древнем документе говорится: «Мас-Шамах берет два шекеля серебра взаймы <...> у жрицы Солнца Амат-Шамах и уплатит причитающийся Солнцу процент. Во время жатвы он вернет займ вместе с процентом на него»11 . Уже в 575 г. до н.э. частные банки Вавилона выдают ссуды свинцовыми деньгами. Ранее упомянутый банк Игиби имел для своего времени такое же значение, как банк Ротшильда для Европы XIX в.12.
К IV в. до н.э. банки — как частные, так и государственные — появляются и в Греции. В Древнем Риме, где наряду с частными банками банковские функции выполняли и некоторые храмы, государственные банки отсутствовали. Владельцы денег практиковали ссуды под проценты. Процентные ставки разнились: в древнем Вавилоне запрашивали 20-25%, в городах Шумера — 15-33%. Законы Хаммурапи закрепляют ссуду из 20%. В Древней Греции ставки колебались от 12 до 24%.; в римских провинциях не редкостью были и 50-процентные ссуды. Ростовщичество имело важные социальные последствия. Отдельные ростовщики могли прогорать, но как класс они неизменно процветали. Основным побуждением к займу — не считая тех случаев, когда деньги одалживаются для учреждения промышленного или торгового предприятия — почти всегда бывает невозможность свести концы с концами в безжалостной, конкурентной и эксплуататорской социоэкономической системе. Когда идущий ко дну взывает о помощи, ему одалживают. Но осилит ли тот, кто в экономическом смысле уже достиг дна, кроме погашения долга еще и уплату процентов по нему— от 20 до 80? Очень часто сами обстоятельства, заставляющие людей прибегать к займу, заранее исключают всякую возможность погашения его на подобных условиях. В результате должник стремительно скатывается к самым нижним ступеням экономической лестницы и оканчивает либо полным банкротством, либо экономическим рабством в той или иной узаконенной форме. Итак, социальное следствие ростовщичества выразилось в том, что бедные стали еще беднее, а богатые — еще богаче. С надлежащими оговорками здесь уместно процитировать библейское изречение (употреблявшееся совсем в ином смысле и контексте): «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится; а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет» (Мф : 13, 12). Система займов под проценты вела к разделению общества на богатых и бедных, могущественных и слабых. Она была одним из средств концентрации богатства в руках немногих и к экспроприации большинства. Предпринимательская деятельность — будь то в сфере денежной экономики, в сельскохозяйственном или в мануфактурном производстве — тяготеет к подчинению и порабощению трудящегося класса. «Ассирия, например, — замечает Тернер, — была поначалу страной свободных сельских хозяев». Но с ростом городов и подъемом денежной экономики, продолжает он, сельское хозяйство все шире использовалось для извлечения прибыли. «Более высокие прибыли сулило использование в нем рабского труда <...> расширялось крупное землевладение, многие свободные крестьяне становились безземельными батраками [труд которых не мог конкурировать с рабским. — Л.Уайт} и росла численность рабов и крепостных»13.
В промышленном производстве деньги дают их владельцу возможность полностью контролировать положение. Они позволяют ему приобретать средства производства и покупать необходимую для их применения трудовую силу — будь то пленных рабов или наемных работников. Права собственности и финансовый контроль делают его и хозяином прибыли, извлекаемой из предприятия. Деньги — это сила, экономическое и политическое могущество. Это стоимость, концентрированное выражение человеческого труда. Богатство дает огромную власть над другими людьми. Его обладатель может присвоить источники существования, природные ресурсы и технологические средства производства. И он может — с помощью института рабства или системы заработной платы — принудить других работать на него и таким образом приумножать его богатство. Деньги ~ один из двух великих инструментов классовой дифференциации и классового правления; другим является физическое насилие. Развитие рынков и торговли. Пор, рынком мы понимаем место, куда люди в определенное время приходят для обмена товарами. Самыми первыми рынками были, как мы знаем, места, где встречались члены различных территориальных групп или племен. Такого рода межобщностные рынки появляются уже на самой ранней стадии культурного развития. Рынки внутренние, т.е. существующие внутри данных общественных систем, мы встретим лишь в более высоких культурах — на той стадии общественного развития, когда уже наметилась известная дифференциация социальной структуры и специализация функций вследствие эволюции технологических средств производства. Рынки были у ацтеков Мексики, у дагомейцев, ганда и других африканских народов, но на более низких стадиях развития культуры их не было. Рынок есть процесс превращения в общее того, что производится как частное, через механизм распределения и потребления. Он является средством установления связи между различными частями общества как специализированными структурами в процессе производства и сведения их в единое целое. В эволюции рынков и торговли можно видеть социальный процесс. Как и в любом процессе, присущем развивающейся культуре, мы обнаружим здесь дифференциацию структуры и специализацию функций. На первых порах каждый индивид выступает и как покупатель, и как продавец. Он приходит на рынок с собственным товаром, и в случае прямого обмена акт продажи им этого товара оказывается вместе с тем и актом приобретения другого. С появлением средств обмена как особого механизма коммерческих отношений происходит взаимообособление актов покупки и продажи; производство и продажа товаров как социальный процесс отделяется от их покупки и потребления. Параллельно с обособлением денег от товара происходит социальная дифференциация внутри самого коммерческого процесса. Становление и развитие денег как специального экономического механизма коммерческих отношений сопровождается становлением и усилением купечества как особого класса общества. Купец есть, так сказать, средство, или главная ось обмена во плоти. Он выступает как связующее звено между производителем, приносящим свой товар на рынок для продажи, и потребителем, приходящим туда, чтобы покупать; он являет собой как бы склад, куда продавец отдает на хранение свой товар и где последний хранится, пока не найдется покупатель. Одним словом, купец — важный инструмент координации и интеграции общества. Благодаря ему многогранный процесс производства увязывается с таким же сложным и многообразным процессом потребления. Он является ключевой фигурой в обменном процессе политического организма, т.е. государства. О значении этой функции купечества будет сказано позже. Как мы уже отмечали, экономические системы гражданского общества внеличностны, антигуманны и неэтичны, или, в переводе на язык человеческих отношений, безлики, бесчеловечны и безнравственны. И нигде эти качества не проявляются с такой отчетливостью, как на рынке и в сфере куплипродажи. В гомеровскую эпоху «самые крупные морские торговцы ... были и самыми крупными пиратами»; например, в «Одиссее» Нестор вопрошает Телемаха, кто он — купец или морской разбойник, будто речь идет о самых обыденных занятиях14. Финикийские торговцы во время своих путешествий похищали детей, «выгодно совмещая коммерцию с грабежом»15. «С глубокой древности до сравнительно недавнего времени люди, державшие в своих руках международную торговлю, были наполовину купцами, наполовину разбойниками»16. Торговец и пират, по наблюдению Ницше, «долгое время соединялись в одном лице», и «даже сегодня торговая мораль представляет собой не что иное, как мораль пиратов»17. Обман, плутовство, дезинформация и присвоение чужого — вот неизбежные спутники торгового процесса18 . Рынок — арена, на которой товары встречаются как соперники, каждый из которых желает заткнуть за пояс остальных. В процессе купли-продажи каждый продавец стремится получить за свой товар самую высокую цену, а каждый покупатель — уплатить за него как можно меньше. Коротко говоря, в этом процессе все определяется погоней за прибылью, а человеческим ценностям и добродетелям места нет. Здесь мы сталкиваемся со всеми видами надувательства: с обмером и обвесом, с подменой товара, подделкой документов, а при появлении денег — и с систематическим обсчитыванием.
Поскольку рынки — это общественные места, которым принадлежат публично-социальные функции, публичная власть устанавливает контроль над ними уже на самой ранней стадии их развития. В Мексике Кортес застал на рынках правительственных чиновников, проверяющих точность мер и весов и улаживающих возникающие там конфликтные ситуации. В Уганде те же функции выполняли специальные королевские уполномоченные, которые надзирали за порядком, налагали штрафы на его нарушителей и взимали 10%-ный сбор со всех продаж. Разделение труда и специализация усилий увеличивают эффективность производства и в результате экономят общественное трудовое время. В производственном процессе труд специалиста имеет куда большую отдачу, чем труд «мастера на все руки». Сто тысяч работников, разделенных на более десятка гильдий, каждая из которых занимается особым ремеслом, произведут больше валового продукта за единицу времени, чем те же сто тысяч человек, из которых каждый понемногу занимается всеми этими ремеслами. Разделение труда и специализация усилий означают, следовательно, повышение эффективности, экономию времени, рост производительности труда и увеличение общественного продукта, т.е. всестороннюю выгоду для общества. Торговцы — это специалисты, выполняющие особую функцию в обществе, и их деятельность имеет те же последствия, что и разделение труда и специализация усилий как таковые. Эти последствия — экономия времени и повышение эффективности совокупного общественного усилия. Подобно тому как отправление культовых функций одним или несколькими жрецами вместо многих тысяч мирян экономит общественное время, точно так же экономит свое время и силы общество, в котором несколько торговцев берут на себя заботу о распространении и обмене товаров. Каждый товаропроизводитель, вместо того чтобы охотиться за покупателем, и каждый покупатель, вместо того чтобы охотиться за производителем нужного ему товара, приходят к торговцу, продавая и покупая через него. Поэтому торговец является своего рода расчетной палатой между производством и потреблением. Выполняя в коммерческом процессе функцию кровеносных сосудов, он играет важную общественную роль, и эта роль связана с экономией совокупного рабочего времени общества. Где бы ни действовал купец, — на одном месте или в разъездах, — он одинаково успешно справляется с этой ролью. В первом случае он экономит время покупателя и продавца, обеспечивая место, куда можно прийти и с наибольшим удобством заключить сделку. Во втором случае (уже в качестве разъездного торговца), он экономит общественное время, освобождая покупателя и продавца от обременительных походов на рынок для любой мелкой покупки или продажи. Допустим, у каждого из десяти крестьян есть гусь на продажу, а путешествие на рынок с обратной дорогой отнимает полдня, т.е. пять человекодней. Купец же обойдет всех крестьян и купит десять гусей всего за день, сэкономив четыре человекодня общественного времени. Здесь мы подошли к самому интересному и важному. Торговец обслуживает общество, экономя его рабочее время. Но реальную выгоду от такой экономии получает не все общество, а лишь сам торговец, и именно это главнейшее обстоятельство часто упускается из виду. В самом деле, торговец может обслуживать общество лишь при определенном типе социальной организации. Он не создает этот тип социальной системы, поскольку он не причина, а ее порождение. С точки зрения общества, торговец — всего лишь инструмент экономии его времени и сил. По существу, эта экономия — заслуга не столько торговца, сколько самой общественной системы. Выгоды же из нее, как мы сказали, извлекает не общество вообще, а торговец в частности. Одним словом, здесь перед нами общественная функция, материальная выгода от которой принадлежит немногим. Итак, торговец достигает того, на что он не уполномочен общественной системой в целом. Поясним эту мысль следующим примером. Допустим, общество назначило Х нести вахту на месте пересечения автомагистрали и железнодорожных путей, чтобы предупреждать водителей автомобилей о приближении поездов. Этот Х — специалист в полном и буквальном значении данного термина: он выполняет особую социальную функцию, будучи живым выражением разделения труда в обществе. Он сберегает время шоферов, избавляя их от необходимости замедлять ход или хотя бы останавливаться, чтобы узнать, насколько безопасен переезд через рельсы. Более того, он сберегает людям жизнь и имущество. На подготовку и целесообразное использование этого специалиста общество затратило много времени, материальных средств и усилий других людей. В настоящем случае экономию и выгоды от услуг специалиста извлекает не он один, а общество в целом. Но окажись этот стрелочник в состоянии присвоить преимущества, извлекаемые из его услуг, он займет положение торговца, наживающегося на общественной функции. В чем же смысл этого особого положения торговца? Ответ ясен: он достигает своего частного благосостояния за счет общества. Утверждая это, мы не отрицаем, а, напротив, подчеркиваем общественный характер его функции. Не намерены мы и приуменьшать важность этой функции, — напротив, считаем ее ценной и очень весомой. Мы хотим лишь сказать, что с точки зрения общественной системы, торговец — не более чем орудие общественного процесса, а достигаемая с его помощью экономия обеспечивается определенным типом социальной структуры. Но экономия и выгоды, получаемые благодаря особой форме разделения труда и специализации функций, не возвращаются к своему источнику, т.е. к обществу, а уплывают в карман торговца. Следует оговориться: это не моральная оценка. Общество развивалось так, как оно развивалось, и не могло развиваться иначе. Мы не превозносим торговца за его услуги обществу, не порицаем его за присвоение плодов экономии и выгод, достигаемых всем обществом, а пытаемся лишь проанализировать торговый процесс и сделать его понятным. Функцию торговца в обществе можно сравнить и противопоставить другим общественным услугам — например, водоснабжению и ирригации, средствам связи, муниципальным и национальным железным дорогам и пр. Все это — общественные услуги; все это — средства, обеспечивающие жизнедеятельность общества, его кровеносные сосуды. Система водоснабжения и ирригации обычно (однако не всегда) действует как находящаяся в собственности всего общества. То же можно сказать и о почтовой системе. Телефон и телеграф могут быть и в общественной, и в частной собственности. Железные дороги нередко находятся в частной собственности, хотя и они могут быть собственностью государства и действовать как муниципальные и национальные. Как и все перечисленное, торговля есть общественная функция, но ее особенность в том, что торговец продает не столько услуги, сколько вещи. Обладание благами — непременное условие системы частной собственности. Поэтому за ним признается «право» продавать то, что находится в его собственности, и присваивать прибыль, извлекаемую из этой продажи. Почтовая служба доставляет корреспонденцию, и чтобы выполнить эту функцию, использует наемный труд. Но почтовые служащие и почтальоны не вправе присваивать выгоду, извлекаемую обществом из их услуг, — и не вправе потому, что они продали свой труд покупателю, предъявляющему вследствие этого все права на результат их труда. Наметившаяся кое-где тенденция к превращению железных дорог в частную собственность связана с тем, что их оборудование требует крупных капиталовложений, которые во многих случаях могут обеспечить лишь частные предприниматели. Купец всегда является на рынок с товаром, составляющим его собственность, и потому за ним признается право на всю прибыль. В настоящее время преобладает тенденция к общественно-государственному, а не частному регулированию и контролю все большего числа общесоциальных процессов, и полная реализация этой тенденции — вероятно, лишь вопрос времени. Присваивая выгоду от сбережения общественного времени и сил, купечество постепенно превращается в богатый класс. Конечно, то был удел далеко не каждого купца. Как и всякое ремесло, торговля сопряжена с риском. Товары могут быть отняты грабителями, уничтожены пожаром или морской бурей. Речь идет об общей тенденции, вследствие которой торговый класс как таковой, продолжая извлекать частную прибыль из своих услуг обществу, прибирает к рукам все большие богатства. Со временем к тем случайным рискам, которым подвергается всякий купец, добавляется риск лишиться своего достояния из-за конкуренции. Торговцы втягиваются в безжалостную борьбу, где сильный поглощает более слабых. Поэтому наряду с ростом богатств торгового класса мы наблюдаем и процесс их концентрации. Конкуренция в торговле неизбежно ведет к монополии. У торговцев был и другой путь к богатству, связанный с эксплуатацией рабского или наемного труда. На определенной стадии культурного развития крупный торговец мог нанять помощников или купить рабов, переложив на них все физические усилия по распространению товара. Труд рабов и наемников создавал стоимость, превышающую как расходы по их содержанию, так и денежное жалованье. Поскольку торговцу принадлежал и труд рабов, купленных в вечную собственность, и труд наемников, купленный за жалованье, он приобретал все права на результаты их труда, а так как результаты эти превышали возвращаемое рабам и наемникам в виде натурального довольства и денежной платы, то он вдобавок и наживался за их счет. Мелкий торговец, не имевший ни рабов, ни наемников, ни помощников, делал всю работу сам и никого не эксплуатировал. Напротив, крупный торговец, в прошлом использовавший рабский труд, а ныне имеющий в своем распоряжении сотни и тысячи более или менее низкооплачиваемых работников, является эксплуататором куда большого масштаба. Подытоживая все наши замечания об общественной роли торговца, надо выделить следующее: 1) торговец извлекает частную прибыль из общественной функции и, таким образом, наживает богатство за счет общества; 2) он наживает богатство и за счет эксплуатации рабского или наемного труда; 3) конкурентная борьба рождает тенденцию к концентрации торговли и торговых прибылей в руках постоянно сужающегося слоя монополистов. Вот почему торговля как социальный процесс имела двоякие последствия: концентрацию богатств, с одной стороны, и тенденцию к монополизации богатства и власти — с другой. Мы говорили уже, что оба вида торговли — внутри- и межплеменная — почти так же стары, как и сама культура. И потому естественно предположить, что та и другая растут и расширяются по мере общего развития культуры в целом и что в неолитическую эпоху, например, они имеют большее значение, чем в палеолитическую. Безусловно, есть множество свидетельств стремительного расширения объема и географии торговли в период аграрной революции. Великие караванные пути связывают Восточную, Центральную и Юго-Западную Азию; прокладываются торговые маршруты в средиземноморских, черноморских и даже североатлантических (у берегов Британии) водах, а сухопутная торговля, идущая по берегам Дуная, связывает Скандинавию с Левантом и Причерноморьем. Согласно Чайлду, в это время «бусы из восточно-средиземноморского фаянса, подобные тем, что были в моде около 1400 г. до н.э., достигают берегов Южной Англии», и «весьма вероятно, что к берегам Греции отправились взамен корнуэльское олово и ирландское золото. Датский янтарь наверняка попадал в Грецию и на Крит хорошо известным путем через Центральную Европу ...»19 . В ханьскую эпоху китайский шелк достигал Средиземноморья и морская торговля связывала Китай с Индией. Торговые суда египтян заходили на Крит и в сирийские гавани. В государствах Двуречья купцы стали очень влиятельной прослойкой еще до эпохи Хаммурапи. Обширную торговлю вели греки и римляне (между прочим, последние к I в. н.э. достигли Британских островов). Но самыми выдающимися купцами древнего мира были скорее всего финикийцы, усердно осваивавшие Эгейское и Средиземноморское побережье и основавшие свои колонии всюду, куда проникли — например, в Галлии и Испании и даже по ту сторону Геркулесовых столпов — на берегу Западной Африки.
Из-за преобладания царской власти и жрецов купечество не играло заметной роли в Египте, но в других регионах оно добивалось значительного влияния. Последнее особенно верно в отношении Двуречья — преимущественно Вавилона, где уже в III тысячелетии до н.э. сложилась мощная торговая олигархия, соперничающая с военной знатью и жречеством. Купеческая верхушка господствовала и в таких торговых центрах финикийцев, как Тир, Сидон и Библ. Как мы уже говорили, в крупных торговых регионах активно использовались многие юридические механизмы — например, контракты, заемные письма, арендные соглашения, лицензии и т.п. Купцы Средиземноморского региона практиковали отношения партнерства, позволявшие расширить сферу торгового влияния и обеспечить личную безопасность компаньонов. Компании с совместным капиталом были распространены в важнейших портовых городах Средиземноморья, а возможно и в Индии. В Китае предприниматели создавали ассоциации — как промышленные, так и торговые — под надзором властей. Распад родоплеменного общества сопровождался усобицами и насилиями. Разгоралась борьба за естественные ресурсы (особенно за плодородные земли) и за присвоение богатств, созданных чужим трудом. В атмосфере общественного хаоса и конкурентной борьбы к власти приходят военно-политические лидеры и жрецы: одни — благодаря физической силе, другие — используя свое религиозное влияние. Результатом этого процесса стало социальное расслоение и возникновение такого общества, где правящий класс имел монополию контроля над естественными ресурсами и средствами производства и монополию военно-политической власти, а на долю подчиненного класса оставался нескончаемый производительный труд, лишения и политическое бесправие. В эпоху расцвета великих городских культур древности сельское хозяйство было главной отраслью экономики; с завершением же аграрной революции возрастает роль промышленного производства. Первыми предпринимателями — как в сельском хозяйстве, так и в промышленности — оказались государство и жречество, но аграрная революция вызвала к жизни новый слой предпринимателей — гражданский и светский, быстро увеличивавший свое влияние. Постепенно права частной собственности распространяются и на землю, оказавшуюся объектом купли-продажи. Итогом промышленного роста стало развитие рынков и денежного обращения и колоссальное распространение торговли. Видное место в жизни заняли торговцы и банкиры, которые выделились в особый общественный слой и явились социальной проекцией специализации, присущей коммерческому процессу (первые — проекцией товаров, вторые — проекцией денег). В некоторых поздних культурах бронзы и железа они достигли громадного влияния и политического могущества. Расцвет великих культур эпохи аграрной революции был ознаменован войнами, захватами и империалистическими тенденциями. Социально-экономический рост при неравномерном распределении и ограниченности природных ресурсов усиливал международное соперничество и военное противостояние. Развал хозяйства, который несли с собой бесконечные войны и безжалостная эксплуатация населения завоеванных территорий, которое обращали в рабство и душили налогами и контрибуциями, неизбежно вел большинство древних культур к прогрессирующему упадку и гибели. Технологический прогресс в промышленности и военном деле, безусловно, способствовал созданию великих наций и империй. Однако политические системы, в которых находило выражение это культурное развитие, не были приспособлены к длительным периодам покоя, стабильности и мирного созидательного труда. Ориентированные на порабощение и эксплуатацию у себя дома и на завоевание и ограбление соседей, они истощали свою экономическую базу и разрушались. Последним этапом этого процесса стало падение Римской империи; оно завершило эру великих культур, рожденных аграрной революцией. Перевод Ю.С. Терентьева |